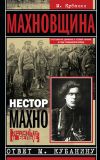Текст книги "Нестор Махно"

Автор книги: Виктор Ахинько
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 34 страниц)
Поспешность, с которой говорил Батько, насторожила Владимира Александровича. Он привык к основательности главкома Вацетиса, Дыбенко. Шустро соглашаются лишь неверные. Но страстность Махно, порывистость как будто убеждали в искренности.
– Нет, не плохо, – протрубил Овсеенко. – А вот что комиссаров арестовали – никуда не годится!
Он говорил ровно, без угроз, но Батько сразу, весь подался назад. Давно ждал этих слов. Молчал. Лебезить не хотелось, а возражать не стоило.
– Что же вы? – тихо спросил комфронта. – Если не можете их выпустить, то и меня посадите. Иначе я от вас не уеду.
Нестор Иванович был готов к любому обороту дела, даже самому пакостному, но чтобы так, почти просительно мог выразиться «Штык» – невероятно! Какой умный, порядочный. Махно тряхнул головой. Деликатность, от которой он давно отвык в мужских отношениях, сразила его.
– И наших же арестовали, – отвечал он тоже тихо. – В Екатеринославе, Харькове…
– Не будем торговаться, – строго перебил комфронта. – Всех надо выпустить, и точка. Не тот момент!
Он что-то записал в блокнот, попил узвару.
– Вы, говорят, тут республику задумали, Махновию?
– Если она объявлена в Крыму, чем мы хуже?
Ледок опять стал наползать, твердеть.
– Я не анархист в чистом виде, – продолжал Батько сиплым тенорком. – Я вольный коммунист, революционер, и только. У нас с вами даже волосы одинаковые!
Овсеенко засмеялся, встал, посмотрел пристально в глаза Махно. Комфронта знал, что его взгляд редко кто выдерживает. Может, потому и поперли подальше от столицы. Но Батько не дрогнул, уперся темно-карими зеницами в очки гостя, и так они некоторое время «ели», испытывали друг друга и остались довольны. Око, полагали, не обманешь.
Владимир Александрович еще посетил госпитали, поговорил с ранеными, а вечером в Харьков, красную столицу Украины, и в Москву полетела телеграмма: «Пробыл у Махно весь день. Его бригада и весь район – большая боевая сила. Никакого заговора нет. Сам Махно не допустил бы. Район вполне можно организовать, прекрасный материал… Карательные меры – безумие. Надо немедленно прекратить начавшуюся травлю махновцев».
Бригаде выделили два миллиона рублей и сто тысяч патронов, которые и получили помощник Батьки по «дипломатии» Алексей Чубенко и политком Михаил Петров.
В Киев, предсовнаркома Раковскому для Каменева.
Мы, несомненно, погибнем, если не очистим полностью Донбасс в короткое время. С войсками Махно временно, пока не взят Ростов, надо быть дипломатичным.
Ленин.
В раскрытое окно гостиницы врывалось яркое солнце, под ним искрилось Азовское море, и белым-бело вокруг: цветут каштаны, яблони, груши, пахнет майским медовым духом.
– Слышь, а в еврейской колонии Горькой – погром! Этого нам еще не хватало, – сквозь зубы процедил Батько, бросив трубку телефона.
Виктор Билаш покачал головой. В коридоре шумели командиры. Они собрались в Мариуполе, чтобы решить, как быть дальше. Против большевиков восстал атаман Григорьев и прислал секретную депешу:
«Мои войска не выдержали и сами начали бить чрезвычайки и гнать комиссаров… Меня объявили вне закона.
Пока на всех фронтах мой верх. Не пора ли вам, Батько Махно, сказать веское слово тем, которые вместо власти народа проводят диктатуру отдельной партии?»
Никто из собравшихся пока не видел этого атамана, хотя до последнего времени все числились в одной упряжке с Дыбенко. Чем дышит Григорьев и чего добивается? По убеждениям, если они у него есть, эсер. Воевать умеет, лихо взял Херсон, Николаев, Одессу. Получил орден Красного Знамени и звание начдива. Значит, большевики ему доверяли? Умеет запудрить мозги! А вот махновцам не позволяли переименоваться в дивизию, пока не приехал на днях в Гуляй-Поле личный посланец Ленина – Лев Каменев с Ворошиловым. Батьке тоже вручили орден' и торжественно обмыли его.
Да всё это – чепуха на постном масле. Когда собрались здесь в гостинице, Билаш видел, как побагровел и дергался шрам под левым глазом Махно. Его тревога понятна: Григорьев тоже лезет в тузы на Украине. В случае победы признает ли анархистов? Или обманет подобно большевикам в семнадцатом? Грех же не использовать такую редкую возможность объединения сил для святого дела. Ведь атаман не мыльный пузырь. Уже взял Екатеринослав, Кременчуг, идет на Киев!
– Но вы не скучайте, хлопцы. Тут и Каменев подкинул письмецо, – говорил Нестор Иванович. Шрам под левым глазом все дергался. – Отпечатано, видите, как листовка. Слушайте: «В лице Махно я встретил честного и отважного борца… Также открыто должен указать и на то злое и вредное, что мною замечено…»
– Ха-ха, Батько! Это же издевательство над собравшимися! – воскликнул член штаба, молодой и горячий Михалев-Павленко. Приехавшие вместе с ним с севера анархисты тоже зашумели. – Наш общий недруг нацепил тебе орден и уже учит. Разделяешь его мысли? Скажи открыто, честно!
«Как бы ты поступил на месте Махно? – прикидывал Билаш. – В чем его секрет?
Военными операциями против Шкуро он не руководил. Моя заслуга. А смог бы я стать вождем? Что в том хитрого?» Он видел не только достоинства – и выверты Нестора, например, попойки. Но каждый раз, когда возникал конфликт, подобный этому, Виктор чувствовал, что вряд ли управился бы так ловко, тонко, а где и грубо, цинично. Григорьев предлагает союз. Каменев льстит, наверно, с согласия Ленина и требует своего. А тут еще чужаки путаются под ногами.
Этот клубок противоречий Билашу не дано было размотать. К тому же недавно встретил Махно с литератором Гроссман-Рощиным и анархо-чернорабочими из Москвы Соболевым, Глазгоном, другими. «Прибыли на подмогу Левке Зиньковскому в мариупольскую контрразведку, – весело сообщил Батько. – По секрету тебе скажу: Рощин – авторитет и вроде… агент ЧК». – «Даешь!» – смутился Виктор. «Ничего, хай и в Кремле знают истину!» Вспомнив об этом, Билаш покачал головой и усмехнулся с горечью.
– Что слюни распустил, сволочь? Исповедовать задумал! – зло резанул Нестор Иванович, исподлобья глядя на Михалева-Павленко. – Мой орден тебе не нравится? А я еще одну телеграмму получил: «Гуляй-Поле – Махно по нахождению… Немедленно выпустите воззвание против Григорьева, сообщив мне копии в Харьков. Неполучение ответа буду считать объявлением войны… Каменев».
Все примолкли. «Не хотел бы я быть на его месте, – подумал Билаш. – Отказать Григорьеву легко. С кем брататься? Поодиночке всех передушат. Вишь какой тон!»
– Вот в какой я с ним дружбе, – помягче обратился Батько к Михалеву-Павленко. – Войной грозит, барин. Давайте вместе обмозгуем.
Этот внезапный переход от резкости к согласию, готовность все решать сообща разрядили обстановку.
– Мое мнение такое, – закончил Махно. – Послать к Григорьеву наших доверенных. Бумажки бумажками, а глаз да ухо вернее. Как говорится, не тому печено, кому речено, а кто пирожки кушать будет.
Он явно хотел выиграть время. Но поднялся начальник штаба, левый эсер Озеров.
– Мы должны поддержать Николая Григорьева! Словом и делом. Мы же, эсеры, с вами в союзе, – он достал бумагу. – Это «Универсал» партизан Херсонщины и Таврии. Послушайте:
НАРОД УКРАИНСКИЙ, НАРОД ИЗМУЧЕННЫЙ
… Ты оставил соху и станок, выкопал из земли ржавую винтовку и пошел защишать право свое на волю и землю, но и здесь политические спекулянты обманули тебя: насильно навязывают коммуну, чрезвычайку и комиссаров с московской обжорки. У этой земли, где распяли Христа…
– Запахло антисемитизмом. Не находишь? – тихо спросил Лев Зиньковский Билаша.
Тот шепнул в ответ:
– Похоже.
А Яков Озеров продолжал чтение «Универсала»:
– «Вот мой приказ: в три дня мобилизуйте всех, кто способен владеть оружием, и немедленно займите все станции. Лучших бойцов пошлите на Киев… Все остальное сделаю сам».
– Выход один: помирить Григорьева с большевиками, – предложил Алексей Чубенко. – Зачем проливать братскую кровь?
Его поддержали другие. Тогда Махно сказал:
– Вот ты, Алексей-дипломат, и возглавишь делегацию.
Слово взял Билаш:
– Григорьевщина вонзила нож в спину большевикам, и не сегодня-завтра он коснется и нас. Это не иначе как контрреволюция! Нужно оружием протестовать!
Послушав всех, долго ломали головы: что же ответить Каменеву? Остановились на таком (понятно, от имени Батьки):
…«Я и мой фронт остаемся неизменно верными рабоче-крестьянской революции, но не институтам насилия в лице ваших комиссаров и чрезвычаек… Сейчас у меня нет точных данных о Григорьеве, поэтому выпускать против него воззвание воздержусь».
Как раз когда передавали текст, Махно и сообщили о еврейском погроме в колонии Горькой. Тут же назначили комиссию для расследования. В нее вошли экспедитор газет Петр Могила и помощник Билаша Иван Долженко.
– Возьмите эскадрон и остерегайтесь. Дело пакостное, – напутствовал их Виктор.
А Батько добавил:
– Самым жестким образом, показательно накажите виновных! А мы в Бердянске поглядим на новые полки.
«Железный он, или бешеная кровь угомонилась? – удивился Билаш. – Сколько нервотрепки, а ему хоть бы хрен по селу!»
В Бердянске смотрели парад пехотного и конного полков. Порадовались – добрая подмога. Но по отдельным репликам в адрес евреев, ехидному смешку чувствовалось, что и тут веет антисемитизмом. Не от григорьевского ли «Универсала» ветерок?
Когда вечером члены штаба шли в гостиницу, встретили двух подозрительных типов с винтовками и узлами.
– Стой! – крикнул Махно. Те бежать. Не долго думая, он выхватил наган и застрелил неизвестных.
– Ану, что там? Развяжи, – велел Максу Чередняку, парикмахеру из Гродно, а ныне начальнику местной контрразведки. В узлах оказались платья, женские панталоны, детское белье.
– Мародеры. Туда им и дорога, – заключил Чередняк. Махно зыркнул на него искоса. Макс вежливо осведомился:
– Что-то не так?
Нестор Иванович не ответил, и они вошли в гостиницу. В ресторане был накрыт банкетный стол. Постарался начальник гарнизона Семен Каретник, даже красоток пригласил. Все много пили, кричали тосты, пошло танцевали. Смуглая полуголая девочка вспрыгнула на стол, запела:
Эх, махнов-чики
Славш хлоп-чики,
Потопилися у мор!
Як гороб-чики.
Батько смотрел на нее хмуро. Девица постучала каблучками по блестящей полировке банкетного стола и затянула новый куплет:
Ты бесстыдник, ты срамник,
Всё целуешь в личико,
Мой любезный большевик.
А я – меньшевичка!
Болезненно нахмурясь, Нестор достал из кобуры наган и бабахнул в потолок. Девчонку словно ветром сдуло. Все замерли. Еще несколько раз грохнуло. Звенел хрусталь люстры, сыпалась штукатурка. К Батьке подошел здоровяк Василий Куриленко с забинтованной шеей, кстати, тоже награжденный орденом Красного Знамени за первое взятие Мариуполя. Он легко поднял Нестора и унес в номер. Там отобрал оружие и уложил в постель.
Видя такое, Билаш попрощался и уехал в свой штаб в Волноваху. Теперь, поскольку они назывались уже дивизией, он командовал одной из трех бригад. В пути думал с сожалением: «Да-а, и Махно сорвался, не железный. Все мы держимся на пределе». Из темноты полей несло свежестью молодых хлебов, росы. Стоял благодатный, с дождиками май, и казалось нелепостью, что люди воюют, режут друг друга, как в той колонии Горькой.
Виктор как-то был там проездом. Балка припомнилась, вроде Соленая, и вдоль нее два ряда мазанок, кирпичная синагога, баня под соломой. Он еще спросил тогда: «А кто в этой хате живет, что окно заткнуто тряпками?» Ответили: «Сапожник». – «А в той, рядом?» – «Тоже». – «Сколько же их тут?» – «Пятеро. Есть также двое портных, три торговца и стекольщик на сорок четыре хозяина. И конокрады водятся».
Подобных еврейских поселений на восток от Гуляй-Поля было с десяток. Издавна руководили ими немцы-мустервиты, то есть показательные хозяева. Но их роль повсюду, кроме цветущего Златополя, всё слабела, наделы обрабатывались через пень-колоду, и в соседних украинских, греческих селах, хоть и пользовались услугами сапожников, портных, а все равно косо поглядывали на заросшую бурьянами землю.
В Пологах Билаш со спутниками только собрались пообедать, как вошли Долженко с Могилой.
– Мы прямо из Горькой, – доложили. – Там был страшный суд!
Ночью из села Успеновки прискакал в колонию отряд, двадцать два пьяных хлопца. Окружили дома, схватили самоохрану, всех, кто попал под руку, и потащили в Совет. По дороге кричали: «Пахать не хотите, курвы!», «Зерно, мясо, кожи за бесценок скупаете! Барыш гребете!», «В чека хто? Москали та жиды! В продотрядах хто?» Сначала били, потом, распалясь, рубили, стреляли, насиловали девчат, женщин.
– Когда уцелевшие заметили нас, – дрожащим голосом рассказывал Петр Могила, – выбежали за околицу. Старики, дети падали на колени, умоляли: «Спасите или всех добейте! Нет терпения! Нет сил!»
Петр всхлипнул. Комок подступил к горлу Билаша, он крякнул. Тогда заговорил Иван Долженко:
– В центре колонии мы насчитали двадцать четыре трупа. Другие валялись по огородам, во дворах. Не просто убитые – изуродованные. Страшно смотреть. Стон, плач…
– Где головорезы? – спросил Виктор.
– Мы всех взяли, – продолжал Петр Могила, икая. – Они протрезвели, не сопротивлялись… Сидят под охраной вон на подводах… Тоже плачут и ждут возмездия… Еле довезли. Хотели порубить на куски.
– Зачем опять произвол? – сказал Билаш. – Тут члены пологовского Совета, мы с вами. Кто за смертную казнь? – и первым поднял руку.
Погромщиков с приговором и охраной отправили в штаб дивизии, в Гуляй-Поле, а Виктор, Иван и Петр поехали дальше – в Волноваху. Пригревало майское солнце, всюду зеленели хлеба. Навстречу то и дело попадались усталые, оборванные красноармейцы. Многие босиком.
– Чьи вы? – спрашивал Билаш.
– Южный фронт. Девятая дивизия.
– Откуда бежите?
– Из Юзово. От Рутченково. Деникин прёт! А у нас ни жратвы, ни патронов, – отвечали отступающие. От их вида, от этих слов с северным аканьем веяло полной безотрадностью. Ну что они здесь ищут, что потеряли? Встревоженный прорывом белых, Виктор был уверен, что его полки выстоят. Им пятиться некуда: в тылу родные хаты, жены, дети.
Проехали немецкую колонию с добротными домами из красного кирпича, с железными крышами.
– Хозяева, – похвалил Долженко, – не то что мы – под соломой да камышом ютимся.
– А махновия, когда беснуется, ничего не разбирает! – выпалил Могила.
– Мели, да не забывайся, – предостерег его Билаш.
– А вы послушайте. Недавно Федя Щусь собирал контрибуцию. Может, и в этой колонии. Нет, в Яблуковой.
Немцы говорят: «Найн денег. Уже все забрали». Он арестовал восемь зажиточных заложников и… в штаб Духонина отправил.
– Сами виноваты. Брехали ж, наверно? Германец без копейки не живет, – заметил Иван и чихнул. Автомобиль притормозил на ухабе – пыль накрыла пассажиров.
– Хай и так, – согласился Могила. Он худенький, верткий. – Но зачем же самосуд устраивать? Чтобы нас всех бандитами называли? Уже квакают. Правда, за глаза. Но на том дело не кончилось. Немцы возмутились и решили убить Махно. Раз он вождь – за все грехи отвечает. Потянули жребий, выпало двум ехать в Гуляй-Поле. Сели на добрячую бричку и вперед!
– Сочиняешь, корреспондент? – не поверил Долженко. – Я не слышал.
– Могила не врет, – мрачно сострил Петр. – Катят они по Махнограду, а бричка-то заметная. Не учли. Ага. Мой тезка Петя Лютый как раз дежурил по штабу. Кивает часовому: «Ану, задержи». Тот побежал: «Стой! Стой!» Немцы-мстители наутек. А у штаба пулемет же всегда наготове. Чесанул по ним. Колонисты спрыгнули с брички, залегли за деревом, отстреливаются. Тут хлопчик шел по улице. Ни сном ни духом ничего не ведал. Ваня Деревянко. Наш сосед. Его и ухлопали.
– У-ух и глупость! – Билаш даже привстал на сиденье.
– Этим же не кончилось, – продолжал Могила. – Федя Щусь по собственной инициативе берет отряд и в Яблуковую. Проводит следствие. Кто тянул жребий, чтобы убить Батьку? Ага, почти тридцать человек. Идите сюда, голубчики. Арестовал, посадил в сарай… и запалили.
– Ну-у, произвол, – скрипнул зубами Долженко.
– А вы, Виктор Федорович, говорите, какая махновия, – Могила повернулся туда-сюда, ущипнул себя за ус. – И что же было за это Феде? Да ничего!
– Нет, я видел, как Батько его лупасил. По морде, по ребрам! – сказал Билаш.
– А люди-то тю-тю! – не мог успокоиться Петр.
Показалась Волноваха. В редкой посадке акации, на молодой траве, ютились какие-то бездомные с узлами, детьми. Много их было и у насыпи железной дороги, на перроне.
– Беженцы со всего свету, – вздохнул Иван Долженко. – У наших кухонь кормятся.
Он повернулся, ткнул пальцем в грудь Могилы.
– Колонисты их тоже снабжают. Ты пописываешь в газетку. Черкни.
Приехали в штаб бригады. От крыльца бежал часовой.
– Вас Махно на проводе ждет!
Виктор Федорович записал сводку, из которой узнал, что против Григорьева большевики бросили крупные силы, снятые с фронта, и уже освобождены Екатеринослав и Кременчуг.
– Успеновские погромщики расстреляны, – продолжал комдив. – Но это не все. Когда мы возвращались из Бердянска, на станции Верхний Токмак лозунг: «Бей жидов, спасай революцию! Да здравствует Батько Махно!» Спрашиваю: «Кто вывесил?» Оказалось, комендант. Сволочь такая, парень был хороший. Давно его знаю. Да и ты помнишь. А пришлось коцнуть.
«Да-а, – подумал Билаш, – жизнь-копейка».
Беленький с черными ушками поросенок, повизгивая, удирал со всех ног. За ним гнался шебутной и необидчивый Василий Данилов. С кавалерийской наукой он не поладил: никак не мог отличить подпругу от тренчика и прибился к своим артиллеристам. То снаряды им доставал, то панорамы. Где украдет, где выпросит. Однажды даже у кадетов «одолжил».
Ехал себе и заблудился. Какая-то мечта взяла. Вроде бы все вокруг нездешнее. И конь – не конь, а жар-птица. Вот что-то такое смутное, приятное наплывало. Глянул Вася… Мать твою! Куда попал? Белые спрашивают: «Из обоза, крыса?» – «Оттель. На позицию снаряды требуют». – «Ну бери». Он и привез гостинец прямо в руки командиру дивизиона, тоже Василию, Шаровскому. Тот, паршивец, и не удивился.
Поросенок устал. Вася протянул мешок, чтоб схватить его, перецепился и растянулся в дворовой пыли. Все, кто наблюдал эту сцену: раненые из госпиталя, Маруся Никифорова, хлопцы из новоприбывшего отряда Шубы и Чередняка – хохотали. А Данилов, как ни в чем не бывало, устремился опять за детенышем хрюшки.
– Саблей его, кузнец! Из гаубицы пальни, Вася! – шумели зеваки.
Маруся не выдержала, кинулась помогать, но поросенок шустро протиснулся в щель и скрылся за забором.
– На что он тебе? – спросила Никифорова. Голос у нее грубоватый, контральтовый и губы не цветочек, хотя и подкрашены.
– А батьке Правде на свадьбу, – бойко отвечал Василий. Их обступали. – Не слыхала разве? Он женится. Притом срочно!
Многие ждали, что еще отчебучит кузнец.
– На ком женится? Поди, бабку приворожил?
Маруся подбоченилась, подчеркивая свою гибкую, кошачью стать и налитые груди. Тут краем темного глаза она заметила, что мимо семенит Галина Кузьменко: вся подобранная, строгая, в белой кофточке с украинским орнаментом и плисовой юбке. Учительша, видите ли, жена Батьки. Недоступная, в пенсне – куда там! Маруся даже не повернула головы и не поздоровалась.
– Э-э, нет. Какая бабка? Он же втюрился в Мотрю – дочь Воздвиженского кулака Хохотвы, – увлеченно плел дальше Василий. – Ух и девка! Кровь со сметаной и с малиной вдобавок. Взял батько Правда сватов, Омэльку да Чалого, и подались. Невеста, и козе понятно, спряталась. Сидит в кладовке ни жива ни мертва. Шутка ли, безногий жених! Но хлопцы у батьки быстрокрылые, почти жар-птицы, нашли Мотрю, одели в белое…
– Сами? – не поверила Маруся.
– А кто же? Кинули ее на тачанку и бегом в хутор. Гулять так гулять! Кучер у Правды, вы же видели, сокол. Глоба фамилия. Глазом мало-мало косит и ухо разрублено. Неважно. Понравилась ему Мотря. Он ей и шепчет: «Я батьку накачаю. А ты лезь под стол и тикай!» Ну, врезали крепенько. Правда, всем известно, не любит самогона. Заснул. Просыпается… А горлиночка тю-тю. Испарилась. С испугу залезла в соломотряс молотилки.
– Ты что, рядом был? – подзадорила Никифорова. Зеваки улыбались.
– Всё обшарили хлопцы – словно в воду канула, – продолжал Василий. – Погоревали и подались похмеляться. Для них же я и ловил порося!
– Куда они подались? – еще спросила Маруся.
– В Святодуховку вроде.
– Брось трепаться! – раздался окрик. Увлекшись, они не заметили, как подошел Петр Лютый. – Там, под Святодуховкой, сейчас Шкуро дорубает наш сводный полк, а вы ха-ха-ха.
Теперь только Никифорова увидала, что всю площадь запрудили тачанки с пулеметами. С другого конца наезжала охранная сотня.
– Что это значит? – встревожилась Маруся. Лютый не отвечал. Будучи адъютантом, он также командовал гуляйпольской контрразведкой, и его побаивались. Никифорова, однако, никого не праздновала.
– Почему молчишь? Аль каверзу готовите?
Верхом подъехали Батько, Билаш и какой-то неизвестный.
– Слушай сюда! – крикнул Махно. – Повстанцы Шубы и середняка! Ваши атаманы отказались идти на фронт. Поэтому немедленно сложите оружие. Иначе открываем огонь. Даю пять минут!
Маруся подбежала к нему, дернула за стремя.
– Вы с ума сошли! Это же наши братья-анархисты. Они подчиняются не вам – секретариату «Набата».
Среди новоприбывших повстанцев поднялся шум, мелькали винтовки. Раненые, что сидели на лавочке у госпиталя, попрятались. Видя, что Нестор и не собирается отвечать ей, Маруся кинулась в гущу мужиков, хватала оружие, кидала на землю, приказывала:
– Выполняй! Выполняй!
Кто-то ударил ее по голове, другие толкали, ругались, хохотали. Батько смело въехал в толпу, за ним Билаш и неизвестный.
– Кавалерия Шкуро разорвала красный фронт и прет к нам, – заговорил Махно негромко. – Ее встретил доблестный греческий полк. Защищая свои хаты, он уничтожил не меньше тысячи белоказаков, но и сам полег. Мы спешно кинули туда сборный полк заслуженного анархиста Бориса Веретельникова. Он окружен и бьется до последнего патрона. Больше! – голос Нестора Ивановича окреп. – Больше у нас никого нет! Только вы. Гуляй-Поле открыто врагу. Хотите, чтоб всех порубили?
Повстанцы угрюмо притихли.
– Я знаю: вы под крылом конфедерации «Набат». Приехал ее представитель из Харькова. Вот он, среди вас – Марк Мрачный.
Тот поднял руку.
– Прошу внимания! Приказ Батьки нужно выполнить. Иначе всем крышка!
– А где Шуба? Живой?
– Дэ Чэрэдняк? Вы йих тоже заарэштувалы? – кричали повстанцы.
– Они свободны! Даю слово! – ответил Махно и уехал в штаб.
Никифорова поспешила туда же. Она не могла быть в стороне. Московским судом ей запрещалось в течение полугода занимать командные должности. Но во время визита Каменева в Гуляй-Поле Мария упросила особо уполномоченного смягчить приговор, и во ВЦИК полетела телеграмма: «Предлагаю за боевые заслуги сократить наполовину приговор Маруси Никифоровой… Решение сообщите ей и мне. Каменев». Ответ пришел положительный, но Батько был неумолим: «Занимаешься милосердием в госпиталях и детсадах? Там и сиди. И только!»
Он помнил ее еще по диспутам в Александровске в семнадцатом году: сильный, страстный голос, горящие глаза, убежденность, логика. В этих краях не было равного ей оратора. Помнил, как эсеры и меньшевики, правившие в Совете, посадили Никифорову в тюрьму и толпы рабочих пришли со знаменами, освободили ее и на руках, передавая друг другу, триумфально несли по улице! Кого так величали? Кто создал первые отряды «черной гвардии»? Маруся!
Но Махно не забыл и другое. Ее гонористость, похвальбу тем, что сагитировала братишек в Кронштадте идти против Керенского, что видела Японию, училась в Париже у какого-то скульптора Родэна. Ее жестокость даже там, где могло быть прощение. Она с легкостью, без всякого суда или хотя бы разбирательства, пускала пулю в лоб пленного офицера. Более того, заправляя отрядом матросов-террористов-безмотивников, лично пытала кадетов. А это, полагал Нестор Иванович, совсем уж не бабье дело.
В гостиницу, где располагался штаб, Маруся вошла вслед за Петром Лютым. В просторном холле со скрипучим полом стояли атаманы разоруженных повстанцев – Шуба и Чередняк. Махно тряс перед их носами какой-то бумагой.
– Бачытэ чи ни? – спрашивал со злой иронией. – Это мне вчера передал не кто-нибудь, а белый генерал Шкуро! Секретное послание. Называет меня тут, и себя тоже, «простым русским человеком, быстро выдвинувшимся из неизвестности, незаурядным самородком». Вы тоже такие? Верно или нет? А-а? – атаманы стояли, потупившись. – На днях он с радостью узнал, пишет, что я одумался и с доблестным Григорьевым объявили лозунг: «Бей жидов, коммунистов, комиссаров, чрезвычайки!» Мы, кубанцы, утверждает Шкуро, тоже за это. Давайте дружить. А-а? Вы не прочь с ним обняться, поцеловаться?
– Что ты кипятишься, Батько? – миролюбиво сказал Чередняк. Он среднего роста, плотен, по-крестьянски нетороплив. – Мы же все анархисты. Чи хто?
– Сволочь ты! Видишь, что гибнем, и не хочешь помочь, – отрезал Махно. – Ваши отряды сдали оружие. Идите к ним и катитесь отсюда в конфедерацию «Набат» или к е… матери!
– Как… сдали? – не понял другой атаман, Шуба. Настоящая фамилия его была Приходько. На взгляд Марии, он более интересен: высок, в офицерском кителе и галифе, грудь атлета.
– А так. Нет больше ваших сил, – Батько повернулся и зашагал к себе в кабинет. На ходу добавил: – Гони их, Петя, д-дураков!
Никифорова протиснулась к огорошенным атаманам.
– Эх вы, безрогие волы! – пристыдила. – Ждете кадетов, чтоб шею в ярмо сунуть. Бегом к людям!
Шуба сверху вниз уставился на нее, и Маруся почувствовала мужской интерес. Ее давно уже по-настоящему это не волновало. Вокруг вертелись сотни крепких, оторванных от семьи, жадных до ласки самцов. Были красавцы и уроды, великаны и наглые коротышки, лукавые и деликатные – какие хочешь. И она с некоторыми спала. Но все это – мелочь, летело мимо тополиным пухом, не трогая сердца. А оно ныло, жаждало. Потому в пьяном угаре и пытала молоденьких кадетов, потому бабы и считали ее ненормальной.
В камере московской Новинской женской тюрьмы их сидело тринадцать. Заводила, тоже прощенная висельница, организовавшая их побег, эсерка Наташка Климова с темной прической и голубыми глазами (Родэн говаривал, что древние римляне ценили, наоборот, светлые волосы и темную радужку, а если у собак встречался такой окрас, как у Климовой, то их убивали, считая неверными) кричала Марусе, рассердясь: «Ты гермафродитка!»
Что было, то было. Да сплыло. Для нее даже Батько не существовал как мужчина: малый, гонористый, чужой. И лишь минувшей зимой в Москве, после советского суда, на конспиративной квартире анархистов, которую купили на имя Никифоровой в Глинишевском переулке, она встретила наконец желанного, долго-долго жданного. Его звали необычно – Витольд Бржостэк. Редкий, крупный человек. Поляк, анархист-террорист, забубенная голова. Перед ним и только перед ним она почувствовала себя беззащитной девчонкой. Где он теперь, милый, скитается?
Марк Мрачный тоже не пошел с атаманами, о чем-то тихо переговаривался с Петром Лютым. Никифорова собралась уже в госпиталь, когда Марк окликнул ее:
– Пляшите, Маруся!
Она с недоумением уставилась на него. Что за шутки? К чему такая фамильярность? Они едва ли знакомы, где-то встречались случайно. Мрачный, однако, продолжал, загадочно усмехаясь:
– Со мной приехал… Никогда не угадаете… Ну, ну! Он ждет вас…
– Поди, Витольд?! – воскликнула Маруся.
– Точно. Пляшите, а то не покажу!
В это время в холл скорым шагом вошли атаманы и, скрипя половицами, направились в кабинет Махно. Лютый, Никифорова и Мрачный поспешили за ними. Не терпелось узнать, что же решили повстанцы. Ведь Шкуро, может, за околицей уже!
– Извини нас, Батько, – попросил Чередняк. – Черт попутал. Едем на фронт! Давай диспозицию!
Махно сидел за столом, что-то писал, наконец поднял усталые, в тоске, глаза.
– Вот что, Наполеоны. Слыхали: двадцатитысячное войско Николая Григорьева большевики распушили за Две недели. Почему? Ану раскиньте свои полководческие мозги. Взял Херсон, Николаев, Одессу, французов, греков разогнал с их миноносцами. Сила! Почему же теперь рассыпался, как карточный домик?
Все молчали. Ответить было непросто.
– Потому что у нас, хохлов, особенно у тех, кто хоть сотней командует, – полная ж… гонора, – сказал Батько. – Из-за таких, хлопцы, не видеть нам свободной Украины, як своих ушей. Ух, боюсь – не увидеть!
Атакой новоприбывших повстанцев, бронепоезда «Спартак» и отступившего с севера махновского полка Шкуро опять был отброшен.
А красный Южный фронт между тем под мощными ударами деникинцев разваливался на куски.
Войдя в салон-вагон, Коллонтай не узнала Троцкого. Впервые она увидела Леву еще в пятом году, когда тот звездочкой засветился в петербургском Совете: молодой, напористый, в сером костюмчике, свой человек среди простого люда. Затем они не раз встречались в эмиграции, спорили в Совнаркоме после переворота. Их сближало, как наивно надеялась Александра Михайловна, что бросили имущий класс (отец Левы тоже владел имением на юге Украины), что были меньшевиками и по-настоящему образованными среди напористых выскочек, что хватило здравого смысла уйти к большевикам, к Ленину и что стали наркомами. А потом их пути разошлись. Она уехала с Дыбенко, а Лев Давидович как председатель Реввоенсовета укатил на Волгу. Кажется, что там год? А сколько великих событий!
Теперь поезд Троцкого стоял в Харькове. Сюда же после ужасной командировки в Донбасс возвратилась Александра Михайловна. Ее, однако, не пускали в салонвагон председателя. Какие-то молодчики в черной коже с ног до головы (Боже, как им не жарко!) охраняли состав с двумя паровозами.
– Я Коллонтай! – рассерженно говорила она.
– Ну и что? – нагло удивился один из них и позвал горласто: – Эй, Леймонский, бегом доложи дежурному. Некто Коллонтай прибыла.
Месяц тому ее вызвали из Крыма на профсоюзный съезд. К этим делам она в сущности не имела никакого отношения. Но осточертела война, рычащий Дыбенко, захотелось новых встреч, впечатлений. А в Харькове на стенах висели расклеенные агитаторами портреты Ленина, Свердлова и… надо же, ее тоже! Александра Михайловна стояла на первомайской трибуне, печатала статьи в местных «Известиях», ее узнавали на улице. А эти кожаные дебилы словно с луны свалились!
Убранство салон-вагона, куда ее, наконец, пропустили, еще более поразило. Вокруг голод, мешочники, разруха. Тут же… бархатные кресла и диваны, в резных рамах зеркала, ковровые дорожки, инкрустированные телефоны. И среди всего этого – народный трибун Троцкий!
– Рад видеть, дорогая Александра Михайловна, – вежливо сказал он, пожимая ее руку и холодно поблескивая стеклами пенсне.
– Чем-то старым запахло, – не осталась и она в долгу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.