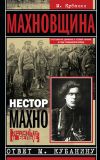Текст книги "Нестор Махно"

Автор книги: Виктор Ахинько
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 34 страниц)
– Вы что же это, сидите в подполье и не проявляете себя? Или хотите передаться на сторону красных? Тогда уходите к е… матери и будем драться!
Но повстанцы уже обнимались. Махно единогласно избрали командиром, а Билаша – начальником штаба. «Армия» пошла искать встречи с Буденным.
Украина кипела крупными и мелкими бандами. Батька Махно и «атаманы» помельче рангом нападали на железнодорожные станции и поезда, громили советские учреждения и склады, срывали продразверстку… Для укрепления тыла Юго-Западного фронта Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение о направлении на Украину Дзержинского.
Он приехал в Харьков 5 мая. Вместе с ним прибыл целый эшелон, 1 400 человек – московские чекисты, командиры и бойцы войск внутренней охраны… В распоряжение Дзержинского передавалось авиазвено, бронепоезда и необходимое количество вооружения и боеприпасов.
А. Тишков. «Дзержинский».
Оля говорила Захарию:
– Чуешь, як птыци спивають? Всэ цвитэ, пахнэ. Хай воны там вси пэрэгрызуться. А ты будь дома!
– Та клыче ж Батько. Я його спасав, тэпэр вин нас.
Вчера в Рождественке побывали продотрядовцы. Объявили, что будут собирать овес для лошадей Буденного. Нужно приготовить муку, десяток свиней на мясо и другие продукты. Это по разверстке. А еще создается двойной запас. Он будет храниться тут же, в селе, и по мере надобности изыматься. Люди заволновались:
– Дэ ж його взять?
– У нас гостевали белые с помещиками, махновцы, ваши эстонцы, мадьяры. И всем – дай!
Командир отряда, видимо, из рабочих, с грубыми толстыми пальцами, терпеливо разъяснял:
– Мы же не грабители какие-нибудь. Мы – ваша, советская власть и не лезем по амбарам. Спокойно приготовьте, товарищи. Через день заедем и возьмем.
– Захар, ну скажи ж йому! – просили соседи Клешню. После того как он возвратился из походов с пустыми руками, люди поверили в его честность. Хотя и усмехались: чудак или дурак! А все-таки пришел домой и не калека. Другие вон пропали. Значит, шустрый. Может, может постоять за себя. И за нас!
Но он молчал. Раскроешь рот – зацапают. Всё припомнят! И те же соседи охотно подтвердят, что, конечно, был, был у Батьки, сукин сын, а як же. Угостят свинцом и цигарки не дадут.
Продотряд уехал. А сегодня утром нагрянули махновцы, вербуют в новую армию. Правда, незнакомые какие-то хлопцы. Захарий раньше их не видел. Да разве всех и запомнишь? Собрали бывших повстанцев, пообещали пугануть красных грабителей, как только те появятся. «Давай к нам!»– почти требовали. Клешня не возражал, но и не соглашался. Пришел на обед, рассказал жене. Та и слышать не хотела.
– Ни, ни! – замахала руками.
– Шо ты як коза? Мэ, мэ! Шкуру сдэруть комиссары, – ерепенился Захарий. – С голоду подохнэм!
Ольга не знала, что возразить. Муж прав. Но сердце стучало: нет, нет, не пускай!
– Та хай хоть и голод, а ты рядом, – сказала. – Кропыву будэм жрать!
Прибежали дети. Ольга заплакала.
– Батько покыдае нас. Попросить його.
Сынишка обнял ногу Захария. Дочка терлась щечкой о штанину.
– Ладно, ладно. Хватэ вам! – прерывающимся голосом пытался строжиться отец. – Нэ пиду. Буду дома.
А в это время по улице скакал верховой и звал:
– Э-гэй! Мужики, собирайтесь!
Захарий от безысходности поднял сухую, давно не стриженную голову, увидел облако и под ним – трепещущую точку жаворонка. Пел ли он – услышать не удалось. На том конце села стрельнули. «Будь оно всё проклято!» – ругнулся Клешня. Донесся еще какой-то шум, и над крышами взвился столб дыма. Хозяин хотел выйти на улицу, поглядеть, что там случилось, но жена не пустила.
– Убьют же! – вскрикнула, и словно в доказательство застрочил пулемет. Били очередями. Кто, в кого – не понять. Клешня с семьей спрятались в хате. Он достал из-под тряпок на чердаке карабин и выглядывал в окно. Никто больше не появлялся, не шумели. Крадучись, Захарий с оружием пошел к воротам. На том краю села горели три двора.
– Шо там такэ? – спрашивала Ольга, не выходя из хаты.
– Помогать трэба. Бида!
Жена прибежала, схватилась обеими руками за карабин.
– Нэ пущу!
– А якбы у нас огонь? – потерял терпение муж. Серые глаза его потемнели от возмущения. Он бросил оружие и кинулся к погорельцам. Люди носили воду ведрами, пытались залить языки пламени, спасали скот из сараев. Захарий влетел в горящую мазанку, заметил старуху, что стояла на карачках, схватил ее и выволок. Соломенная крыша обвалилась.
– Ой, гады! Ой, звери! – причитали женщины.
Клешня закурил.
– Хто ж цэ зробыв? – спросил.
– Та оти ж махновци! – злобно отвечал измазанный сажей дядько Петро. – Шоб йим на тим свити пэрэвэрнуться! Иты з нымы я отказався, и запалылы.
– А Мишку и Лаврентия скосили. Они на помощь с дробовиками выскочили, – добавил дедок, что стоял поодаль.
– То нэ махновци – красни! – уверенно заявил парень в разорванной сорочке. – Я узнав одного. Вин у йих вроде начальника. Провокаторы! Хто пишов з нымы – тут и пострилялы.
– Нэ можэ буть! – усомнился дядько Петро.
– Вот тебе и нэ можэ! – вроде даже обрадовался дедок. – Махновцы – свои. Не сотворили бы такое.
– Всякие там и там, – заметил Клешня.
На следующий день, как и было обещано, прикатил продотряд. У Захария забрали последнюю свиныо и мешок муки. Он стоял бледный и не проронил ни слова.
– Не горюй, отец, – сказал ему красноармеец, похлопывая по плечу. – Наживете! А это – голодающим, и для армии товарища Буденного стараемся. Он – орел! Летит на польский фронт. Вникаешь?
Когда продотряд уехал, сосед Лукьян, с волосистой бородавкой на лбу, подозвал Клешню к забору и шепнул:
– Чув? Нестор Иванович в Гуляй-Поле. Хочешь мстить – шевелись.
Это было что-то новое. Лукьян – самый зажиточный в селе, трое лошадей имел, сеялку, вкалывал за двоих. Раньше о махновцах и слышать не желал. А появился красный ревком, землю у соседа почти всю отрезали, коней увели. Вишь ты, вспомнил про Батьку!
Ночью Захарий протер карабин, поцеловал растерянную, притихшую Ольгу, детей и подался в Гуляй-Поле. Уже на подходе остановили его конные.
– Эй, кто будешь?
Клешня засомневался. Сосед – серьезный мужик, не мог сбрехать. А вдруг власть переменилась? Он назвал себя.
– Куда путь держишь? – добивался, наверно, старший дозора. Еще как следует не рассвело, и лицо его, фуражку трудно разглядеть. Есть там звездочка или нет?
– Та вы ж бачытэ, в Махноград, – хитрил Захарий. Если возмутятся, значит, красные. А он ответит, что к ним и бежит от повстанцев, которые зажгли Рождественку. Но уловка не удалась. Старший строго спросил:
– Так в чью сторону гребешь, Клешня?
Тот назвал своего бывшего командира Петра Петренко.
– До Батьки топаешь? – как-то ехидно уточнил дозорный.
Захарий занервничал:
– Шо ты прыстав? Вэды до начальника!
– Счас рубану, дядя, и никто не у знает, где могилка твоя. Отвечай! – прикрикнул конный. – Куда топаешь, гнида?
Хлебнувший вольности Клешня уже не мог стерпеть такого издевательства. Лучше сдохнуть на месте!
– До Батька! Ну и шо?
– Это совсем другое дело, – потеплел разведчик. – А то ерепе-енишься. Мы все грамотные. Топай!
У Захария отлегло от сердца: свои! Но пока он добирался к центру, еще два раза останавливали. Ничего не скажешь – грамотные стали хлопцы, беда научила сухари грызть.
Петренко был уже на ногах.
– О-о, здоров, Клешня! – обрадовался. – Где тебя носило? Жив, значит. А Сашку Семинариста, дружка, потерял?
– У красных вроде.
– Вот сволочь! Не ожидал. Та-ак, вон кухня коптит. Иди перекуси. Скоро в поход.
Куда они отправляются и зачем – Захарий не вникал. Какая разница? Теперь он готов на любое дело. Послышалась команда:
– Становись, братва! – и они, кто пеший, кто на коне, а Клешня вскочил на тачанку, отправились на Святодуховку. Там не задержались, пошли к Туркеновке. Пригревало солнце, зеленели поля. Село утопало в белом цвету вишен, груш, пахло медовым духом. Ничего этого особо не замечая, лавина повстанцев – около трех тысяч штыков и сабель – с топотом завернула на Успеновку, где, говорили, стоял штаб шестой конной дивизии Буденного.
Красные явно не ожидали такого наглого нападения. Они уже привыкли к победам, и рядом же, на хуторах, стояла еще одна дивизия! Что за дурь?
Захарий видел, как легко, с гиком ворвались в село кавалеристы, рубили направо и налево. За ними катили тачанки. Клешня стрелял по убегающим красноармейцам, приговаривая:
– От вам свыня! От вам мука!
Буденновцы прятались, огрызались. Пули свистели где-то рядом, пока не задевая. А дальше стояли подводы, брички, целый обоз, словно на базаре. Повстанцы дружно кинулись туда. Захарий не отставал. Вот где можно, наконец, поживиться! Чего тут только не было: связки гимнастерок и кальсон, сухая вобла, спички, граммофоны, шубы, ящики с патронами и снарядами, баяны, мыло. Едри ж его маму: не грабить пришли – хоть свое, отнятое возвратить!
Хлопцы гребли, кто что успевал, грузили на тачанки, на лошадей, снова бежали к добыче. Клешне достался полный мешок чего-то. Легкий, гадство! Чепуха какая-то. Ну, не везет так не везет. Документы или газеты. Захарий дернул шнурок, глянул внутрь и обмер: деньги! Во бля! Миллион, не меньше!
Куда ж его? В тачанку? Там делиться надо. А куда? Клешня стал оглядываться, ища знакомых. Как назло – никого! Эх, Сашку б Семинариста сюда. Тот нашел бы укромное место. Постой, в этой же Успеновке крестная мать живет! Но где? Захарий не видел ее уже лет пять, а то и больше. Облизывая пересохшие губы, кинулся с мешком к ближайшей хате. Карабин сползал с плеча, он его поддергивал. Во дворе никого не видно, попрятались, тараканы! Лишь черненькая собачка с белым ухом робко выглядывала из конуры.
– Эй, кто есть? – позвал Клешня. Ни звука. Ну что же делать? У кого б узнать? Где та крестная потерялась? Мать тоже… называется.
А к обозу подваливали все новые и новые толпы желающих поживиться. Захарий мельком заметил, что чуть дальше кони стоят, оседланные, сытые. Садись и скачи. Куда? Потом, потом… Он побежал вдоль улицы, перехватив карабин под руку. Где та крестная запропастилась? Может, и вот в этой хате под соломой. Так узнай попробуй. Нет, вроде у нее черепица на крыше. Или солома? Да, там старая акация росла у забора. Точно! Вон же она, корявая!
Клешня кинулся к знакомому дереву и увидел, что навстречу, заняв всю улицу и блестя саблями, летит кавалерия. «Опоздали, хлопцы, – была первая мысль. – Всё уже расхапали»… И вдруг до него дошло, прямо как кипятком ошпарило: «Сабли наголо. Цэ ж красни!» Он бросил мешок, карабин за шаткий забор, сам перескочил и притаился в развесистых кустах крыжовника. Иголки впивались в руки, ноги, в задницу. Нельзя было даже пошевелиться.
Кавалерия всё пёрла и пёрла. «Порубають наших, як капусту!» – решил Захарий, поглядывая на мешок. Миллион лежал рядом, а не высунешься. Конные, как на грех, стали притормаживать. «Побачуть!» – струсил Клешня и задом, задом больно втискивался в колючие кусты, пока не провалился в какую-то яму. Там было мокро, воняло, но он не высовывался до сумерек. Только тогда подполз к забору, пошарил. Ни мешка, ни карабина уже не было и в помине.
Лев Голик еще в далекой юности определил для себя, что доброта опасна. Потом, работая за токарным станком, освоив острые ходы резца, он все более убеждался, что миром испокон веков управляет сила. Металл намного крепче тела и гонора человеческого – и тот поддается. Визжит, скрежещет, а уступает. Милость же, прощение нарушают порядок, ведут к поломкам и разложению. Может, где-то за пределами земного, на небесах, о чем толкует религия, и есть другие законы, но не здесь. Все факты, которые наблюдал Голик и о которых писали знающие люди в книгах, газетах – все они вопили о лицемерии христианства. Кто сжигал еретиков на кострах? Верующие. Кто уничтожил миллионы коренных жителей Америки? Опять же христиане. Кто затеял мировую войну? И они еще смеют говорить о доброте! Кого дурят? Всем заправляет вольная мощь!
Лев зверски чуял ее в заговоренном Батьке. Равняться с ним не просто глупо и опасно – это святотатство! Ему можно только служить, презирая любые мольбы и стоны врагов. Правда, сам Голик редко казнил. Для этого были под рукой Немой, Федя Глущенко, Зиньковский, другие костоправы. «Сила не любит разброса», – полагал начальник контрразведки, зорко следя за единством своих рядов.
После ухода на польский фронт конармии Буденного повстанцы легко расправлялись с карательными частями, присоединяли все новые отряды и через три недели рейда по северным районам уже имели до шести тысяч штыков и сабель. Прослышав об этих успехах, к ним приехала группа анархистов-теоретиков: Барон (Арон Канторович) с женой, Алый (Яков Суховольский), Гордеев (Исаак Теппер), а также возвратился друг и учитель Нестора – Аршинов (Петр Марин).
Не дремал и Дзержинский. Вместе с военными он разработал план «окончательного уничтожения махновцев». Они как раз остановились на отдых в давно облюбованной Больше-Михайловке, у Дибривского леса. Здесь Нестора впервые назвали «Батько», здесь он вылечил тиф. Тут была родина Федора Щуся и Петра Петренко. И сюда спешно шли с трех сторон красные: Чаплинская группа войск, Гайчурский отряд и 42-я дивизия. Все они в ожесточенных боях были рассеяны.
Но коварный Феликс Эдмундович заготовил еще одну каверзу, о которой всегда помнил Лев Голик. Он первым проведал о приезде на Украину председателя ВЧК и сразу доложил об этом Батьке, заметив как бы между прочим:
– Вы его лично должны знать, Нестор Иванович.
– С какой стати? – нахмурился тот.
– Да маялись же в Бутырках в одно время и вышли в феврале семнадцатого. На прогулке, может, встречались. У него глаза такие припухшие, трахомные.
– Это лучше помнит Митя Попов, который арестовывал его, жандарма. Жаль, не прикончил. Трахо-омные. Ты сам гляди в оба!
– Стараюсь, – заверил Голик, не подозревая, однако, что опасность ходит уже рядом.
В Туркеновке, где остановилась часть армии во главе с Батькой, появились курносый кудрявый Федор Глущенко и харьковский налетчик по кличке Яшка Дурной. Никого это особо не заинтересовало. Вокруг толклись сотни бывших красноармейцев, кадетов, уголовников, что присоединились к повстанцам. Правда, на околице Федора с Яшкой все же остановили. Но Глущенко уверенно заявил:
– До Левы Зиньковского топаем, слышь? Спецзадание! – и больше вопросов не было.
Рабочий из Екатеринослава, Федор действительно служил в махновской контрразведке. Однако сюда прибыл вовсе не для доклада. Арестованный ЧК, он был поставлен перед выбором: расстрел или сотрудничество. «Буду служить и там и там. Поглядим, чья возьмет, – решил. – А дальше – воно покаже».
Глубоко не вникая в думы своих агентов (да и некогда было), начальник всех чрезвычаек на Украине, друг и соратник Дзержинского, Манцев, предложил Глущенко… убить Махно! Федор испугался, но виду не подал и в конце концов согласился. «Батько уже всем намозолил глаза до чертиков, – размышлял он. – Если я его коцну где-нибудь в укромном уголке, то это же слава. Кто достал неуловимого Махно? Доблестный Глущенко! А не представится случай или заловят – скажу Нестору Ивановичу о кознях чека, и всё шито-крыто».
Федор давно усвоил, что в это паскудное время надежнее всего лавировать между зверьем. Хай они грызутся, шакалы. А мы свое ухватим, и никто не обвинит, что прячемся в сторонке. Да так весь наш степной народ виляет! Пришли белые – доброго здоровья, господа. Черт принес комиссаров – не возражаем, товарищи. Махновцы нагрянули – та цэ ж свойи хлопци! А по существу – все дерьмо.
В помощники Глущенко дали Костюхина с кликухой Яшка Дурной. Тот был высок, мускулист, с маленькой головой.
– Рука у него верная, не дрогнет, – заверил высоколобый, лысоватый Манцев и на прощанье порекомендовал: – Глянь там, Федя, по ситуации. Лев Задов, как и ты, и Яша, из рабочих, юзовский каталь. Потолкуй с ним осторожно. А вдруг клюнет. Все-таки наша косточка, пролетарская. Совесть-то, поди, не всю еще потерял?
Сначата они с Яшкой поехали в Александровск, где опознали и выдали ЧК махновцев. Оттуда на подводе отправились в Гуляй-Поле. По дороге Дурной со смешком рассказывал, что при царе сидел в тюрьме аж девять раз из своих двадцати пяти годков.
– А после революции с грабежом я завязал, – сообщил он не без гордости, кивая маленькой головой.
– Ну да! – не поверил Федор. «С кем я спутался? – думалось. – И чека хороша. Никем не брезгует». – Ты, Яша, кто по профессии?
– Слесарь. По замкам!
– Почему же не потеешь с напильником?
– Да что я, малохольный идиот? За копейки корячиться! Занялся экспроприацией богачей, помогал советской власти в этом чистом деле. А она паскуда, не оценила, в Харькове сцапать захотела. Я отстреливался, бросал бомбы и скрылся. Меня просто не возьмешь! Но отморозил ноги в сарае.
«Помощничек, твою ж маму! – приуныл Глущенко. – Чуть что, и сдам его. Свобода так свобода».
В Гуляй-Поле никто не ведал, где сейчас Батько, и чекистские деньги пропили. Яшка продал краденое пальто, мотанулись по селам. В Туркеновке, наконец, наткнулись на Махно. Еще издали увидели: стоит в окружении командиров или охраны. «Надо бы поискать Левку, – засомневался Глущенко, замедляя шаг. – Может, клюнет, каталь? Все-таки пролетарская косточка. Держи карман шире – три шкуры сдерет! Или нет?» Вспомнились красноармейцы, которых встречали по дороге. Батько их пленил и отпустил. «Не такой он зверь, как малюют», – говорили бойцы, усмехаясь.
Террорист остановился, закурил, прикинул, можно ли подойти к Махно. «Узнает же, допустит. А как стрелять? Тут же скрутят. Да и Нестор верткий. Глазом не мигнешь – всадит пулю!» Всё это Федор уже сто раз представлял себе: «Ну схватят. Так для того же и Яшка здесь, чтобы палить. Куда там? Сдрейфит, ворюга!» Тяжело вздохнув, Глущенко сказал:
– Не теряйся, слышь. Вперед.
На них по-прежнему не обращали внимания. Командиры о чем-то спорили у кирпичного дома волостного правления. Уверенно подходя к ним, Федор шепнул спутнику:
– Стой и жди.
Так было договорено. И вдруг Махно повернул голову и взглянул на Глущенко. Тому даже показалось, что Батько смеется. Темные глаза его вспыхнули каким-то бесовским огнем. Федор похолодел: «Всё знает. Ждет!» – мелькнула догадка. Нестор Иванович тут же отвернулся, а террорист подбежал к нему и срывающимся голосом выпалил:
– Батько! Я имею вам… очень важное… сообщить.
Тот небрежно махнул рукой:
– Передай вон Куриленко, – и по давней привычке, искоса следил за неожиданным визитером.
А Федя шептал Василию:
– Вон стоит… с двумя наганами. Слышь? Хочет убить Махно!
Могучий Куриленко, не раздумывая, подскочил к Яше и обхватил его сзади. Тут же налетели охранники, вытащили у Дурного из карманов маузер и браунинг. Обезоружили и Глущенко.
– Кто тебя прислал? – гневно спросил Нестор Иванович.
Яшка онемел. Любое неосторожное слово стоило жизни. А Федор ждал, что напарника прикончат, и тогда можно набрехать с три короба небылиц.
Но подошел Лев Голик со своими хлопцами, тихонько попросил Батьку:
– Отдай его нам. Разберемся.
– Я же ничего! Просто стоял! – крикнул Костюхин, мотая маленькой головой.
– Раз-берем-ся, – тихо повторил Голик. – Ведите его.
– Так и этого тоже! Он со мной! – Дурной злорадно указывал пальцем на Глущенко.
– Федор? – удивился контрразведчик, без теплоты глядя на своего курносого кудрявого агента.
Тот с надеждой протянул руки к Нестору Ивановичу:
– Меня за что, Батько? Я же раскрыл бандита! Я же вам… лично…
Махно молчал.
– Пойдем, – Голик ткнул дуло револьвера в живот Федору.
– Курва ты, – сказал ему Яшка, когда их вели в дом волостного правления.
– Ловим гадов! – с достоинством отвечал Глушенко, нисколько не сомневаясь, что разыгрывается спектакль для чекистов, затаившихся среди повстанцев. Вон стоит подозрительная рожа – Исаак Теппер, поглядывает, сучок. А сколько тут таких?
На допросах оба арестованных ничего не скрывали, вовсю костерили Манцевых и Дзержинских. Федор утверждал, что у него и в мыслях не было стрелять в Махно. Приехал, чтобы предупредить Батьку и выдать бандита. Ход был верный, и опровергнуть его никто не мог. Однако все командиры, кроме Голика, высказались за смертную казнь обоим. Тогда Лев спросил:
– Вы хотите, чтоб в чека работали наши люди? Да? Ну так кто же согласится на это, если пустим в расход Глущенко?
Командиры призадумались. Верно говорит, верно.
– Хай твои люди проникают хоть на тот свет! А покушаться на Батьку не позволим! – категорически возразил Семен Каретник.
– Сама думка про это губительна для революционера, – добавил Алексей Марченко, и арестованных приговорили.
Но даже когда Зиньковский взвел курок, Федор верил, что это игра, его пощадят, дадут новое задание, как и раньше. Иначе проклятая кутерьма, именуемая жизнью, теряла всякий смысл. Он сказал с надеждой:
– Боже вам помоги…
Умолк шум печатного станка, курьеры увезли пачки газеты «Вольный повстанец», а ее редактор Петр Аршинов, сутулясь, вышел во двор. Сюда же из-за крестьянской хаты пыталась заглянуть и тусклая луна. «Одинокая, вроде меня», – вздохнул Аршинов. Личная жизнь его не сложилась. Вот таким же сухим, теплым вечером обнимал когда-то… В другой жизни, явно не в своей… Фиолетовые Цвели георгины, чьи-то ульи оказались рядом, пахло сотовым медом… Эх, Зоя, Зоя. Сколько же лет утекло? Пятнадцать? Вроде того. Звездочка ты моя падучая. Кому светишь и греешь ли?
Были и потом встречи, бесследные расставания. Обидно. Кого ни возьми вокруг: того же Нестора, Барона, Васю Куриленко, Семена Каретника – у всех семьи, любимые жены. «А я… как это говорят? – не находил слов Петр Андреевич. – Да, мышиный жеребчик! Истинно так. Скачу с юности за мечтой. Даже своего угла не заимел».
Сын слесаря и сам слесарь, он стал профессиональным революционером, сидел за убийство в Бутырках с Махно, учился в Париже, Вене, увлекался симфонической музыкой и стал… рабочим-интеллигентом. Хуже не придумаешь: и тем и другим чужой! Так иногда казалось Аршинову, вот как сейчас, под этой луной-одиночкой.
Да и вся их армия разве не такая же? Мечется между Врангелем и красными, как инородное тело. Но тут уж ничего не поделаешь: порыв к свободе всегда редок и своеобычен. Аршинов не связывал его с национальными особенностями украинского или еврейского народов. Темных заковык редактор всячески избегал.
Арон Канторович (Барон), с которым Петр Андреевич приехал к Батьке, сразу же поставил вопрос ребром: надо затабориться и, не мешкая, строить новую, вольную жизнь! Командиры пожимали плечами: вроде грамотный, теоретик, а несет околесицу. Да завтра же комиссары или добровольцы окружат и замесят из нас грязь!
От села к селу войско повстанцев росло. В него вливались и те, кого в свое время Виктор Билаш предусмотрительно послал на север, на восток. Махно тогда возмущался: «Распылил армию!» А теперь из полтавских лесов выползли более трех тысяч партизан Христового. Им снова выдали оружие и деньги. 700 штыков привел Матяж, что был за самостийну Украину без Петлюры, 600 – матрос Живодер, еще в прошлом году красный комбриг, 500 – кулак Левченко, эсер по убеждениям, петлюровец по принадлежности и военный комиссар уезда по должности. «Какие колоритные фигуры! – радовался Аршинов, разглядывая кряжистых мужиков. – Сколько сил таится в народе! Неужели это… можно истребить? И как Батько умеет держать их в кулаке!»
Помимо всего прочего, Петр Андреевич еще писал историю этого невиданного движения, где не только бунт, как у Спартака или Разина, но и ясная цель: освобождение труда! Собранные документы зимой потерялись, но редактор не унывал, собирал новый архив и, беседуя с командирами, готовил для будущего их биографии, фиксировал всякие происшествия.
На подходе к городам армия зримо распухала. Так было под Изюмом, Зеньково, и редактор «Вольного повстанца» радовался: какой революционный энтузиазм! Проснулась Украина! Жалко, нет кинокамеры, и Петр Андреевич обратился к Батьке:
– Когда же добудем аппарат? Это исторические мгновения!
Махно пообещал, да, видимо, не до того было. Тогда, уже под Миргородом, Аршинов высказал свой восторг Льву Голику. Начальник разведки, еще более пополневший, так как теперь следствием не занимался, хмыкнул:
– Ты чо, Петр, с луны свалился?
– В каком смысле? – нахмурил рыжие брови редактор. Лицо у него серое от ночных бдений над текстами.
– Отстань-ка от штаба, окунись в гущу – поймешь! – как-то ехидно посоветовал Голик, которого Аршинов порой выделял из всех: тоже рабочий, умница, обособленный. Ай-я-я!
Он не ездил верхом, жалел животных. Поэтому взял тетрадь, карандаш и, сутулясь, пошел вдоль строя назад. Его узнавали, приветствовали. Петр Андреевич улыбался. Припекало солнце. Курилась пыль под копытами лошадей, колесами тачанок, и было что-то могучее, неудержимое в бесконечном ходе повстанческого войска. В колоннах пели:
Из-за горок, из-за леса
На тачанках вдоль реки
Вереницей бесконечной
Выезжают мужики.
Особенно выделялся густой бас бывшего регента кафедрального собора отца Владимира. Он вел дальше:
Впереди Махно суровый -
Вдохновитель боевой.
Всех повстанцев криком грозным
Увлекает за собой.
Песню сочинили в культпросветотделе. Нашелся и композитор. А как же без марша в строю? Мелодия затихала, шел следующий полк, и редактора окликнули, но странно, назвав Петей. Он оглянулся и с огорчением понял, что приветствуют вовсе не его, затворника, – Петра Могилу, экспедитора газет, которого знали во всех эскадронах.
– Ты куда топаешь? – чуть даже раздраженно спросил Аршинов. Сухой, чернявый Могила не мог сознаться, что его послал Голик, чтобы поберечь друга Батьки.
– Та в обоз же, – соврал экспедитор.
– Так он уже прошел! – прищурился редактор. – Вон где кухни. А это – замыкающий пулеметный полк Фомы Кожина. Здравствуйте, Фома!
Командир взял под козырек и усмехнулся.
– А за ними… еще дикий обоз, – подняв палец, объяснил Могила.
– Откуда он взялся?
– Тю-ю, вы шо? Со всех окрестных сел мужики прут за нами. Пограбить Миргород.
– Как это… пограбить? – насупился Аршинов.
– Ну, не то слово, простите. Красные склады мы счас раскроем, и дядькы полезут, як саранча.
Петр Андреевич искоса, крупным своим зеленым глазом в пушистых ресницах взглянул на экспедитора.
– Не верите, что ли? Ага, вот без винтовок уже. Цэ дядькы. Давайте подсядем, и ноги не казенные. Ану тормозни! – крикнул Могила мужику и запрыгнул на подводу. Аршинов устроился рядом.
– На склады? – спросил Петр возницу. Тот хитровато сжал запыленные губы. – Та ты не бойся, дядько. Мы не контрразведка. Я корреспондент, а ось цэ рэдактор.
– Ну-у! – с усилием и сомнением выдохнул мужик.
– Что ты мукаешь, як бугай? – засмеялся Могила. – Имя есть?
– Дид Муха.
– Значит, тоже казацкого роду, як и я, – весело продолжал Петр. – А скажи, дед, кабана у тебя продотряд забрал? Мешок пшеницы тоже. Верно?
– Якый мишок? – возмутился Муха. – Гусы, куры – всэ пидмэлы подчистую! Нэ кацапы. Наша голота лазэ по сараям, пидвалам, чуть нэ в ж… заглядае. А чого? Йим кожный чэтвэртый мишок даром дають. Поняв? А Дэ ж я визьму? Хоть в Мыргороди. От спасибо Махно! Батько так Батько. Одын чесный чоловик на всим билом свити!
Аршинов слушал и качал головой. Да-а, суровая правда-матка.
К концу августа разгром большевиков поляками выяснился в полной мере: около 250 тысяч людей и десятки тысяч коней попали в плен и частично были интернированы в Германии. Остатки большевицких армий поспешно бежали на восток, преследуемые польскими войсками.
На правом фланге поляков действовали украинские части… Отряды Махно, Гришина, Омельяновича-Павленко и другие беспрерывно тревожили войска красных, нападая на транспорты, обозы и железнодорожные эшелоны.
П. Врангель. «Южный фронт».
На рассвете Нестора позвали. Галина тоже поднялась, вышла в кухню. Там уже пылала печь и смачно пахло: жарились яйца с картошкой.
– Як ночувалось? – заботливо спросила хозяйка, такая же тонкая, кареглазая, как и жена Махно.
– Спасыби, добрэ, – Галина взяла деревянную ложку и попробовала еду. Она делала это постоянно, опасаясь, чтобы не отравили мужа. Останавливались в просторных хатах, где можно проводить совещания и при случае принимать гостей. А что на уме у зажиточных хозяев, кулаков – кто их разберет? После ранения Гаврюши Трояна охраной заправляет лысый дебелый Зиньковский, один вид которого нагоняет страх. Да не станет же Лев заглядывать в каждую кастрюлю, сковородку?
Наскоро поев, Нестор уехал. За селом погромыхивали пушки. Вроде опять Чаплинская группа наседает. Галина, тревожась, потопталась во дворе. Низинный туман висел на листьях груш, акаций, капало с крыши, добрый хозяин в такую погоду и собаку на улицу не выгонит. Какие они все-таки грубые, заполошные, мужики. Фу-у! Даже в школу неохота.
Учительница с тоской вспомнила, что никто же теперь и не ждет ее. Нет уроков. И детей нет, ни своих, ни чужих. Родной угол-то есть, но в Гуляй-Поле, где красные. Или Уже белые? Во карусель! Одно занятие и осталось – жестокая, но справедливая комиссия антимахновсккх дел. «Маму зовут жандармка, и я тоже», – подумала Галина, возвращаясь в хату.
Пока она нехотя ела, хозяйка крестилась на образа в углу. Оклад их взблескивал от печного пламени. А стены были белые, потолок тоже. На окнах кружевные занавески.
– Всэ сама, всэ сама! – сказала женщина и для убедительности протянула к гостье натруженные руки ладонями вверх. – Кажуть, кулак – то ворог, ксплутатор! А у нас же пятеро детей. Земли, конешно, багато и скот е. Та я ж сама и дою, и мэту, и варю, и рожаю. Хто ж ворог? Я?
Галина смотрела на нее с уважением. Политикам-мужикам, тому ж Нестору, Ленину, Врангелю, и в голову не приходит, что воюют с бабами. В украинской хате, как, наверно, и в русской избе, всё лежит на слабых женских плечах.
Послышался топот, шум во дворе. Резко открылась дверь, и, не входя, Лев Зиньковский прохрипел:
– Батько ранен!
Жена выскочила за порог и увидела с замирающим сердцем, что несут Нестора и еще кого-то. Она подбежала, не веря в несчастье, – заглянула в глаза мужу. Он, слава Богу, был в сознании, даже попытался улыбнуться, но серая щека дернулась с болью.
– А-а, но-ги, – с трудом выдохнул Батько, и Галина увидела весь в крови сапог. Ей враз стало дурно. Тут быстро пронесли мимо и Василия Куриленко, лихого кавалериста, с красным сапогом. «Если в колено – калеки!» – решила Галина, заходя в сени. Она уже привыкла, что мужа ни сабля, ни пуля, ни осколок не достают. Недавно водил в атаку трехтысячную конницу. И зачем, дурень, лезет вперед? Что, мало командиров? Еще и говорил, смеясь, как залетели во фланг, свинец свистит над ухом, фуражку показывал с дыркой. Жена ее заштопала. «Я заговоренный!» – хвастал. А теперь с палкой будет ковылять.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.