Читать книгу "Дневники"
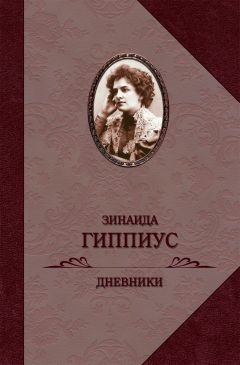
Автор книги: Зинаида Гиппиус
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Но перед Керенским сейчас только два пути достойных, только два. Или въедь вместе с Корниловым, Савинковым и знаменитой программой, или, если не можешь, нет нужной силы, объяви тихо и открыто: вот какой момент, вот что требуется, но я этого не вмещаю и потому ухожу. И уйти… уже не бутафорски, а по-человечески, бесповоротно. Я боюсь, что оба пути слишком героичны… для Керенского. Оба, даже второй, человеческий. И он ищет третьего пути, хочет что-то удержать, замазать, длить дленье… Третьего нет, и Керенский найдет «беспутность», найдет бесславную гибель… и хорошо, если только свою. В такой момент и на таком месте человек обязан быть героичен, обязан выбрать, или…
Или – что? Ничего. Посмотрим. Увидим. Не время еще задавать «последние» вопросы. Один из них хотела я задать себе: а понимает ли Керенский маленькое, коротенькое, простое словечко – Россия?
Довольно пока о Керенском. Борис был нынче вечером. Томится от выжидательного безделья и неопределенного своего положения. Дела сдал несколько дней тому назад, но никто их не делает, все военное ведомство и министерство пока остановилось.
От этого «канительного» состояния, которое Борису очень не по характеру, он уже стал ездить в «Привал комедиантов». Утешается, что там он – писатель и поэт Ропшин. А то, говорит, я уж и забыл… (Это жаль, он очень талантлив.)
Ну, посмотрим, посмотрим.
17 августа, четверг
С понедельника не писала. Бронхит. А погода стоит теплая, еще летняя. Надо бы скорее на нашу дачу ехать, последние дни. Но уж очень и здесь заварено, как-то уехать трудно. Дача, положим, недалеко (около той же Сиверской, где нас «постигла» война), в имении князя Витгенштейна. Газеты – в тот же день, имеется телефон, прекрасный дом. Разрыва с Петербургом как будто и нет, – как я люблю старинные парки осенью! – а все же и отсюда не оторвешься. Сиверская мне напоминает «беду войны», только теперешняя дача называется как-то пророчески-современно – Красная дача… (Она и в самом деле вся красная.)
А что случилось?
Борис бывал все дни. В том же состоянии ожиданья.
Московское Совещание развертывалось приблизительно так, как мы ожидали. Правительство «говорило» о своей силе, но силы ни малейшей не чувствовалось. Трагическое лицо Керенского я точно видела отсюда…
Вчера Борис сидел недолго.
Был последний вечер неизвестности – утром сегодня, 17-го, ожидался из Москвы Керенский.
Борис обещал известить нас мгновенно по выяснении чего-нибудь.
И сегодня, часу в седьмом, – телефон. Ротмистр Миронович. Сообщает мне, «по поручению управляющего военным ведомством», что «отставка признана невозможной», он остается.
Прекрасно.
А около восьми, перед ужином, является и сам Борис. Вот что он рассказывает.
К Керенскому, когда он нынче утром приехал, пошли с докладом Якубович и Туманов. Очень долго и, по видимости, бесплодно, с ним разговаривали. Он – ни с чем не соглашается. Филоненку ни за что не хочет оставить. (Тут же и телогрей его Барановский; он тоже за Савинкова, хотя и робеет.) Каждый раз, когда Туманов и Якубович предлагали вызвать самого Савинкова, – Керенский делал вид, что не слышит, хватался за что ни попадя на столе, за газету, за ключ… обыкновенная его манера. Отставку Савинкова, которую они опять ему преподнесли (для «резолюции», что ли? Неужели ту, исчерченную?), – небрежно бросил к себе в стол. Так ни с чем они и ретировались.
Между тем в это же время Савинков получает через адъютанта приглашение явиться к Керенскому. По дороге сталкивается с выходящими из кабинета своими защитниками. По их перевернутым лицам видит, что дело плохо. В этом убеждении идет к «господину министру».
Свидание произошло наедине, даже без Барановского.
– Он мне сказал, – повествует Савинков, – и довольно спокойно, вот что: «На Московском Совещании я убедился, что власть правительства совершенно подорвана, – оно не имеет силы. Вы были причиной, что и в Ставке зародилось движение контрреволюционное, – теперь вы не имеет права уходить из правительства, свобода и родина требуют, чтобы вы остались на своем посту, исполнили свой долг перед ними…» Я так же спокойно ему ответил, что могу служить только при условии доверия с его стороны – ко мне и к моим помощникам… «Я вынужден оставить Филоненко», – перебил меня Керенский. Так и сказал – «вынужден». Все более или менее выяснилось. Однако мне надо было еще сказать ему несколько слов частным образом. Я напомнил ему, как оскорбителен был последний его разговор со мною. «Тогда я вам ничего не ответил, но забыть этого еще не могу. Вы разве забыли?» Он подошел ко мне, странно улыбнулся… «Да, я забыл. Я, кажется, все забыл. Я… больной человек. Нет, не то. Я умер, меня уже нет. На этом совещании я умер. Я уже никого не могу оскорбить, и никто меня не может оскорбить…»
Савинков вышел от него и сразу был встречен сияющими и угодливыми лицами. Ведь тайные разговоры во дворцах мгновенно делаются явными для всех…
В 4 часа было общее заседание правительства. И там Савинкова встречали всякими приветливыми улыбками. Особенно старался Терещенко. Авксентьев кислился. Чернова не было вовсе.
На заседании – вопль Зарудного по поводу взорвавшейся и сгоревшей Казани. Требовал серьезных мер. Керенский круто повернул в ту же сторону. Образовали комиссию, в нее включился тотчас и Савинков. Он надеется завтра предложить к подписи целый список лиц для ареста.
Борис в очень добром духе. Знает, что Керенский будет еще «торговаться», что много еще кое-чего предстоит, но все-таки утверждает:
– Первая линия окопов взята.
– Их четыре… – возражаю я осторожно.
Записка Корнилова ведь еще не подписана. Однако – если не ждать вопиющих непоследовательностей, – должна быть подписана.
Как все это странно, если вдуматься. Какая драма для благородной души. Быть может, душа Керенского умирает перед невозможностью для себя —
…Нельзя! Ведь душа, неисцельно потерянная,
Умрет в крови.
И надо! – твердит глубина неизмеренная
Моей Любви.
Есть души, которые, услыхав повелительное: «Иди, убей», – умирают, не исполняя.
(Впрочем, я увлекаюсь во всех смыслах. Драмы личные здесь не пример. Здесь они отступают.)
В Савинкове – да, есть что-то страшное. И ой-ой какое трагичное. Достаточно взглянуть на его неправильное и замечательное лицо со вниманием.
Сейчас он, после всего этого дня, сидел за моим столом (где я пишу) и вспоминал свои новые стихи (рукописи у него за границей). Записывал. И ему ужасно хотелось, чтобы это были «хорошие» стихи, чтобы мне понравились. (Ропшин-поэт – такой же мой «крестник», как и Ропшин-романист. Лет 6 тому назад я его толкнула на стихи, в Каннах, своим сонетом, затем терцинами.)
– Знаете, я боюсь… Последнее время я писал несколько иначе, свободным стихом. И я боюсь… Гораздо больше, чем Корнилова.
Я улыбаюсь невольно.
– Ну что ж, надо и вам чего-нибудь бояться. Кто это сказал: «Только дурак решительно ничего не боится»?
Кстати, я ему тут же нашла одно его прежнее стихотворение, со словами:
…Убийца в Божий град не внидет…
Его затопчет Рыжий Конь…
Он прочел (забыл совсем) и вдруг странно посмотрел:
– Да, да… так это и будет. Я знаю, что я… умру от покушения.
Это был вовсе не страх смерти. Было что-то больше этого.
18 августа, пятница
Сегодня мы на обед позвали Савинкова и, по уговору с ним, Л., Дмитрий позвал, попозже, Руманова, который тоже бабочкой полетел на Савинкова. (Крылышки бы не обжег.)
Мы были вчетвером. Скоро Борис заторопился (теперь уж не сможет так ездить к нам, влез в каторжную работу).
Л. попросил его подвезти; Р. пошел лезть в свой автомобиль, а Борис вызвал меня и Дмитрия на секунду в другую комнату, чтобы сказать несколько слов. Сегодня Керенский лично говорил Лебедеву, что хочет быть министром без портфеля, что так все складывается, что так лучше.
Конечно, так всего лучше – и естественнее для совести Керенского. Это – принятие «первого» пути, конечно (власть К.К.С.), но это смягчение форм, которые для Керенского и не свойственны. Пусть он отдает себя на делание нужное, положит на него свою душу. Такая душа спасает и спасет, ибо это тоже «героизм».
20 августа, воскресенье
Вчера была К. Ушла, опять пришла и дожидалась у меня Ел. и Зензинова с заседания своего ЦК в одном из дворцов.
Явились только после 2-х. (Дмитрий давно лег спать.) Некогда было говорить ни о чем. С весны Зензинов очень изменился, потемнел; полевев, «жертвенность» его приняла тупой и упрямый оттенок, неприятный.
Центр, ком. партии требует Савинкова к ответу, очевидно, из-за корниловской записки. Тот самый ЦК, где «громадное большинство или немецкие агенты, или ничтожество». (Между прочим, там – чуть ли не председателем или вроде – подозрительный старикашка Натансон, приехавший через Германию.)
Сегодня утром приехал Д.В. с дачи. Затем всякие звонки. Пришел Карташёв, вчера вернулся из Москвы. Приехал к вечеру и Савинков, которому я днем успела сообщить, что его требуют в ЦК, влекут к ответу.
Конечно, Савинков не пойдет туда для объяснений. Он даже права не имеет говорить о правительственной политике перед – хотя бы не уличенными – германскими агентами. Я думаю, формально сошлется на проезд многих через Германию.
Но, конечно, будут… уговоры подчиниться постановлению ЦК и явиться на допрос. Расспросы о подробностях «записки», есть ли там уничтожение выборного начала в армии и т. д.
Продолжаю не понимать. Позиция партии эсеров сейчас, несомненно, преступная. А лично, в самых честных, самых чистых (говорю только о них), – младенчество какое-то, и не знаешь, что с этим делать…
Что они думают о «комбинации» и о принципе «записки»?
О, какие детски-искренние, преступно-путаные речи! Они, сами, вовсе не против «серьезных мер». Даже так: если Каледин с казаками спасет Россию, – пусть. И тут же: комбинация Керенский – Корнилов – Савинков – пуф, авантюра, вводить военное положение в тылу – нельзя, «репрессивные» меры невозможны. Милитаризация железных дорог – невводима; нельзя «превращать страну в казармы» и грозить смертной казнью. Наконец, если только эта «записка» будет Керенским подписана, – министерство взорвется, все социалисты уйдут или будут отозваны, и мы сами, первые (наша партия) пойдем «подымать восстание».
За точность слов ручаюсь. Воочию вижу полную картину слепого «партийного» плена. Добровольного кандального рабства. Сила гипноза, очарования, «большинства». Партия эсеров сейчас вся как-то болезненно распухла, раздалась вширь («землица»?). У них (у лучших) наивное торжество: вся Россия стала эсеровской! Все «массы» с нами!
Торжествуя, «большинство» и максимальничает; максимализм лучшего меньшинства – только от невозможности не быть со «всеми».
Кое-кто, самоутешаясь, наивно мечтает изнутри «править» ЦК, а через него направлять и стихийную часть партии. Мне даже странно это выписывать. Какая устрашающая мечтательность!
Кончаю. Еще одно вот только, самое трудное (и о чем почти не говорили!). Это что немцы перешли Двину, Рига, наверно, будет взята – если только уже не взята в данный момент.
21 августа, понедельник
Взята.
Мы отходим на линию Чудского озера – Псков. Правительство отнеслось к этому фаталистически-вяло. Ожидали, мол.
Города не разобрать. Что – он? Очевидно, нет воображения. На Выборгской заходили большевики с плакатами: «Немедленный мир!» Все, значит, идет последовательно. Дальше.
Сейчас (поздно вечером) мне звонил Л. Говорил, что оказал весьма сильное давление на Керенского в том смысле, чтоб передать Савинкову и военное, и морское министерство. (К Борису за эти дни несколько раз заезжал Керенский; подолгу говорил с ним.)
Далее Л. сообщил, что, для подкрепления, он еще пишет об этом же Керенскому письмо. Я посоветовала краткость и определенность.
Ах, все это, все это – поздно! Опять, как вечно у нас: «рано! рано!» до тех пор, пока делается «поздно».
Все согласны, что революция у нас произошла не вовремя. Но одни говорят, что «рано», другие, что «поздно». Я, конечно, говорю – «поздно». Увы, да, поздно. Хорошо, если не «слишком», а только «немного» поздно.
Царя увезли в Тобольск (наш Макаров, П.М., его и вез). Не «гидры» ли боятся (главное и, кажется, единственное занятие которой – «подымать голову»)? Но сами-то гидры бывают разные.
Штюрмер умер в больнице? Несчастный «царедворец». Помню его ярославским губернатором. Как он гордился своими предками, книгой царственных автографов, дедовскими масонскими знаками. Как он был «очарователен» с нами и… с Иоанном Кронштадтским! Какие обеды задавал!
Стыдно сказать – нельзя умолчать: прежде во дворцах жили все-таки воспитанные люди. Даже присяжный поверенный Керенский не удержался в пределах такта. А уж о немытом Чернове не стоит и говорить.
Отчего свобода, такая сама по себе прекрасная, так безобразит людей? И неужели это уродство обязательно?
22 августа, вторник
Дождь проливной; явился Л. Еще не написал письма Керенскому, хочет вместе с нами.
Стали мы помогать писать (писал Л.). Можно бы, конечно, покороче и посильнее, если подольше думать, – но ладно и так. Сказано, что нужно. Все те же настоятельные предложения или властвовать, или передать фактическую власть «более способным» вроде Савинкова, а самому быть «надпартийным» президентом российской республики (т. е. необходимым «символом»).
Подписались все. Запечатали моей печатью, и Л. унес письмо.
Не успел Л. уйти – другие, другие, наконец, и М. По программе – с головной болью. В это время у нас из-под крыши повалил дым. Улицу запрудили праздные пожарные. Постояли, напустили своего дыма и уехали, а дымы сами понемногу рассеялись.
Пришел Д.В. из своей «Речи», рассказывает:
– Сейчас встретил защитный автомобиль. Выскакивает оттуда Н.Д.Соколов: «Ах, я и не знал, что вы в городе. Вы домой? Я вас подвезу». Я говорю – нет, Н.Д., я не люблю казенных автомобилей; я ведь никакого отношения к власти не имею… «Что вы, это случайно, а мне нужно бы с вами поговорить…» Тут я ему прямо сказал, что, по-моему, он, сознательно или нет, столько зла сделал России, что мне трудно с ним говорить. Он растерялся, поглядел на меня глазами лани: «В таком случае я хочу длинного и серьезного разговора, я слишком дорожу вашим мнением, я вам позвоню». Так мы и расстались. Голова у него до сих пор в ермолке, от удара солдатского.
Я долго с Мережковским говорила.
Вот его позиция: никакой революции у нас не было. Не было борьбы. Старая власть саморазложилась, отпала, и народ оказался просто голым. Оттого и лозунги старые, вытащенные наспех из десятилетних ящиков. Новые рождаются в процессе борьбы, а процесса не было. Революционное настроение, ища выхода, бросается на призраки контрреволюции, но это призраки, и оно – беспредметно…
Кое-какая доля правды тут есть, но с общей схемой согласиться нельзя. И во всяком случае я не вижу действенного отсюда вывода. Как прогноз – это печально; не ждать ли нам второй революции, которая, сейчас, может быть только отчаянной – омерзительной?
К концу вечера пришли Ел. и К. С Ел. и М. говорили довольно интересно.
М. опять излагает свою теорию о «небытии» революции, но затем я перевела на данный момент, с условием обсуждать сейчас нужные действия исключительно с точки зрения их целесообразности.
Сбивался, конечно, М. на обобщения и отвлеченности. Однако можно было согласиться, что есть два пути: воздействие внутреннее (разговоры, уговоры) и внешнее (военные меры). Первое сейчас неизбежно переливается в демагогию. Демагогия – это беспредельная выдача векселей, заведомо неоплатных, непременно беспредельная (всякая попытка поставить предел – уничтожает работу). М. отвергал и целесообразность этого «насилия над душами». Путь второй (внешние меры, «насилие над телами») – конечно, лишь отрицательный, т. е. могущий не двинуть вперед, но возвратить сошедший с рельс поезд – на рельсы (по которым уже можно двигаться вперед). Но он не только бывает целесообразен: в иные моменты он один и целесообразен.
Собеседники соглашались со всем, но схватились за последнее: вот именно теперь – не момент. В принципе они совсем не против, но сейчас – за демагогию, которая нужна «как оттяжка времени». Ну, да, словом – «рано…» (вплоть до «поздно»).
Звучало это мутно, компромиссно… Бояться насилия над телами и нисколько не бояться насилия над душами?
Мне припомнилось: «Не бойтесь убивающих тело и более уже ничего не могущих сделать…»
…Потом я спрашивала Ел., что же Борис? Как суд над ним в ЦК? Пойдет? (Нынче он уехал в Ставку дня на три.)
23 августа, среда
Вечером Д.В., остававшийся в городе, часов около 12 сидел в столовой (пишу по его точной записи и рассказу). Постучали во входную дверь. Дима решил, что это Савинков, который всегда так приходил. (Дверь от столовой близко, а звонок прислуге очень далеко.)
Подойдя к двери, Дима, однако, сообразил, что Савинков – на фронте, в Ставке, а потому окликнул:
– Кто там?
– Министр.
Голоса Дима не узнает. Открывает дверь на полуосвещенную лестничную клетку.
Стоит шофер, в буквальном смысле слова: гетры, картуз. Оказывается Керенским.
Керенский: Я к вам на одну минуту…
Дима: Какая досада, что нет Мережковских, они сегодня уехали на дачу.
К.: Ничего, я все равно на одну минуту, вы им передадите, что я благодарю их и вас всех за письмо.
Переходят в гостиную. Керенский шагает во всю длину. Д.В. за ним.
Д.: Письмо написано коротко, без мотивов, но это итог долгих размышлений.
К.: А все-таки оно недодумано. Мне трудно, потому что я борюсь с большевиками левыми и большевиками правыми, а от меня требуют, чтобы я опирался на тех или других. Или у меня армия без штаба, или штаб без армии. Я хочу идти посередине, а мне не помогают.
Д.: Но выбрать надо. Или вы берите на себя перед «товарищами» позор обороны и тогда гоните в шею Чернова, или заключайте мир. Я вот эти дни все думаю, что мир придется заключить…
К.: Что вы говорите?
Д.: Да как же иначе, когда войну мы вести не можем и не хотим. Когда ведешь войну, нечего разбирать, кто помогает, а вы боитесь большевиков справа.
К.: Да, потому что они идут на разрыв с демократией. Я этого не хочу.
Д.: Нужны уступки. Жертвуйте большевиками слева, хотя бы Черновым.
К. (со злобой): А вы поговорите с вашими друзьями. Это они посадили мне Чернова… Ну что я могу сделать, когда… Чернов – мне навязан, а большевики все больше подымают голову. Я говорю, конечно, не о сволочи из «Новой жизни», а о рабочих массах.
Д.: И у них новый прием. Я слышал, что они пользуются рижским разгромом. Говорят: вот, все идет по-нашему, мы требовали, чтобы 18 июня не начинали наступления.
К.: Да, да, это и я слышал.
Д.: Так принимайте же меры! Громите их! Помните, что вы всенародный президент республики, что вы над партиями, что вы избранник демократии, а не социалистических партий.
К.: Ну, конечно, опора в демократии, да ведь мы ничего социалистического и не делаем. Мы просто ведем демократическую программу.
Д.: Ее не видно. Она никого не удовлетворяет.
К.: Так что же делать с такими типами, как Чернов?
Д.: Да властвуйте же наконец! Как президент вы должны составлять подходящее министерство.
К.: Властвовать! Ведь это значит изображать самодержца. Толпа именно этого и хочет.
Д.: Не бойтесь. Вы для нее символ свободы и власти.
К.: Да, трудно, трудно… Ну, прощайте. Не забудьте поблагодарить З.Н. и Д.С.
Далее Д.В. прибавляет: «Ушел так же стремительно, как и пришел. Перемена в лице у него громадная. Впечатление морфиномана, который может понимать, оживляться только после вспрыскивания. Нет даже уверенности, что он слышал, запомнил наш разговор. Я встретил его ласково и вообще "подбодрял"».
Все, говорит Д.В., там в панике. Весь город ждет выступления большевиков. Ощущение, что никакой власти нет.
Карташёв в панике сугубой, фаталистической: «Все пропало».
Странен темп истории. Кажется – вот-вот что-то случится, предел… Ан – длится. Или душит, душит, и конца краю не видать, – ан хлоп, все сразу валится, и не успел даже подумать, что, мол, все валится, – как оно уже свалено.
В общем, конечно, знаешь, – но ошибаешься в днях, в неделях, даже в месяцах.
31 августа
Дни 26 августа, 29-го и 30-го – ошеломляющие по событиям. (Т. е. начиная с 26 августа.)
Утром я выбежала в столовую: «Что случилось?» Д.В.: «А то, что генерал Корнилов потерял терпение и повел войска на Петербург».
В течение трех дней загадочная картина то прояснялась, то запутывалась. Главное-то было явно через 2–3 часа, т. е. что лопнул нарыв вражды Керенского к Корнилову (не обратно). Что нападающая сторона Керенский, а не Корнилов. И наконец, третье: что сейчас перетянет Керенский, а не Корнилов, не ожидавший прямого удара.
Утопая в куче противоречивых фактов, останавливаясь перед явными провалами – неизвестностями, перед явными Х-ами, отмахиваясь от сумасшедшей истерики газет, – я пытаюсь слепить из кусочков действительности образ того, что произошло на самом деле.
И пока намеренно воздерживаюсь от всякой оценки (хотя внутри она уже складывается). Только то, что знаю сейчас.
26-го в субботу, к вечеру, приехал к Керенскому из Ставки Владимир Львов (бывший обер-прокурор Синода). Перед своим отъездом в Москву и затем в Ставку, дней 10 тому назад, он тоже был у Керенского, говорил с ним наедине, разговор неизвестен. Точно так же наедине был и второй разговор с Львовым, уже приехавшим из Ставки. Было назначено вечернее заседание; но когда министры стали собираться в Зимний дворец, из кабинета вылетел Керенский, один, без Львова, потрясая какой-то бумажкой с набросанными рукой Львова строками, и, весь бледный и «вдохновенный», объявил, что «открыт заговор генерала Корнилова», что это тотчас будет проверено и генерал Корнилов немедленно будет смещен с должности главнокомандующего как «изменник».
Можно себе представить, во что обратились фигуры министров, ничего не понимавших. Первым нашелся услужливый Некрасов, «поверивший» на слово господину премьеру и тотчас захлопотавший. Но, кажется, ничего еще не мог понять Савинков, тем более что он лишь в этот день сам вернулся из Ставки, от Корнилова. Савинкова взял Керенский к прямому проводу, соединились с Корниловым; Керенский заявил, что рядом с ним стоит В.Львов (хотя ни малейшего Львова не было), запросил Корнилова: подтверждает ли он то, что говорит от него приехавший и стоящий перед проводом Львов. Когда выползла лента с совершенно покойным «да», – Керенский бросил все, отскочил назад, к министрам, уже в полной истерике, с криками об «измене», о «мятеже», о том, что немедленно он смещает Корнилова и дает приказ о его аресте в Ставке.
Тут я подробностей еще не знаю, знаю только, что Керенский приказал Савинкову продолжать разговор с Корниловым и на вопрос Корнилова, когда Керенский с членами правительства прибудет, как условлено, в Ставку, – отвечать: «Приеду 27-го». Приказал так ответить – уже посреди всей этой бучи, уже крича и думая об аресте Корнилова, а не о поездке к нему. Объяснил, что это «необходимая уловка», чтобы пока Корнилов ничего не подозревал, не знал, что все открыто (???). Карташёв присутствовал при разговоре этом, стоял у провода.
Опять не знаю никаких дальнейших точных подробностей сумасшедше-истерического вечера. Знаю, что к Керенскому даже Милюкова привозили, но и тот отступился, не будучи в состоянии ни толку добиться, ни каким бы то ни было способом уяснить себе, в чем дело, ни задержать поток действий Керенского хоть на одну минуту. Кажется, все сплошь хватали Керенского за фалды, чтобы иметь минуту для соображения, – напрасно! Он визжал свое, не слушая и, вероятно, даже физически не слыша никаких слов, к нему обращенных.
По отрывочным выкликам Керенского и по отрывочным строкам невидимого Львова (арестован), набросанным тут же, во время свиданья, – выходило так, что Корнилов как будто послал Львова к Керенскому чуть ли не с ультиматумом, с требованием какой-то диктатуры или директории. Или чего-то вроде этого. Кроме этих, крайне сбивчивых, передач Керенского, министры не имели никаких данных и никаких ниоткуда сведений; Корнилов только подтвердил «то, что говорит Львов», а «что говорил Львов» – никто не слышал, ибо никто Львова так и не видал.
До утра воскресенья это не выходило из стен дворца; на другой день министры (чуть ли там не ночевавшие) вновь приступили к Керенскому, чтобы заставить его путем объясниться, принять разумное решение, но… Керенский в этот день окончательно и уже бесповоротно огорошил их. Он уже послал приказ об отставке Корнилова. Ему ведено немедля сложить с себя верховное командование. Командование принимает на себя сам Керенский. Уже написана (Некрасовым, «не видевшим, но уверовавшим») и разослана телеграмма «всем, всем, всем», объявляющая Корнилова «мятежником, изменником, посягнувшим на верховную власть» и повелевающая никаким его приказам не подчиняться. Наконец для полного вразумления министров, стоявших с открытыми ртами, для отнятия у них последнего сомнения, что Корнилов мятежник, и изменник, и заговорщик, – открыл им Керенский: «С фронта уже двинуто на Петербург несколько мятежных дивизий», они уже идут. Необходимо организовать оборону «Петрограда и революции».
Только что ошеломленные министры хотели и это как-нибудь осмыслить – «верующий» Некрасов вырвался к газетчикам и жадно, со смаком, как первый вестник, объявил им все, вплоть до всероссийского текста о гнусном «мятеже» и об опасности, грозящей «революции» от корниловской дивизии.
И «революционный Петроград» с этой минуты забыл об отдыхе: единственный раз, когда газеты вышли в понедельник. Вообще легко представить, что началось. «Правительственные войска» (тут ведь не немцы, бояться нечего) весело бросились разбирать железные дороги, «подступы к Петрограду», красная гвардия бодро завооружалась, кронштадтцы («краса и гордость русской революции») прибыли немедля для охраны Зимнего дворца и самого Керенского (с крейсера «Аврора»).
Корнилов, получив нежданно-негаданно, – как снег на голову, – свою отставку, да еще всенародное объявление его мятежником, да еще указания, что он «послал Львова к Керенскому», – должен был в первую минуту подумать, что кто-то сошел с ума. В следующую минуту он возмутился. Две его телеграммы представляют собою первое настоящее сильное слово, сказанное со времени революции. Он там называет вещи своими именами… «Телеграмма министра-председателя является во всей своей первой части сплошной ложью. Не я послал В.Львова к Временному правительству, а он приехал ко мне как посланец министра-председателя…» «Так совершилась великая провокация, которая ставит на карту судьбу отечества…»
Не ставит. Решает. Уже решила. Я поклялась воздерживаться от выводов… Ибо не все еще знаю. Но это я знаю, ведь уже с первого момента всем видно было, что нет никакого корниловского мятежа. Я фактически не знаю,
что говорил Львов, и вообще не знаю (кто знает?) этот инцидент, но абсолютно не верю ни в какие «ультиматумы». Дурацкий вздор, чтоб Корнилов ни с того ни с сего послал их с Львовым! А что касается «мятежных дивизий», идущих на Петроград, то не нужно быть ни особенным психологом, ни политиком, а довольно иметь здравое соображение, чтобы, зная детально все предыдущее со всеми действующими лицами, – догадаться: эти дивизии, по всем признакам, шли в Петербург с ведома Керенского, быть может, даже по его условию с Корниловым через Савинкова (который только что ездил в Ставку), ибо: 1) на очереди были меры корниловской записки, ее Керенский всякий день намеревался утвердить, а это предполагало посылку войск с фронта; 2) бесспорно ожидался в Петербурге – самим Керенским – большевистский бунт, ожидался ежедневно, и это само собой разумело войска с фронта.
Я почти убеждена, что знаменитые дивизии шли в Петербург для Керенского – с его полного ведома или по его форменному распоряжению.
Поведение же его столь сумасшедше-фатально, что… это уже почти не вина, это какой-то Рок.
«Керенский в эти минуты был жалок», – говорит Карташёв.
Но не менее, если не более, жалки были и окружающие этого опасно обезумевшего человека. Ничего разумно не понимающие (да и можно ли понять?), чующие, что перед ними совершается непоправимое, – и бессильные что-нибудь сделать.
Действительно, с того момента, как на всю Россию раздался крик Керенского об «измене» главнокомандующего, – все стало непоправимым. Возмущенный Корнилов послал свои воззвания с отказом «сдать должность». Лихорадочно и весело «революционный гарнизон» стал готовиться к бою с «мятежными» дружинами, которые повел Корнилов на Петроград. Время ли, да и кому было задумываться над простым вопросом: как это «повел» Корнилов свои войска, когда сам он спокойно сидит в Ставке? И что это за «войска» – много ли их? Годные весьма для приструнивания «большевистских» здешних трусов, для укрепления существующей власти; но что же это за несчастный «заговорщик», посылающий горсточку солдат для борьбы и свержения всероссийского правительства, чуть ли не для «насаждения монархизма»?
Полагаю, если бы черные элементы Ставки имели на Корнилова серьезное влияние, если бы Корнилов вместе с ними начал «заговор», – он был бы немного иначе обставлен, не столь детски (хотя успех его и тогда для меня еще под сомнением).
Но продолжаю пока летучие факты.
«Кровопролития» не вышло. Под Лугой и еще где-то посланные Корниловым дивизии и «петроградцы» встретились. Недоумело постояли друг против друга. Особенно изумлены были «корниловцы». Идут «защищать Временное правительство» и встречаются с «врагом», который идет «защищать Временное правительство» тоже – и то же. Ну, постояли, подумали; ничего не поняли; только, помня уроки агитаторов на фронте, что «с врагом надо брататься», принялись и тут жадно брататься.
Однако торжественный клич дня: «Полная победа петроградского гарнизона над корниловскими войсками».
Да, произошло громадной важности событие, но все целиком оно произошло здесь, в Петербурге. Здесь громыхнулся камень, сброшенный рукой безумства, отсюда пойдут и круги. Там, со стороны Корнилова, просто не было ничего.
Здесь все началось, здесь будет и доигрываться. Сюда должны быть обращены взоры. Я – созерцатель и записчик – буду смотреть со вниманием на здешнее. Кто хочет и еще надеется действовать, – пусть тоже пытается действовать здесь.
Но что можно еще сделать?
Наш Борис (пишу внешние факты) был назначен петербургским генерал-губернатором. Пробыл три дня. Сегодня уже ушел от всех должностей. Предполагаю, что его не пожелала всесильная теперь советская «демократия». Такая удача привалила – «корниловщина»! – да чтоб тут сразу и ненавистного Савинкова не сбросить?
Но и Керенский теперь всецело в руках максималистов и большевиков. Кончен бал. Они уже не «поднимают голову», они сидят. Завтра, конечно, подымутся и на ноги.









































