Читать книгу "Дневники"
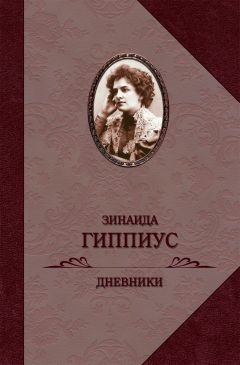
Автор книги: Зинаида Гиппиус
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Рассказывал многое – «с того берега», конечно. Уверял, что составлению кабинета «мешали не мы. Мы даже не возражали против лиц. Берите кого хотите. Нам была важна декларация нового правительства. Все ее 8 пунктов даже моей рукой написаны. И мы делали уступки. Например, в одном пункте Милюков просил добавить насчет союзников. Мы согласились, я приписал…»
Распространялся насчет промахов правительства и его неистребимого монархизма (Гучков, Милюков).
Странный, в конце концов, факт получился: существование рядом с Временным правительством двухтысячной толпы, властного и буйного перманентного митинга, этого Совета раб. и сол. депутатов. Н.Д.Соколов рассказывал мне подробно (полусмущаясь, полуизвиняясь), что он именно в напряженной атмосфере митинга написал Приказ № 1 (где, что называется, хвачено). Приказ будто бы необходим был, так как из-за интриг Гучкова армия, в период междуцарствия, присягнула Михаилу… «Но вы понимаете, в такой бурлящей атмосфере у меня не могло выйти иначе, я думал о солдатах, а не об офицерах, ясно, что именно это у меня и вышло более сильно…»[31]31
«И вовсе не он даже и писал-то, – говорит Ганфман, – а Кливанский из „Дня“. Но этот сразу покаялся и скрывает. Н.Д. же полухвастается, ибо только присутствовал». – З.Г., прим. 10 сентября 1917 г.
[Закрыть]
Сей «митинг» столь «властный», что к нему даже Рузский с запросами обращается. Сам себя избравший парламент. Советский Исполнительный комитет иногда соглашается с правительством – иногда нет. Выходит, что иногда можно слушаться правительства, – иногда нет. Они, советские, «стоят на стороне народных интересов», как они говорят, и следят за действиями правительства, которому «не вполне доверяют».
Со своей точки зрения, они, конечно, правы, ибо какие же это «революционные» министры, Гучков и Милюков? Но вообще-то тут коренная нелепость, чреватая всякими возможностями. Если бы только «революционность» митинга-совета восприняла какую-нибудь твердую, но одну линию, что-нибудь оформила и себя ограничила… но беда в том, что ничего этого пока не намечается. И левые интеллигенты, туда всунувшиеся, могут «смягчать», но ничего не вносят твердого и не ведут.
Да что они сами-то? Я не говорю о Соколове, но другие, знают ли они, чего хотят и чего не хотят?
Рядом еще чепуха какая-то с Горьким. Окруженный своими, заевшими его, большевиками Гиммерами и Тихоновыми, он принялся почему-то за «эстетство», выбрали они «комитет эстетов»[32]32
Комиссия по делам искусств, в состав которой вошли Горький, Билибин, Бенуа, Добужинский, Каратыгин, Лансере, Петров-Водкин, Рерих, Фомин, Шаляпин, Аргутинский-Долгоруков и др. «На совещании было указано на необходимость принять меры по охране брошенных дворцов, представляющих художественную ценность, и всего имущества, находящегося в этих дворцах».
[Закрыть] для украшения революции; заседают, привлекли Александра Бенуа (который никогда не знает, что он, где он и почему он).
Были на эстетном заседании и Макаров, и Батюшков. Но эти – чужаки, а горьковский кружок очень сплочен. Что-то противное, некместное, неквременное. Батюшков говорит, что от противности даже не досидел. Беседовал там с большевиками. Они страстно ждут Ленина – недели через две. «Вот бы дотянуть до его приезда, а тогда мы свергнем нынешнее правительство».
Это по словам Батюшкова. Д.В. резюмирует: «Итак, нашу судьбу станет решать Ленин». Что касается меня, то я одинаково вижу обе возможности: путь опоминанья – и путь всезабвенья. Если не «…предрешена судьба от века», то каким мы путем пойдем, – будет в громадной степени зависеть от нас самих.
Поворота к оформленью, к творчеству пока еще не видно. Но, может быть, еще рано. Вон, со страстью думают только о «свержениях».
Рабочие до сих пор не стали на работу.
7 марта, вторник
Мороз 11° сегодня. Исключительная зима. Ни одной оттепели не было.
Положение то же. Или разве подчеркнуто то же. Сов. раб. и с. издают приказы, их только и слушаются.
В Кронштадте и Гельсингфорсе убито до 200 офицеров. Гучков прямо приписывает это Приказу № 1. Адмирал Непенин телеграфировал: «Балтийский флот как боевая единица не существует. Пришлите комиссаров».
Поехали депутаты. Когда они выходили с вокзала, а Непенин шел к ним навстречу, – ему всадили в спину нож.
Здесь, между «двумя берегами», правительственным и «советским», нет не только координации действий (разве для далекого и грубого взора), но почти нет контакта.
Интеллигенция силой вещей оказалась на этом берегу, т. е. на правительственном, кроме нескольких: 1) фанатиков, 2) тщеславцев, 3) бессознательных, 4) природно-ограниченных. В данный момент и все эти разновидности уже не владеют толпой, а она ими владеет. Да, Россией уже правит «митинг» со своей митинговой психологией, а вовсе не серое, честное, культурное и бессильное (a-революционное) Временное правительство. Пока, впрочем, не Россией, а лишь Петербургом правит; но Россия – неизвестность.
Контакта с вооруженным митингом у нас, интеллигентов правительственной стороны, очень мало и через отдельных интеллигентов-выходцев, ибо они очень охраняют «тот берег».
Есть еще средняя часть, безвластная абсолютно: распыленные эсеры, например. Они «туда» лишь вхожи. Большинство из них просто в ужасе, как Иванов-Ра-зумник и Мстиславский.
Но такое отсутствие контакта – преступная вещь. Сегодня нам в панике звонил Макаров: дайте знать в Думу, чтоб от Сов. раб. д. послали делегатов в Ораниенбаум, на автомобиле: солдаты громят тамошний дворец и никого не слушают.
Любопытно, что П.М.Макаров теперь правительственное лицо: Керенский сделал его комиссаром по охране дворцов (Н.Н.Львов ушел, не желая проводить коренной реформы в ведомстве Двора; что, мол, за революция, лучше просто «беречь гнездо». Хорош. На его место хотят Урусова или Головина Ф.А.). Но хорош и «правительственный» Макаров. Звонит, для контакта с Советом, – нам! Уж, кажется, ни в какой мере не «официальны». Мы бросились к М-х-у[33]33
И.И.Манухину.
[Закрыть], сообщились с Думой через какую-то «комнату» и Тихонова; потом, вечером, Тихонов зашел к нам в переднюю (видела его мельком) сказать, что все было исполнено.
Керенский ездил на днях в Зимний дворец. Взошел на ступени трона (только на ступени!) и объявил всей челяди, что «дворец отныне национальная собственность», благодарил за его сохранность в эти дни. Сделал все это с большим достоинством. Лакеи боялись издевок, угроз; услыхав милостивую благодарность, – толпой бросились Керенского провожать, преданно кланяясь.
Керенский – сейчас единственный ни на одном из «двух берегов», а там, где быть надлежит: с русской революцией. Единственный. Один. Но это страшно, что один. Он гениальный интуит, однако не «всеобъемлющая» личность: одному же вообще никому сейчас быть нельзя. А что на верной точке сейчас только один – прямо страшно.
Или будут многие и все больше, – или и Керенский сковырнется.
Роль и поведение Горького – совершенно фатальны. Да, это милый, нежный готтентот, которому подарили бусы и цилиндр. И все «эстетное» трио по «устройству революционных празднеств» (похорон?) весьма фатально: Горький, Бенуа и Шаляпин. И в то же время, через Тихоно-Сухановых, Горький опирается на самую слепую часть «митинга».
К «бо-зарам»[34]34
Изящные искусства, от beaux-arts (фр.).
[Закрыть] уже прилепились и всякие проходимцы. Например, Гржебин: раскатывает на реквизированных романовских автомобилях, занят по горло, помогает клеить новое, свободное «министерство искусств» (пролетарских, очевидно). Что за чепуха. И как это безобразно-уродливо, прежде всего. В дополнение к уродливому копанью могил в центре города, на Дворцовой площади, для «гражданского» там хороненья сборных трупов, держащихся в ожидании, – под видом «жертв революции». Там немало и городовых. Офицеров и вообще настоящих «жертв» (отсюда и оттуда) родственники давно схоронили.
Дворцовую же площадь поковыряли, но, кажется, бросят: трудно ковырять мерзлую, замощенную землю; да еще под ней; естественно, всякие трубы… остроумно!
В России, по газетам, спокойно. Но и в Петербурге, по газетам, спокойно. И на фронте, по газетам, спокойно.
8 марта, среда
Сегодня как будто легче. С фронта известия разноречивые, но есть и благоприятные. Советские «Известия» не дурного тона. Правда, есть и такие факты: захватным правом эсдеки издали № «Сельского вестника», где объявили о конфискации земли, и сегодня уже есть серьезные слухи об аграрных беспорядках в Новгородской губернии.
В типографии «Копейки» Бонч-Бруевич наставил пулеметов и объявил «осадное положение». Несчастная «Копейка» изнемогает. Да, если в таких условиях будут выходить «Известия», и под Бончем, то добра не жди. Бонч-Бруевич определенный дурак, но притом упрямый и подколодный.
Ораниенбаумский дворец как будто и не горел, как будто это лишь паника Макарова и Карташёва.
Бывают моменты дела, когда нельзя смотреть только на количество опасностей (и пристально заниматься их обсуждением). А я, на этом берегу, – ни о чем, кроме «опасности революции», не слышу. Неужели я их отрицаю? Но верно ли это, что все (здесь) только ими и заняты? Я невольно уступаю, я говорю и о «митинге» и о Тришке-Ленине (о Ленине это специальность Дмитрия: именно от Ленина он ждет самого худого), о проклятых «социалистах» (Карташёв), о фронте и войне (Д.В.) и о каких-то планомерных «четырех опасностях» Ганфмана.
Я говорю, – но опасностей столько, что если говорить серьезно обо всех, то уже ни минуты времени ни у кого не останется.
Честное слово, не «заячьим сердцем и огненным любопытством», как Карташёв, следила я за революцией.
У меня был тяжелый скепсис (он и теперь со мной, только не хочу я его примата), а карташёвское слово «балет» мне было оскорбительно.
Но зачем эти рассуждения? Они здесь не нужны. Царь арестован. О Нилове и Воейкове умалчивается. Похорон на Дворцовой площади, кажется, не будет. Но где-нибудь да будут. От чего – от чего, а от похорон никогда русский человек не откажется.
9 марта, четверг
Можно бояться, можно предвидеть, понимать, можно знать, – все равно: этих дней наших предвесенних, морозных, белоперистых дней нашей революции у нас уже никто не отнимет. Радость. И такая… сама по себе радость, огненная. Красная и белая. В веках незабвенная. Вот когда можно было себя чувствовать со всеми, вот когда… (а не в войне).
У нас «двоевластие». И нелепости Совета с его неумными прокламациями. И «засилье» большевиков. И угрожающий фронт. И… общее легкомыслие. Не от легкомыслия ли не хочу я ужасаться всем этим до темноты?
Но ведь я все вижу.
Время острое – я не забываю. Время страшное. Я не забываю. И все-таки надо же немного верить в Россию. Неужели она никогда не нащупает меры, не узнает своих времен?
Бог спасет Россию.
Николай был дан ей мудро, чтобы она проснулась.
Какая роковая у него судьба. Был ли он?
Он, молчаливо, как всегда, проехал тенью в Царскосельский дворец, где его и заперли.
Вернется ли к нам цезаризм, самодержавие, державие? Не знаю; все конвульсии и петли возможны в истории. Но это всегда лишь конвульсии, лишь петли, которыми заворачивается единый исторический путь.
Россия освобождена – но не очищена. Она уже не в муках родов, – но она еще очень, очень больна. Опасно больна, не будем обманываться, разве этого я хочу? Но первый крик младенца всегда радость, хотя бы и знали, что еще могут погибнуть и мать, и дитя.
В самом советском Комитете уже начались нелады. Бонч безумствует, окруженный пулеметами. Грозил Тихонову арестом. В то же время рекомендует своего брата, генерала «контрразведки», «вместо Рузского». Кого-то из членов Комитета уже изобличили в провокаторстве, что тщательно скрывают.
Незавидное прошлое притершегося к большевикам Гржебина никого не интересует: напрасно…
Звонил французский посол Палеолог: «ничего не понимает» и требует «влиятельных общественных деятелей» для информации. Тоже хорош. Четыре года тут сидит и даже никого не знает. Теперь поздно спохватился. Думает (Д.В.), что к нему не пойдут – некогда. Подчас Временное правительство действует молниеносно (Керенский, толчки Сов. р. д.). Амнистия, отмена смертной казни, временные суды, всеобщее уравнение прав, смена старого персонала – порою кажется, что история идет с быстротой обезумевшего аэроплана.
Но вот… я подхожу к самому главному, чего доселе почти намеренно не касалась.
Подхожу к самому сейчас острому вопросу – вопросу о войне.
Длить умолчаний дольше нельзя. Завтра в Совете он, кажется, будет обсуждаться решительно. В Совете? А в правительстве? Оно будет молчать.
Вопрос о войне должен, и немедля, найти свою дорогу. Для меня, просто для моего человеческого здравого смысла, эта дорога ясна.
Это лишь продолжение той самой линии, на которой я стояла с начала войны. И, насколько я помню и понимаю, – Керенский. (Но знать – еще ничто. Надо осуществлять знаемое. Керенский теперь – при возможности осуществления знаемого. Осуществит ли? Ведь он – один.)
Для памяти, для себя, обозначу, хоть кратко, эту сегодняшнюю линию «о войне».
Вот: я за войну. То есть: за ее наискорейший и достойный конец.
Долой побединство! Война должна изменить свой лик. Война должна теперь стать действительно войной за свободу. Мы будем защищать нашу Россию от Вильгельма, пока он идет на нее, как защищали бы от Романова, если бы шел он.
Война как таковая – горькое наследие, но именно потому, что мы так рабски приняли ее и так долго сидели в рабах, – мы виноваты в войне. И теперь надо принять ее, как свой же грех, поднять ее, как подвиг искупленья, и с не прежней – новой силой донести до настоящего конца.
Ей не будет настоящего конца, если мы сейчас отвернемся от нее. Мы отвернемся – она застигнет и задавит.
Безумным и преступным ребячеством звучат эти корявые прокламации: «…немедленное прекращение кровавой бойни…» Что это? «Глупость или измена?» – как спрашивал когда-то Милюков (о другом). Прекратите, пожалуйста, немедля. Не убивайте немцев – пусть они нас убивают. Но не будет ли именно тогда «бойня»? Прекратить «по соглашению»? Согласитесь, пожалуйста, с немцами немедля. Ведь они-то – не согласятся. Да, в этом «немедля» только и может быть: или извращенное толстовство, или неприкрытое преступление.
Но вот что нужно и можно «немедля». Нужно, не медля ни дня, объявить, именно от нового русского, нашего правительства, русское новое военное «во имя». Конкретно: необходима абсолютно ясная и совершенно твердая декларация насчет наших целей войны. Декларация, прежде всего чуждая всякому побединстеу. Союзники не смогут против нее протестовать (если бы втайне и хотели), особенно если хоть немного взглянут в нашу сторону и учтут наши «опасности» (им же грозящие).
Наши времена сократились. И наши «опасности» неслыханно, все, возрастут, если теперь, после революции, мы будем тянуть в войне ту же политику, совершенно ту же самую, форменно, как при царе. Да мы не будем – так как это невозможно; это само, все равно, провалится. Значит, – изменить ее нужно…
Может быть, то, что я пишу, – слишком общо, грубо и наивно. Но ведь я и не министр иностранных дел. Я намечаю сегодняшнюю схему действий – и, вопреки всем политикам мира, буду утверждать, что сию минуту, для нас, для войны, она верна. Осуществима? Нет?
Даже если не осуществима. Долг Керенского – пытаться ее осуществить.
Он один. Какое несчастье. Ему надо действовать обеими руками (одной – за мир, другой – за утверждение защитной силы). Но левая рука его схвачена «глупцами или изменниками», а правую крепко держит Милюков с «победным концом». (Ведь Милюков – министр иностранных дел.)
Если будет крах… не хочу, не время судить, да и не все ли равно, кто виноват, когда уже будет крах! Но как тяжело, если он все-таки придет и если из-за него выглянут не только глупые и изменнические рожи, но лица людей честных, искренних и слепых; если еще раз выглянет лик думского «блока» беспомощной гримасой.
Но молчу. Молчу.
10 марта, пятница
А дворец-то ораниенбаумский все-таки сгорел, или горел… Хотя верного опять ничего.
Александр Бенуа сидел у нас весь день. Повествовал о своей эпопее министерства «бо-заров» с Горьким, Шаляпиным и – Гржебиным.
Тут все чепуха. Тут и Макаров, и Головин, и вдруг, случайно, – какой-то подозрительный Неклюдов, потом споры, кому быть министром этого нового грядущего министерства, потом стычка Львова с Керенским, потом, тут же, о поощрении со стороны Сов. раб. деп., перманентное заседание художников у Неклюдова (?), потом мысль Д.В., что нет ли тут закулисной борьбы между Керенским и Горьким… Дмитрий вдруг вопит: «Выжечь весь этот эстетизм!» – и, наконец, мы перестаем понимать что бы то ни было… глядим друг на друга, изумившись, раз навсегда, точно открыли, что «все это – капитан Копейкин».
Надо еще знать, что мы только что три часа говорили с другими о совсем других делах, а в промежутках я бегала в заднюю комнату, где меня ждали два офицера (два бывших студента из моих воскресников), слушать довольно печальные вести о положении офицеров и о том, как солдаты понимают «свободу».
В полку Ястребова было 1600 солдат, потом 300, а вчера уже только 30. Остальные «свободные граждане» – где? Шатаются и грабят лавки как будто.
«Рабочая газета» (меньшевистская) очень разумна, советские «Известия» весьма приглажены, и – не идут, по слухам: раскупается большевистская «Правда».
Все «44 опасности» продолжают существовать. Многие, боюсь, неизбежны.
Вот, рядом, поникшая церковь. Жалкое послание Синода, подписанное «8-ю смиренными» (первый «смиренный» – Владимир). Покоряйтеся, мол, чада, ибо «всякая власть от Бога»…
(Интересно, когда, по их мнению, лишился министр Протопопов «духа свята», до ареста в павильоне или уже в павильоне?)
Бульварные газеты полны царских сплетен. Нашли и вырыли Гришку – в лесу у Царского парка, под алтарем строящейся церкви. Отрыли, осмотрели, вывезли, автомобиль застрял в ухабах где-то на далеком пустыре. Гришку выгрузили, стали жечь. Жгли долго, остатки разбросали повсюду, что сгорело дотла – рассеяли.
Психологически понятно, однако что-то здесь по-русски грязное.
Воейков в Думе, в павильоне. Не унывает, анекдоты рассказывает.
«Русская воля» распоясалась весьма неприлично-рекламно. Надела такой пышный красный бант, что любо-дорого. А следовало бы ей помнить, что «из сказки слова не выкинешь» и никто не забудет, что она – «основана знаменитым Протопоповым».
11 марта, суббота
Надо изменить стиль моей записи. Без рассуждений, поголее факты. Да вот не умею я. И так трудно, записывая тут же, а не после, отделять факты важные от неважных. Что делать! Это дневник, а не мемуары, и свои преимущества дневник имеет; не для любителей «легкого чтения» только. А для внимательного человека, не боящегося монотонностей и мелочей.
С трех часов у нас заседание совета Религиозно-Философского Общества. Хотим составить «записку» для правительства, оформить наши пожелания и указать пути к полному отделению церкви от государства.
Когда все ушли – пришел В.Зензинов. Он весь на розовой воде (такой уж человек). Находит, что со всех сторон «все улаживается». Влияние большевиков будто бы падает. Горький и Соколов среди рабочих никакого влияния не имеют. Насчет фронта и немцев – говорит, что Керенский был вчера в большой мрачности, но сегодня гораздо лучше.
Уверяет, что Керенский – фактический «премьер». (Если так – очень хорошо.)
Вечером – Сытин. Опять сложная история. Роман Сытина с Горьким опять подогрелся, очевидно. Какая-то газета с Горьким, и Сытин уверяет, что «и Суханов раскаивается, и они будут за войну, но я им не верю». Мы всячески остерегали Сытина, информировали как могли.
И к чему кипим мы во всем этом с такой глупой самоотверженностью? Самим нам негде своего слова сказать, «партийность» газетная теперь особенно расцветает, а туда «свободных» граждан не пускают. Внепартийная же наша печать вся такова, что в нее, особенно в данное время, мы сами не пойдем. Вся вроде «Русской воли» с ее красным бантом.
Писателям писать негде. Но мы примиряемся с ролью «тайных советников» и весьма самоотверженно ее исполняем. Сегодня я серьезно потребовала у Сытина, чтобы он поддержал газету Зензинова, а не Горького, ибо за Зензиновым стоит Керенский.
Горький слаб и малосознателен. В лапах людей – «с задачами», для которых они хотят его «использовать».
Как политическая фигура – он ничто.
12 марта, воскресенье
С утра, одновременно, самые несовместимые люди. Рассадили их по разным комнатам (иных уже просто отправили).
Сытин, едва войдя, – ко мне: «Вы правы…» Говорил с горькистами и заслышал большевистскую дуду. Полагаю, впрочем, что они его там всячески замасливали и Гиммер ему пел «раскаянье», ибо у Сытина все в голове перепуталось.
Тут, кстати, под окнами у нас стотысячная процессия с лимонно-голубыми знаменами: украинцы. И весьма выразительные надписи: «федеративная республика» и «самостийность».
Сытин потрясался и боялся, тем более что от хитрости способен самого себя перехитрить. Газету Керенского клянется поддержать (идет к нему завтра сам), и в то же время проговорился, что и газету Гиммер-Горький не оставит; подозреваю, что на сотню-другую тысяч уж ангажировался. (Даст ли куда-нибудь, еще вопрос.)
А я – из одной комнаты – в другую, к И.Г.[35]35
Иосиф Владимирович Гессен, адвокат, публицист, редактор газеты «Речь», впоследствии – издатель «Архива русской революции».
[Закрыть] (не нравится он мне, и данная позиция кадетов не нравится; чисто внешнее, неискреннее, приспособление к революции, в виде объявления себя партией «народной свободы», республиканцами, а не конституционалистами. Ничего при этом не понимают, о войне говорят абсолютно старым голосом, как будто ничего не случилось).
Ранним вечером явились В., Г., Карташёв, М. и др. – все с этой «запиской» к Временному правительству насчет церковных дел.
Могу ли я еще что-нибудь? Просто ложусь спать.
13 марта, понедельник
Отречение Михаила Александровича произошло на Миллионной, 12, в квартире, куда он попал случайно, не найдя ночлега в Петербурге. Приехал поздно из Царского и бродил пешком по улицам. В Царское же он тогда поехал с миссией от Родзянки, повидать Александру Федоровну. До царицы не добрался, уже высаживали из автомобилей. Из кабинета Родзянки он говорил прямым проводом с Алексеевым. Но все было уже поздно.
14 марта, вторник
Часов около шести нынче приехал Керенский. Мы с ним все неудержимо расцеловались.
Он, конечно, немного сумасшедший. Но пафотически-бодрый. Просил Дмитрия написать брошюру о декабристах (Сытин обещает распространить ее в миллионе экземпляров), чтобы, напомнив о первых революционерах-офицерах, – смягчить трения в войсках.
Дмитрий, конечно, и туда, и сюда: «Я не могу, мне трудно, я теперь как раз пишу роман "Декабристы", тут нужно совсем другое…»
– Нет, нет, пожалуйста, вам З.Н. поможет.
Дмитрий согласился в конце концов.
Керенский – тот же Керенский, что кашлял у нас в углу, запускал попавший под руку случайный детский волчок с моего стола (во время какого-то интеллигентского собрания. И так запустил, что доселе половины волчка нету, где-нибудь под книжными шкафами или архивными ящиками). Тот же Керенский, который говорил речь за моим стулом в Рел-Фил. Собрании, где дальше, за ним, стоял во весь рост Николай II, а я, в маленьком ручном зеркале, сблизив два лица, смотрела на них. До сих пор они остались у меня в зрительной памяти – рядом. Лицо Керенского – узкое, бледно-белое, с узкими глазами, с ребячески-оттопыренной верхней губой, странное, подвижное, все – живое, чем-то напоминающее лицо Пьеро. Лицо Николая – спокойное, незначительно приятное (и, видно, очень схожее). Добрые… или нет, какие то «молчащие» глаза. Этот офицер был – точно отсутствовал. Страшно был — и все-таки страшно не был. Непередаваемое впечатление (и тогда) от сближенности обоих лиц. Торчащие кверху, короткие волосы Пьеро-Керенского – и реденькие, гладенько-причесанные волосики приятного офицера. Крамольник – и царь. Пьеро – и «шармер». Социалист-революционер под наблюдением охранки – и его величество император Божьей милостью.
Сколько месяцев прошло? Крамольник – министр, царь под арестом, под охраной этого же крамольника. Я читала самые волшебные страницы самой интересной книги – Истории; и для меня, современницы, эти страницы иллюстрированы. Шармер, бедный, как смотрят теперь твои голубые глаза? Верно, с тем же спокойствием Небытия.
Но я совсем отошла в сторону – в незабываемое впечатление аккорда двух лиц – Керенского и Николая II. Аккорда такого диссонирующего – и пленительного, и странного.
Возвращаюсь. Итак, сегодня – это все тот же Керенский. Тот же… и чем-то неуловимо уже другой. Он в черной тужурке (министр-товарищ), как никогда не ходил раньше. Раньше он даже был «элегантен», без всякого внешнего «демократизма». Он спешит, как всегда, сердится, как всегда… Честное слово, я не могу поймать в словах его перемену, и, однако, она уже есть. Она чувствуется.
Бранясь «налево», Керенский о группе Горького сказал (чуть-чуть «свысока»), что очень рад, если будет «грамотная» большевистская газета, она будет полемизировать с «Правдой», бороться с ней в известном смысле. А Горький с Сухановым будто бы теперь эту борьбу и ставят себе задачей. «Вообще ведут себя теперь хорошо».
Мы не возражали, спросили о «дозорщиках». Керенский резко сказал:
– Им предлагали войти в кабинет, они отказались. А теперь не терпится. Постепенно они перейдут к работе и просто станут правительственными комиссарами.
Относительно смен старого персонала уверяет, что у синодального Львова есть «пафос шуганья» (не похоже), наиболее трусливые – Милюков и Шульгин (похоже).
Бранил Соколова.
Дима спросил: «А вы знаете, что Приказ № 1 даже его рукой и написан?»
Керенский закипел.
– Это уже не большевизм, а глупизм. Я бы на месте Соколова молчал. Если об этом узнают, ему не поздоровится.
Бегал по комнате, вдруг заторопился:
– Ну, мне пора… Ведь я у вас «инкогнито»…
Непоседливый, как и без «инкогнито», – исчез. Да, прежний Керенский, и – на какую-то линийку – не прежний.
Быть может, он на одну линийку более уверен в себе и во всем происходящем, нежели нужно?
Не знаю. Определить не могу.
На улице сегодня оттепель, раскисло, расчернело, темно. С музыкой и красными флагами идут мимо нас войска, войска…
А хорошо, что революция была вся в зимнем солнце, в «белоперистости вешних пург».
Такой белоперистый день – 1 марта, среда, высшая точка революционного пафоса.
И не весь день, а только до начала вечера.
Есть всегда такой вечный миг – он где-то перед самым «достижением» или тотчас после него – где-то около.
15 марта, среда
Нынче с утра «земпоп» Аггеев. Бодр и всячески действен. Теперь уж нечего ему бояться двух заветных букв: е. н. (епархиальное начальство). От нас прямо помчал к Львову. А к нам явился из Думы.
Говорил, что Львов делает глупости, а петербургское духовенство и того хуже. Вздумало выбирать митрополита.
Аггеев вкусно живет и вкусно хлопочет.
Вечером был Руманов, новые еще какие-то планы Сытина, и ничему я ровно не верю.
Этот тип – Сытин – очень художественный, но не моего романа. И главное, ничему я от Сытина не верю. Русский «делец»: душа да душа, а слова – никакого.
16 марта, четверг
Каждый день мимо нас полки с музыкой. Третьего дня Павловский, вчера стрелки, сегодня – что-то много. Надписи на флагах (кроме, конечно, «республики»), – «Война до победы», «Товарищи, делайте снаряды», «Берегите завоеванную свободу».
Все это близко от настоящего, верного пути. И близко от него «декларация» Сов. раб. и с. депутатов о войне – «К народам всего мира». Очень хорошо, что Сов. р. деп. по поводу войны, наконец, высказался. Очень нехорошо, что молчит Временное правительство. Ему надо бы тут перескакать Совет, а оно молчит, и дни идут, и даже неизвестно, что и когда оно скажет. Непростительная ошибка. Теперь, если и надумают что-нибудь, все будет с запозданием, в хвосте.
«К народам всего мира» – неплохо, несмотря на некоторые места, которые можно истолковать как «подозрительные», и на корявый, чисто эсдечный, не русский язык кое-где. Но сущность мне близка, сущность, в конце концов, приближается к знаменитому заявлению Вильсона. Эти «без аннексий и контрибуций» и есть ведь его «мир без победы». Общий тон отнюдь не «долой войну» немедленно, а напротив, «защищать свободу своей земли до последней капли крови». Лозунг «долой Вильгельма» очень… как бы сказать, «симпатичен» и понятен, только грешит наивностью.
Да, теперь все другим пахнет. Надо, чтобы война стала совсем другой.
17 марта, пятница
Синодский обер-прокурор Львов настоятельно зовет к себе в «товарищи» Карташёва. (Это не без выдумки и хлопот Аггеева, очевидно.)
Карташёв, конечно, пришел к нам. Много об этом говорили. Я думаю, что он пойдет. Но я думаю тоже, что ему не следует идти. Благодаря нашим глухим несогласиям со времени войны я своего мнения отрицательного к его данному шагу почти не высказывала, т. е., высказав, намеренно на нем не настаивала. Пусть делает как хочет. Однако я убеждена, что это со всех сторон шаг ложный.
Карташёв, бывший церковник, за последние десять лет перелив, так сказать, свою религиозность и церковность, внутренне, за края церкви «православной», отошел от последней и жизненно. Из профессоров Духовной академии сделался профессором светским.
Порывание жизненной этой связи было у него соединено с отрывом внутренним, оба отрыва являлись действием согласным и оба стоили ему недешево. Надо при этом знать, что Карташёв – человек типа «пророческого», в широком, именно религиозном смысле, и в очень современном духе. В нем громадная, своеобразная сила. Но рядом, как-то сбоку, у него выросло увлечение вопросами чисто общественными, государственностью, политикой, в которой он, в сущности, дитя. Трудно объяснить всю внутреннюю сложность этого характера, но свое «двоение» он часто и сам признает.
Теперь, вступая в контакт с «государственной» стороной церкви, в контакт жизненный с учреждением, с которым этот контакт порвал, когда порвал внутренний, – он делает это во имя чего? Что изменилось? Когда?
Наблюдая, слушая, вижу: он смотрит, сам, на это странно; вот этой своей приставной стороной: смотрит «узко политически» «послужить государству» – и точка.
Но ведь он, и перелившись за православные края, относится к церкви религиозно? Ведь она для него не «министерство юстиции»? И он зряч к церкви; он знает, что сейчас внутренней пользы церкви, в смысле ее движения, принести нельзя. Значит, урегулировать просто ее отношения с новым государством? Но на это именно Карташёв не нужен. Нужен: или искренний, простой церковник, честный, вроде Е.Трубецкого, или, напротив, такой же прямой – дельный и простой – политик, не Львов, Львов – дурак.
И то, если б стать обер-прокурором… «Товарищем» же Львову, человек такой самобытной и громадной ценности, притом столь мучительной и яркой сложности, как Карташёв, – это со всех сторон затмение, самоизничтожение. Даже грубо смотря – жалко: он худ, остр, тонок, истеричен, проникновенно-умен, порывист – и сдержан, вибрирует, как струна, слаб здоровьем; нервно-работоспособен; при неистовой его добросовестности погрязнет дотла в государственно-синодально-поповских делах и делишках.
И во всяком случае будет потерян для своего, для глубины, для своей сущности.









































