Читать книгу "Дневники"
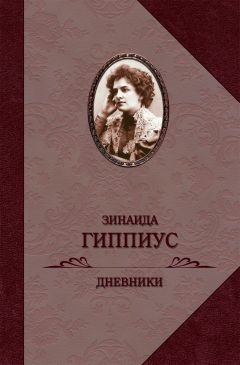
Автор книги: Зинаида Гиппиус
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Вчера, 17 октября, в воскресенье, Савинков уехал с Балаховичем в его отряд. Кажется, в Пинск. Балахович был у нас вчера же утром. В пятницу я видела Савинкова в последний раз, на ужине в Римской гостинице. Я была одна, ибо Дмитрий простужен. Обо всем в деталях потом, сейчас записываю лишь числа для памяти. Прелиминарный мир Польши с большевиками подписан в понедельник. В субботу, 16-го, я была на последнем (для нас, ибо мы уезжаем в Париж 20-го) заседании Русско-Польского общества у графа Тышкевича. Приехавший накануне от Врангеля Гершельман делал доклад. Дима с 6-го в Париже. Вызван назад спешно, мы разъедемся, вряд ли увидимся.
Последнюю неделю в Минске мы прожили сравнительно тихо, Дмитрий готовил лекцию о Мицкевиче.
Эту лекцию Пушкинская библиотека уже не взяла на себя устраивать – за наше полонофильство. Взял частным образом доктор Болоховец и милый, тихий молодой еврей – Тевель Черный (немножко поэт).
Иван Николаевич Дудырев, молодой бобруец полутолстовского типа (он в Бобруйске спасал нас в проклятой «контрольной станции»), последовал за нами преданно в Минск. Пристроился в передней около «матушки» (вот халда, не тем будь помянута!) и уже стал тихо мечтать о монашестве. Я в шутку стала звать его «сыном женского монастыря», как бывает «дочь полка».
Так мы жили. Утром, бывало, матушка игуменья в коридор, голосом торговки ругается, разносит монашек, а под вечер приезжает Мелхиседек и начинаются, под его аккомпанемент на фисгармонии, акафисты Иисусу Сладчайшему – длинно-длинно, нежными женскими голосами.
Мы с Дмитрием были на торжественной всенощной, накануне престольного праздника нашего монастыря.
Я понимаю интуитивное обожание, которое вызывает к себе Мелхиседек. Его голос, его возгласы напомнили мне очень живо… Андрея Белого, когда он, бывало, читал стихи. Он их пел. Так же поет и Мелхиседек, – только божественные слова. Он служит всенощную как мистерию. А когда в конце вышел в голубой мантии, шлейф которой несли за ним к выходу, то и вправду было поразительно.
Болезненный Мелхиседек неутомим. По 6–8 часов на ногах в долгих службах.
Любит стихи. Очень был рад, когда я ему собственноручно списала те, которые читала у него на вечере. Очень трогательно боится своего воспитания и заботился, как бы ему с нами не показаться «кутейником». Я знаю это. Но он очень культурен религиозно. Очень хорош, каков есть.
После лекции Д.С. о Мицкевиче (тоже совершенно полной и в присутствии польских представителей власти) мы решили уезжать. Нас уговорили ехать через Вильно, чтобы там повторить все лекции.
Поляк Ванькович обещал нас с Дмитрием поместить у себя. Желиговский устроил удобный проезд.
В поезде мы встретились с француз…
_________________________
Это пишу в Париже, 1 ноября. В нашей старой, чудом сохранившейся квартире. Мы выехали 20 октября в среду утром. Диму видели, только что вернувшегося, час у нас и на вокзале. Обо всем потом. Теперь продолжаю дальнейшее, пока не забыла.
_________________________
…с французским полковником Бельграном. Потрясла чуждость европейца. Мы – еще дикие, еще «оттуда», а он говорит как ни в чем не бывало. Говорил с нами, как будто мы – просто… Утешал: «Вы забудете, вот придет весна…» Говорил о Леонардо да Винчи.
И ведь милый человек!
В Вильне мы сначала остановились в гостинице, – грязной, разрушенной, как все. Дима с Володей там же, в другой комнате, очень далеко от нашей с Дмитрием.
Тотчас же начались приготовления к лекции. И прихождения всяких людей. Поляков и русских. Явился Ванькович, и дня через три мы с Дмитрием переехали к нему на квартиру, в две очень приятные комнаты как раз напротив гостиницы, где остались Дима и Володя.
Русских в Вильне почти не помню, помню польское общество. Мариянн Здеховский, профессор теперь Виленского университета, устраивал у себя постоянные, очень интересные, собрания. Собственно, только с Вильны мы начали понимать польское общество и польские настроения. Хотя это были круги скорее правые, но все это надо было группировать иначе, не по-российски, а как-то по-новому. Приходилось считаться с несколько странной ситуацией. Правительство (Пилсудский) – левое, страна молодая, разоренная вдруг войной, едва возникающая: традиции старые, дворянство старое, древняя ненависть к России-поработительнице; всеобщий патриотизм и – антисемитизм.
Разобраться было очень трудно, ибо везде мы наталкивались на противоречия: но раз поняв общее, – уже просто оказывалось брать частное.
У Мариянна Здеховского бывали прелаты и ксендзы. Католичество в Польше играет очень важную роль. Антисемитизм частью питается и католичеством.
Тут оказалась и наша старинная приятельница – Стазя Грузинская. Уже католической монахиней (в светском платье). И униат о. Диодор, тоже бритый ксендз уже, с виду мальчик. Стазя сидела долго в большевицкой тюрьме, за христианское рабочее братство, сидела вплоть до прихода поляков.
Стазя познакомила нас с американцами (мистер Филипс).
Наша общая лекция была прочитана в громадной, длинной зале с колоннами, при таком стечении публики, что выломали стеклянную дверь, был шум и полицмейстер каждую минуту выбегал.
Я читала только стихи, и то с громадным физическим напряжением – голоса не хватало.
Вторая лекция, Дмитриева, о Мицкевиче (я опять на ней не была, опять ангина) – уже чисто польская – попала под бойкот еврейского общества. Все билеты в той же гигантской зале были заранее раскуплены, так что не попало много поляков, а зала, говорят, была на треть пустая.
Таким образом, Дмитрий уже сделался поводом раздора между поляками и евреями.
Собрания у Здеховского продолжались вплоть до нашего отъезда в Варшаву.
В Минске мы познакомились с очень милым, благородным французом, членом военной миссии, д'Обиньи, через которого сносились с Парижем. Мы знали, что Савинков еще и не думает ехать в Варшаву.
Любимова, сестра Тугана-Барановского, бывшая варшавская губернаторша, ныне дама-патронесса в разных «Крестах», – дала нам знать, что труднейший квартирный вопрос она нам разрешает, приготовив «deux petites chambres mauvaises»[63]63
Две маленькие плохонькие комнаты (фр., лат.).
[Закрыть] (sic) в гостинице Краковской.
Что касается Юзика Чапского, то он уж лишился надежды нас устроить.
В Вильне с Димой у меня были наилучшие отношения. Он сам был очень угнетен. То, что и тут мы были разделены, то, что у него не было своего угла (жил с Володей), – действовало скверно. Когда он приходил к Ваньковичу, к нам, и тут не было нам возможности поговорить. В первой комнате, в громадной гостиной, всегда сидел Дмитрий, а в дальней, в спальне, тоже было неспокойно.
Я помню, как однажды, зайдя за нами, Дима задержался со мной в дальней комнате. Дмитрий стал его звать, спрашивает, что же он там? На что Дима сердито ответил: «Да ничего. Я Зину два дня не видел, не могу я с ней минутку остаться!»
Мне он только и успел сказать, что ему «очень гаденько». В Вильне уже снег не лежал. Была грязь по колено, ветер, дождь.
Из Вильны в Варшаву мы в первый раз ехали в почти нормальном спальном вагоне, как прежде! Удивлялись и боялись.
Это было, кажется, в середине февраля. Жаль, не помню дат.
Мы приехали в Варшаву в солнечное, ветреное, сухое и холодное утро.
Краковская гостиница на Белянской (в еврейском квартале) оказалась не особенно лучшим притоном, чем корчма Янкеля в Жлобине. Все относительно, впрочем.
Нас долго не хотели пускать, наконец, благодаря еврею, фактору Любимовой, дали комнату для двух, обещая (уклончиво) к вечеру и другую. Пока же мы поместились в ней четверо. К счастью, был день.
Дмитрий с Володей поехали в Центро-Союз, где, как нас известили в Вильно, были получены деньги от Bonnier[64]64
Издательство в Стокгольме.
[Закрыть] (спасительный аванс за книгу о большевизме), а мы с Димой вышли на улицы Варшавы.
Улицы были чисты от снега и сухи. Незнакомая Варшава казалась нам чужим и неприятным Парижем. Было странно и тяжело.
Расстояния казались такими крошечными. Движение – ненормальным.
Мы вышли на Краковское предместье. Купили что-то в аптекарском магазине. Потом пошли искать Любимову. Она оказалась тут же, против почты с глобусом наверху.
Ее квартира возбудила во мне зависть. Но какую-то равнодушную. В общем, нам давно стало все равно – внешнее.
Сама Любимова оказалась не той сестрой Тугана-Барановского, которую мы знали. Необыкновенно толстая (уже за пределами простой «роскоши») подкрашенная дама, болтливая до крайности, но по всем видимостям весьма «деловая», что называется «бой-баба». Она и в Комитете, она и в Кресте, она и с американцами, она и с евреями, она – везде.
Пригласила нас к себе – «знакомить» со всеми.
Мы сразу почувствовали, что тут разные сложности и общая чепуха.
К вечеру мы еще были в той же нашей несчастной комнате вчетвером. Пришел Юзик Чапский. Милая, нелепая дылда, тонкий солдат (он был за год офицером, потом, по толстовским идеям, ушел, тогда и был у нас в СПб… – потом опомнился и снова пошел на войну, но еще не в свой полк, а пока – солдатом). Удивительно приятный, милый, глубокий ребенок-мечтатель, типичный поляк, с лучшими их чертами.
Влюблен в Пилсудского.
Попытки его устроить нас в пансионе не увенчались успехом.
Поздно вечером Диме и Володе дали в гостинице большую комнату на другом конце холодного и вонючего коридора, № 35. Мы с Дмитрием остались в первой от лестницы, 42.
В этом номере, с двумя кроватями, с грязным умывальником и единственным столом, с окнами, выходящими на шумную еврейскую улицу со скрежещущим трамваем, с криками евреев за тонкой стенкой в коридоре, где, кстати, висел еще телефон, – мы прожили с Дмитрием вдвоем безвыходно до половины мая, т. е. больше двух месяцев. Здесь же мы готовились ко всем нашим лекциям. И здесь же принимали всю толпу разнообразного народа – русских, поляков, интервьюеров, послов, людей всех положений и всех направлений.
Кофе утром я варила сама. Володя приносил нам хлеб и молоко из нижней еврейской кофейни-Студни, где они с Димой сидели утром. Бледный, наглый кельнер приносил нам в 3 ч. обед (Дима обедал где-нибудь в городе), а вечером тот же Володя опять из кофейни – яйца. В комоде ночью мыши с гвалтом поедали крошки и пытались откупоривать банку с конденсированным молоком.
После обеда Дмитрий уходил на час отдыхать в 35-й номер, а мы обыкновенно оставались праздно втроем в 42-м, я, Дима и Володя. Это принужденное сидение без дела и возможности одиночества вспоминается мне наиболее тяжело.
Я не буду, да и не могу вспоминать здесь подробно эти месяцы. Я постараюсь наметить их главную, общую черту. И поставить главные вехи, отметить наши этапы.
Собственно, были две линии: русская и польская. В Варшаве – Русский комитет и русский агент – Кутепов. Он был ставленник и представитель парижского Сазонова, ненавистного всем без изъятия и находившегося тогда накануне отставки. Русский комитет тоже был в стадии кризиса: Искрицкий уходил, делами заведовал некто Соловьев…
Вскоре после нашего приезда Русский комитет пригласил нас всех на торжественное заседание. Мы там без стеснения гнули свою линию. К удивлению, среди невинной, раздражающей чепухи Семенова и еще кого-то вроде, весь комитет с председательствовавшим Соловьевым присоединился к нам. Генерал Симанский, довольно оборванный старик, проявил даже некий пыл, так что я потом полушутливо говорила: вот и генерал находится, о котором мы в Минске с Желиговским заботились. Чем было бы не «правительство», за неимением лучшего: писатель Мережковский (был же пианист Падеревский!), а генерал – Симанский! Дима, однако, не забыл, что об этом Симанском есть слух, будто он в Пскове тяпнул хорошенькую сумму и удрал.
На этом заседании мы старались выяснить, какой позиции держался приезжавший сюда Савинков. Соловьев сказал, указывая на меня и Дмитрия:
– Вот на этом месте сидел Савинков, на этом Чайковский. И говорили они совершенно противоположное тому, что говорите вы.
Мы не спешили с нашими лекциями. Хотели сначала присмотреться к Польше, понять расположение шашек.
Отношение к русским, – не к нам лично, а вообще, – было, действительно, неважное. Впрочем – слишком это было естественно. Не говоря о прошлом, – и здешние русские были сами неважные, да и вели себя из рук вон плохо. О глупом Кутепове, «официальном» представителе (?), я уже говорила. Польское правительство смотрело на него крайне недоброжелательно, едва его терпело. Он ровно ничего не делал, да был и неспособен, и бессилен.
Имя Дмитрия, помимо целой кучи всяких интервьюеров, корреспондентов и т. д., скоро привлекло к нам польскую аристократию, всяких контов и контесс, а также посланников и посланниц. Помогали нам и обрусевшие поляки (сделавшиеся теперь самыми польскими поляками). Милейшее дитя, добрый и нелепый москвич Оссовецкий, знающий всю Варшаву, невинный снобист, – enfant terrible, – очень был хорош. Надо сказать, что почин Русско-Польского общества принадлежит ему.
Но об этом потом.
Положение было таково, что, например, граф Тышкевич, в первые свидания с нами, не говорил иначе как по-французски. И Дмитрий долго обсуждал с ним, не читать ли ему свою первую лекцию, о Мицкевиче (он хотел сделать ее первой), на французском языке. Этот же
Тышкевич, ныне председатель Русско-Польского общества, со смехом вспоминал последнее время наши сомнения. Говорит он по-русски как русский.
Лекция, наконец, была прочитана, – по-русски, – имела громадный успех. Присутствовал весь цвет польского общества, с контессами и с – военными кругами. (Лекции наши были на Корове, в небольшой, белой, полукруглой зале Гигиенического общества.)
Надо сказать, что в Польше очень мало единства. Аристократические круги, естественно, более правые. Очень сильна партия низов, так называемая П.П.С.; она не правительственная, но полуправительственная, ибо из ее истока – Пилсудский. Но, как казалось, этот умный молчальник от нее уже стал освобождаться, опираясь, главным образом, на военные круги, на армию, где имел громадное личное обаяние.
Влюбленный в него (издали) Юзик Чапский старался соединить нас с его кругами. Привел к нам однажды Струка, очень приятного, тихого, – но, кажется, хитрого, – польского писателя, друга Пилсудского. Но из двухчасовой беседы с ним мы вынесли мало определенного.
В Польше ощущение ненадежности, нестроения, разорения; и все же та степень устойчивости, которая поражает, если вспомнить, что Польша перенесла во время войны, как недавно она существует, – да еще при непосредственном соседстве с большевиками. А они на пропаганду не скупятся.
Близость большевиков порою действовала на нас физически. Например, непрерывные, иногда совсем неожиданные забастовки. Помню, как мы раз вышли вечером, чтобы идти к Лесневскому (тоже один «русский» поляк, женатый на русской, милый и скучный неврастеник).
Была электрическая забастовка, кишащая темным народом, улица такое впечатление производила, что Дима внезапно повернул назад: «Не могу!» И вернулся бы, если б не уговоры Чапского и не то, что я его чуть не насильно потащила вперед.
Когда мы возвращались – огни уже пылали. И странно был освещен пустой, безкрестный собор внутри: забыли погасить, и он, запертый, зажегся ночью, когда кончилась забастовка.
Хотя то, что ни у меня, ни у Димы не было своего угла и мы почти по-настоящему не «виделись», очень плохо действовало, – я не могу сказать, чтобы мы в это время были не вместе. Ко всем контессам и послам он не ходил с нами, больше нас был с русскими, но во всей большевицкой и польской линии мы были заодно и всякие свидания более или менее важные происходили у нас сообща.
Бывали мы у профессора Ашкинази, ловкого еврея-ассимилятора, близкого к правительственным кругам. Ведь надо учитывать силу польского антисемитизма. Он в аристократии – и в народе. Левое правительство, близкое к П.П.С.-ам (а в этой социалистической партии немало Перлов и Диамантов, а газета ее «Robotnik» то и дело впадает в большевизм, однако – патриотичный!), – правительство это единая защита евреев. У Ашкинази мы видели и директоров театра – и министра Патека, и писателей – и генералов. Ашкинази – черт его знает, хитрый и неприятный, однако защищал как будто нашу позицию и был яростно против мира Польши с большевиками.
(Между прочим: у этого Ашкинази оказалось наше письмо Керенскому, после корниловской истории, где мы убеждали его скорее «отказаться от престола». Запечатанное моей печатью. Кто-то ему привез после разгрома Зимнего дворца.)
Упорно работая в польском общественном мнении против большевиков и мира с ними, долбя все по тому же месту, мы ждали Савинкова. Я писала ему длинные письма – Дима приписывал. Из его ответов казалось, что он все понимает, как мы, – но что-то мешает ему ехать. В это время ликвидировался Деникин, что на нас не производило никакого впечатления, ибо мы, из Совдепии, с лета 19 года видели его гибель. Нужно было другое, совсем другое, и скорее, и отсюда именно, из Польши…
Каждый день нам носили какие-нибудь карточки, кто-нибудь просил свидания. Раз – не помню точно, было это в конце февраля или в начале марта, – слуга из гостиницы сказал, что нас просит о свидании генерал Балахович. Он проездом, остановился в Краковской, хочет нам дать какие-то «документы».
Вспоминаем всякие слухи, проклятия большевиков, Юденича, Псков, все непонятное, темное, – и я с интересом настаиваю на Балаховиче.
В сумерки он является.
Мы были сначала все трое, но через час Дима ушел, а Дмитрий и уходил, и опять приходил, утомленный. Я сидела все время – часа четыре, если не больше.
Небольшой, совершенно молодой, черненький, щупленький и очень нервный. Говорил все время. Вскакивал, опять садился.
– Я ведь не белый генерал… Я зеленый генерал. Скажут – авантюрист? Но борьба с большевиками – по существу, авантюра. У меня свои способы…
И его способы, чем далее он говорил, тем более казались мне разумными, единственно действенными, ибо тоже большевицкими.
– Только мой один отряд Эстония выпустила вооруженным. Мои люди отказались разоружаться. В апреле я с ними опять иду на большевиков. Мне все равно, хоть один – но на них. Поляки возьмут меня. Отряд уже в Брест-Литовске, я увижусь с Пилсудским и еду тотчас в отряд. Потом опять вернусь. Я белорус, католик, но я сражался за Россию, и я буду делать русское дело…
Да, он мне показался нужным, хотя, быть может, и страшным, если на него одного положиться и оставить его распоряжаться. Он – орудие, он – молот, чудесно приспособленный к большевицким лбам, но какая крепкая рука может держать этот молот?
Балахович – интуит, дитя и своевольник. Ненависть его к большевикам – это огненная страсть. Но при этом он хитер, самоуверен и самолюбив. Он совсем не «умен», но в нем есть искорки гениальности, угадки какой-то. Он, конечно, «разбойник и убийца», – но теперь, по времени, после этих лет сплошной крови, и когда над Россией сидят короли разбойников и убийц, – не страшнее ли, не греховнее Сережа Попов, нежный толстовец?
Балахович во всяком случае генерал «с изюминкой».
Долго и спутанно рассказывал, как он арестовывал Юденича. Понять в этом историческом рассказе я ничего не поняла, или мало, но всей душой была на стороне Балаховича, а не Юденича.
До мая мы прочитали две общие лекции и две прочел Дмитрий, не считая сообщений в частных кружках. Все лекции – битком, и отношение очень хорошее. Дима на этих общих лекциях читал вялее всех. Он естественно тянулся к русским. Вскоре он был выбран председателем Русского комитета.
Помню, как в солнечный теплый день мы ехали с ним в кружок мессианистов (на Польную) и дружески рассуждали. Дима говорил, что эта работа его не свяжет, что это дело попутное и нечего бояться, что он «засосется», как я говорила, в мелочи русского болота. Это все только «пока».
«Мессианисты»… тут много своеобразно-любопытного, но мне некогда останавливаться…
Знакомство с Булановым и Гершельманом… Из русских это были единственные, с которыми мы как-то сразу почувствовали схождение и возможность будущей работы.
Мы думали тогда уже о собственной газете. Единственная русская газета в Варшаве была «Варшавское слово». Мы уже в Минске знали, что ее называют «поганкой». Заведовала ею темная личность, какой-то еврей Горвиц, газета большевичнила вовсю. Мы не могли понять, как ее не пристукнут, но Горвиц, оказывается, услужал правой партии, или вроде – «страже крессовой», ею был и субсидируем.
Горвиц этот однажды вполз к нам в комнату, ругал (пытался) Савинкова, а когда мы с ним обошлись крайне холодно, принялся в газете ругать и нас, хотя с опаской.
Итак – толки о газете с поляками, у Оссовецкого. Тут и было зарождение Польско-Русского общества.
Вендзягольский приехал из Парижа. Привез еще письмо от Бориса. Он писал, что «вполне с нами». Что когда был в Варшаве, то «согласился с Пилсудским» (подчеркнуто). Но что Чайковский поехал к Деникину, и до его возвращения и его информации «ехать в Варшаву нет смысла».
Мы этого не понимали (какой еще Деникин!), и Вендзягольский, хотя сразу показался нам хлыщеватым, соглашался с нами.
Вскоре через него же прочитали мы и отчаянную информацию с юга Чайковского.
А Борис все-таки не ехал!
Наступила жара. Мы все еще томились в грохочущей и вонючей комнате Краковской гостиницы. И даже потеряли надежду из нее вырваться. В это время милый Чапский, глядя на измученного Дмитрия и Диму, стал умолять нас поехать отдохнуть в имение Пшевлоцких, мужа его старшей сестры, – в Морды. (Вся семья Чапского, его сестры – это особая прелесть.)
Я, конечно, хотела больше всего увезти измученного Диму. Но он нервничал и все мрачнел; чувствовалось, что держится он и сутолокой, делами, работой (положим, и я тоже), чувствовалось, что не поедет.
Раз Чапский по-детски описывал, как в Мордах хорошо, как теперь там цветут сирени… Дима вдруг вспылил, закричал:
– Не могу я, не нужны мне эти графские сирени!
И я поняла, что его надо оставить.
О Мордах у меня главное воспоминание – сирени, сирени, и день, и всю ночь напролет пенье соловьев в этих сиренях. Милая, нежная, как ветка сирени, – Рузя, младшая сестра. Красивая Карла, в предчувствии материнства. Помещичий быт польских аристократов.
Но как я понимала Диму! Разве можно «отдыхать», разве можно – нам «отдыхать»?
Единственно, что меня кое-как поддерживало, – усиленная работа над нашей запроданной книгой о большевизме Швеции. В Мордах я только эту работу начала и – почти кончила. (Кончила совсем – в Данциге! В Варшаве не написала ни строки!)
Долго сидеть в Мордах не приходилось уже потому, что готовилось торжественное событие – первый ребенок Карлы. Но мы и без того уже назначили день отъезда, ибо Дима писал, что в Варшаву приехал Родичев и, главное, посланец от Савинкова – Деренталь, который должен переговорить с Пилсудским и дать знать Борису, когда приезжать. Этого Деренталя мы не знали раньше. Дима о нем писал: «Человек серый».
Явно какой-нибудь из Борисовых «Флегонтов Клепиковых», если так.
С газетой, писал Дима, дело на мертвой точке. Две разные группы ее хотят и не могут сговориться. Горвиц лез и к Диме, «держал себя с последним унижением», но и Дима отверг эту «гадину».
Вообще Дима звал нас, говорил, что нанял нам 2 комнаты у евреев, себе где-то далеко у немки, Володя должен был оставаться в Краковской.
Окончательно мы разделились.
За несколько дней до нашего отъезда, когда в доме никого не было, кроме нас, ибо муж Карлы и Рузя уехали в этот день в Варшаву, – Карла внезапно взяла да и родила!
Утром нам объявил старый слуга: родилась девочка. Даже доктор не успел приехать, даже акушерка из Седлица!
Мы были весьма сконфужены.
Конечно, телефон, телеграммы, к вечеру прилетел Генрих (муж) с Рузей, скоро Марыня, потом другие… Юзик был на фронте.
Это случилось, кажется, 13 мая. А во вторник, 17-го, мы, простившись с больной Карлой и младенцем (его сняли на руках у Дмитрия), уехали в Варшаву. С нами ехала и Марыня.
Дима нас ждал на нашей новой квартире, на Крулевской, 29-а, против самого Саксонского сада, у евреев Френкелей.
Отсюда начинается наша новая варшавская фаза и, лично для меня и Дмитрия, самая важная.
14 ноября, воскресенье, Париж
Сегодня, после очень скверных известий о Крыме из-под руки (газеты печатали, что Врангель спрятался за Перекоп «без потерь», а Перекоп неприступен) – сказано, что Врангель весь провалился, большевики прорвались в Крым, откуда все хлынуло на пароходы, и сам Врангель будто бы уже в Константинополе. Вчера Евгения Ивановна* приносила два письма от Савинкова – откуда-то из-за Пинска. Очень бодрое. В обоих – «Я уверен, что мы дойдем до Москвы». «Крестьяне знают, что идем за Россию не "царскую и барскую"». «В окрестных деревнях 3 тысячи записались добровольцами». «Как отсюда ничтожны все Маклаковы» (да и отсюда тоже, прибавила я, читая). И ясно, пишет еще, что «Рангель» – по выговору крестьян – непременно провалится.
Зильберберг, жена Б.Савинкова.
Хорошо, но что могут сделать Савинков и Балахович – одни! У большевиков 1) такая база, 2) неограниченное число человечины, 3) всемерная помощь немцев, и тактика их, и тяжелые орудия. Как бы ни был прав и свят Савинков (?), какой бы ни был дух у них, – у большевиков пушки…
За них и Англия. Против одна Франция, но и то платонически и надвое: как она смогла допустить, чтобы Польша заключила мир? Ведь это же абсурд, если признаешь Врангеля! Ведь ни большевики, ни мы не скрывали: если Польша даст им «передышку» – они кинут все на Врангеля.
Ну, дойдет очередь и до Польши. Продала себя за… даже не за золото большевиков, а за их золотые обещания.
Нет, довольно. Пусть теперь соединяется с ними Ллойд-Джордж, пусть их признают, пусть они расползутся по всей Европе, пусть, пусть!
С немцами рука об руку они «научат Европу уму-разуму», как сказал Троцкий. А под конец проучат и своих помощников самих.
Я давно не выхожу, больна. Однажды обедала у Пети.
От Димы за все время одна несчастная телеграмма – «сложное положение…», «видел Пилсудского»… Какой кошмар это молчание!
Была в Версали – у Зины Р.[65]65
Зинаида Ратькова-Рожнова.
[Закрыть] Приехала курочка Амалия.
Здесь вообще кошмар и скандал – эта русская колония…
Делать ничего нельзя.
«О, эти сны! О, эти пробужденья!..»
Итак – с 17 мая мы с Дмитрием на Крулевской, 29-а.
Я – в большой комнате с балконом на улицу, – на противоположной стороне густые, душистые купы деревьев Саксонского сада (а на улице, к сожалению, опять скрежещущий трамвай). Но очень высоко (ужасная лестница) и потому все-таки лучше. Моя комната – бывшая гостиная бывше-богатых евреев. Ломберный стол посередине, где еврейская горничная, рыжая Маня, вечером подавала нам простоквашу и вареники, а днем я, разливая чай из толстого чайника, вскипяченного на газе, умоляла бесчисленных гостей не облокачиваться чересчур.
(Оссовецкий-таки раз, в конце концов, свалил все и маленький чайник разбил.)
В углу – маленькая, проваленная кроватка с красной периной. Я ее утром сама убирала и закрывала коврами, которые дала мне дочка-жидовочка Мальвина.
Дмитрий – в маленькой комнатке напротив, через переднюю. У него такая же кровать (обе с клопами) и оттоманка.
В моей комнате – ощущение света (солнце с 5 часов) и приятной жары.
И каждый день – людей, людей! Но уже совсем не тот беспорядочный навал случайных – всяких дам, интервьюеров и поляков, как было в Краковской: в известном смысле Дмитрий, как новинка, закатился. Но зато здесь почувствовалось другое; гораздо больше толку.
Люди у нас начинали уже группироваться – «повторяться». Буланов, Гершельман (Дима их тоже присоединил к комитету), Родичев, который непреодолимо мил, добр, честен, но глуховат, притом несколько «сел на ноги», по выражению Димы. Полонофил, – но все-таки «кадет», да еще приехавший из оглупевшей Европы, – он нуждался в большой и, главное, неустанной «обработке». Дима уж тут без нас постарался – мы подхватили.
Случайные люди, «розовые», бывали, конечно, – но куда реже. И деловые.
Деренталь, стертый блондинчик довольно симпатичного вида с обвязанной шеей (его варшавский парикмахер заразил какими-то нарывами), – жил бездейственно, дожидаясь возвращения Пилсудского с фронта (а он вернулся только 17-го, в один день с нами, и когда мы ехали, – мы везде видели еще не снятые гирлянды «встречи», как на станциях от Седлеца, так и в Варшаве).
Деренталь, как выяснилось, был, действительно, Борисов «преданный», но появившийся уже как-то в более последний период. Сам по себе – он средний эмигрантский памфлетист, – вообще «писатель», – даже писал в «Русских ведомостях», – из Испании.
О других его связях с Борисом скажу потом, а пока я узнала, что Деренталь, да еще с женой, сопровождал Бориса по Совдепии весь предпоследний год; был сначала в Москве, потом проделал Ярославское восстание, потом, когда Борис чуть не умер от холеры в имении адмирала Одинца, – жена его («типичная парижанка», как говорит Деренталь) ухаживала за ним; затем они очутились в Сибири; наконец оттуда вместе, на пароходе, в Париж, обогнув чуть не весь земной шар.
Деренталь рассказывал мне о последнем годе Бориса:
– О, вы теперь его не узнаете; он сделался таким дипломатом. Так со всеми любезен. Нет следа его прежней резкости.
Нам очень хотелось ему верить. Помня Бориса-оди-ночку, со слишком явным сампрандерством (все дело в «явности»), которое всех от него бессмысленно отталкивало, – мы радовались, что он сумел приобрести нужную сейчас гибкость.
Но когда мы хотели определенно понять, кто с ним в конце концов, есть ли целая группа, – оказывалось, что как будто нету никого. Чайковский? Да, может быть. Или отчасти. Маклаков? Львов? Или кто?
Но если и никого, – то, быть может, виноват не Борис, а состояние парижской эмиграции, безнадежность которой мы уже понимали?
Относительно Польши – суть январского приезда Бориса и теперешние полномочия Деренталя – мы не скоро все это уразумели благодаря привычно конспиративным приемам Деренталя. Но оказалось, что у Бориса с Пилсудским был письменный проект соглашения, очень выгодного, с пунктом, что Польша обязуется содействовать свержению большевиков «в течение 20 года».
Если Борис при этом еще не терял все время контакта с Пилсудским, чего же он до сих пор не ехал?
Надо сказать, однако, что как раз в это время была история Польши с Украйной, неожиданное соглашение Пилсудского с Петлюрой и взятие поляками Киева.
Его взяли еще в начале мая. Пока был успех – шипели мало, а чуть дела на юге стали шататься – поднялся гвалт против «украинской авантюры» и в самой Польше; что же касается нашей русской несчастно-преступной эмиграции, то она завела себя поистине неприлично…
Родичев, впрочем, уже и в это время, вдруг вскипая, начинал тыкать пальцем: «…а сог-соглашение… сс этим рразбойником… с Ппетлюрой… этто што??»









































