Читать книгу "Дневники"
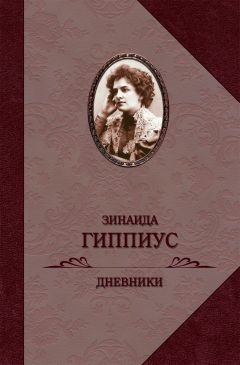
Автор книги: Зинаида Гиппиус
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Что пишется в официозах – понять нельзя. Мы и не понимаем.
И никто. Думаю, сами большевики мало понимают, мало знают. Живут со дня на день. Зеленая армия ширится.
Дизентерия, дизентерия… И холера тоже. В субботу пять лет войне. Наша война кончиться не может, поэтому я уже и мира не понимаю.
Надо продавать все до нитки. Но не умею, плохо идет продажа.
Дмитрий сидит до истощения, целыми днями корректируя глупые, малограмотные переводы глупых романов для «Всемирной литературы». Это такое учреждение, созданное покровительством Горького и одного из его паразитов – Тихонова для подкармливания будто бы интеллигентов. Переводы эти не печатаются, да и незачем их печатать. Платят 300 ленинок с громадного листа (ремингтон на счет переводчика), а за корректуру – 100 ленинок.
Дмитрий сидит над этими корректурами днем, а я по ночам. Над каким-то французским романом, переведенным голодной барышней, 14 ночей просидела.
Интересно, на что в Совдепии пригодились писатели. Да и то, в сущности, не пригодились. Это так, благотворительность, копеечка, поданная Горьким Мережковскому.
На копеечку эту (за 14 ночей я получила около тысячи ленинок, полдня жизни) – не раскутишься. Выгоднее продать старые штаны.
Ощущение лжи вокруг – ощущение чисто физическое. Я этого раньше не знала. Как будто с дыханием в рот вливается какая-то холодная и липкая струя. Я чувствую не только ее липкость, но и особый запах, ни с чем не сравнимый.
Сегодня опять всю ночь горело электричество – обыски. Верно, для принудительных работ.
Яркий день. Годовщина (пять лет!) войны. С тех пор почти не живу. О, как я ненавидела ее всегда, этот европейский позор, эту бессмысленную петлю, которую человечество накинуло на себя! Я уже не говорю о России. Я не говорю и о побежденных. Но с первого мгновения я знала, что эта война грозит неисчислимыми бедствиями всей Европе, и победителям и побежденным. Помню, как я упрямо до тупости восставала на войну, шла против если не всех – то многих, иногда против самых близких людей (не против Д.С., он был со мной). Общественно – мы звука не могли издать не военного благодаря царской цензуре. На мой доклад в Религиозно-Философском Обществе, самый осторожный, нападали в течение двух заседаний. Я до сих пор утверждаю, что здравый смысл – хотя бы только здравый смысл – был на моей стороне. А после мне приходилось выслушивать такие вопросы: «Вот, вы всегда были против войны, значит, вы за большевиков?» За большевиков! Как будто мы их не знали, как будто мы не знали до всякой революции, что большевики – перманентная война, безысходная война? Большевицкая власть в России – порождение, детище войны. И пока она будет – будет война. Гражданская? Как бы не так. Просто себе война, только двойная еще, и внешняя и внутренняя. И последняя в самой омерзительной форме, в форме террора, т. е. убийства вооруженными – безоружных и беззащитных. Но довольно об этом, довольно. Я слышу выстрелы. Оставляю перо, иду на открытый балкон.
Посередине улицы медленно собираются люди. Дети, женщины… даже знаменитые «инвалиды», что напротив, слезли с подоконников – и музыку забыли. Глядят вверх. Совершенно безмолвствуют. Как завороженные – и взрослые и дети. В чистейшем голубом воздухе, между домами, – круглые, точно белые клубочки, плавают дымки. Это «наши» (большевицкие) части стреляют в небо по будто бы налетевшим «вражеским» аэропланам.
На ватные комочки «наших» орудий никто не смотрит. Глядят в другую сторону и выше, ища «врагов». Мальчишка жадно и робко указует куда-то перстом, все оборачиваются туда. Но, кажется, ничего не видят. По крайней мере я, несмотря на бинокль, ничего не вижу.
Кто – «они»? Белая армия? Союзники – англичане или французы? Зачем это? Прилетают любоваться, как мы вымираем? Да ведь с этой высоты все равно не видно.
Балкон меня не удовлетворяет. Втихомолку, накинув платок, бегу с Катей-горничной по черному ходу вниз и подхожу к жидкой кучке посреди улицы.
Совсем ничего не вижу в небе (бинокль дома остался), а люди гробово молчат. Я жду. Вот, слышу, желтая баба шепчет соседке:
– И чего они – летают-летают… Союзники тоже… Хоть бы бумажку сбросили, когда придут, или что…
Тихо говорила баба, но ближний «инвалид» слышал. Он, впрочем, невинен.
– Чего бумажку, булку бы сбросили, вот это дело.
Баба вдруг разъярилась:
– Булки захотел, толстомордый. Хоть бы бомбу шваркнули, и за то бы спасибо. Разорвало бы окаянных, да и нам уж один конец, легче бы.
Сказав это, баба крупными шагами, бодрясь, пошла прочь. Но я знаю – струсила. Хоть не видать никого «такого» около, а все же… С улицы легче всего попасть на Гороховую, а там в списках потеряешься, и каюк. Это и бабам хорошо известно.
Пальба затихла, кучка стала расходиться. Вернулась и я домой.
Да, зачем эти праздные налеты?
Вчера то же было, говорят, в Кронштадте. То же самое.
Зачем это?
Дни – как день один, громадный, только мигающий – ночью. Текучее неподвижное время. Лупорожий A-в с нашего двора, праздный, ражий детина из шоферов (не совсем праздный, широко спекулирует, самовар новый за тысячу и за 7 т. мой парижский мех – жене).
Приходят, кроме того, всякие евреи и еврейки, тип один, обычный, – тип нашего Гржебина: тот же аферизм, нажива на чужой петле. Гржебин даже любопытный индивидуум. Прирожденный паразит и мародер интеллигентной среды. Вечно он околачивался около всяких литературных предприятий, издательств, – к некоторым даже присасывался, – но в общем удачи не имел. Иногда промахивался: в книгоиздательстве «Шиповник» раз получил гонорар за художника Сомова, и когда это открылось, – слезно умолял не предавать дело огласке. До войны бедствовал, случалось – занимал по 5 рублей; во время войны уже несколько окрылился, завел свой журналишко, самый патриотический и военный, – «Отечество».
С первого момента революции он, как клещ, впился в Горького. Не отставал от него ни на шаг, кто-то видел его на запятках автомобиля великой княгини Ксении Александровны, когда в нем, в мартовские дни, разъезжал Горький. (Быть может, автомобиль был не Ксении, другой великой княгини, за это не ручаюсь.)
Горькому сметливый Зиновий остался верен. Все поднимаясь и поднимаясь по паразитарной лестнице, он вышел в чины. Теперь он правая рука – главный фактор Горького. Вхож к нему во всякое время, достает ему по случаю разные «предметы искусства» – ведь Горький жадно скупает всякие вазы и эмали у презренных «буржуев», умирающих с голоду. (У старика Е., интеллигентного либерала, больного, сам приехал смотреть остатки китайского фарфора. И как торговался!) Квартира Горького имеет вид музея – или лавки старьевщика, пожалуй: ведь горька участь Горького тут, мало он понимает в «предметах искусства», несмотря на всю охоту смертную. Часами сидит, перетирает эмали, любуется приобретенным… и, верно, думает, бедняжка, что это страшно «культурно».
Кроме альбомов и эмалей, Зиновий Гржебин поставляет Горькому и царские сторублевки. И.И. случайно натолкнулся на Гржебина в передней Горького с целым узлом таких сторублевок, завязанных в платок.
Но, присосавшись к Горькому, Гржебин делает попутно и свои главные дела: какие-то громадные, темные обороты с финляндской бумагой, с финляндской валютой и даже с какими-то «масленками»; Бог уж их знает, что это за «масленки». Должно быть – вкусные дела, ибо он живет в нашем доме, в громадной квартире бывшего домовладельца, покупает сразу пуд телятины (50 тысяч), имеет свою пролетку и лошадь (даже не знаю, сколько – тысяч 30 в день?).
К писателям Гржебин теперь относится по-меценатски. То есть держит себя меценатом. У него есть как бы свое (полулегальное, под крылом Горького) издательство. Он скупает всех писателей с именами, – скупает «впрок», – ведь теперь нельзя издавать. На случай переворота – вся русская литература в его руках, по договорам, на многие лета, – и как выгодно приобретенная! Буквально, буквально за несколько кусков хлеба.
Ни один издатель при мне и со мной так бесстыдно не торговался, как Гржебин. А уж, кажется, перевидали мы издателей на своему веку.
Стыдно сказать, за сколько он покупал меня и Мережковского. Стыдно не нам, конечно. Люди с петлей на шее уже таких вещей не стыдятся.
Однако что я – столько о Гржебине! Это сегодня день такой, все разные комиссионеры. Мебельщик (еврей тоже) развязно предлагал Дмитрию Сергеевичу продать ему «всю его личную библиотеку и рукописи». У Злобиных он уже купил гостиную – за 12 рублей (тысяч). Армянка-бриллиантщица поздно вечером принесла мне 6 тысяч за мою брошку (большой бриллиант). Шестьсот взяла себе. Показывала – в сумочке у нее великолепное бриллиантовое колье чье-то – 400 тысяч. Получит за комиссию 40 тысяч сразу.
Это все крупные аферисты, гады, которыми кишит наша гнилая «социалистическая» заводь. Мелочь же порой даже симпатична, вроде чухонки, бывшей кухарки расстрелянного министра Щегловитова. Эти все-таки очень рискуют, когда тащат вещи на рынок. На рынках облавы, разгоны, стрельба, избиения.
Сегодня избивали на Мальцевском. Убили 12-летнюю девочку. (Сами даже, говорят, смутились.)
Чем объяснить эти облавы? Разве любовью к искусству, главным образом. Через час после избиений те же люди на тех же местах снова торгуют тем же. Да и как иначе. Кто бы остался в живых, если б не торговали они – вопреки избиениям?
Надо понять, что мы не знаем даже того, что делается буквально в ста шагах от нас (в Таврическом дворце, например). Тогда будет понятно, что мы не можем составить себе представления о совершающемся в нескольких верстах, не говоря уже о юге или Европе.
Вот характерная иллюстрация.
На недавней конференции «матросов и красноармейцев» наш петербургский диктатор, Зиновьев (Радомысльский), пережил весьма неприятную, весьма щекотливую минуту. Казалось бы, собрание надежное, профильтрованное (других не собирают). В «Правде» для осведомления верноподданных, в отчете об этой конференции, было напечатано (цитирую дословно), что «т. Зиновьев объявил о прибытии великого писателя Горького, великого противника войны, теперь великого поборника советской власти». И Горький сказал речь… «Воюйте, а то придет Колчак и оторвет вам голову. Евреев же мало в армии, потому что их вообще мало». После этого «был покрыт длительными овациями».
Мы, конечно, не поняли, почему это ни с того ни с сего у него выскочили «евреи в армии». Но мы привыкли к отсутствию всякой логики и всякого смысла в официальной нашей прессе.
Оказывается, на деле было вот что. Нам посчастливилось узнать правду, помимо «Правды», от очевидцев, присутствовавших на собрании (имен, конечно, не назову). Надежное собрание возмутилось. «Коммунисты» вдруг точно взбесились: полезли на Зиновьева с криками: «Долой войну! Долой коммунистов!» И даже – не страшно ли? – «Долой жидов!» Кое-где стали сжиматься кулаки. Зиновьев, окруженный, струсил. Хотел удрать задним ходом – и не мог. Предусмотрительная личная секретарша Зиновьева, – Костина, – бросилась отыскивать Горького, вспомнив, что он прежде всего «поборник евреев». Ездила на зиновьевском автомобиле по всему городу, даже в наш дом заглядывала, – а вдруг Горький, случаем, у И.И.? Где-то отыскала наконец, привезла – спасать Зиновьева, спасать большевиков.
Горький говорит мало, глухо, отрывисто – будто лает. Горький действительно, по словам присутствовавших, пролаял что-то о евреях, о том, что если евреев-солдат меньше, то ведь евреев в России вообще численно меньше, чем русских. Насчет Колчака, «отрыва головы» и совета воевать – очевидцы не говорили, может быть, не дослышали.
Красноречие Горького вряд ли могло иметь решающее влияние, но «верная и преданная» часть сборища постаралась использовать выход «великого писателя, поборника» и т. д. как диверсию отвлекающую. После нее «конференцию» быстро закончили и закрыли.
Вскоре после напечатанного отчета И.И. был у Горького (все из-за брата). В упор спросил его, правда ли, что Горький большевиков спасал? Правда ли, что требовал продолжения войны? Неужели, как выразился И.И., – «Горький и этим теперь опаскужен,?».
На это Горький пролаял мрачно, что ни слова не говорил о войне, а только о евреях. Будто бы в Москву даже ездил, чтобы «протестовать» против напечатанного о нем, да вот «ничего сделать не может».
Какой, подумаешь, несчастный, обиженный.
Говорит еще, что в Москве – «вор на воре, негодяй на негодяе…». (А здесь? Кого он спасал?)
Если б можно было еще кем-нибудь возмущаться, то Горьким первым. Но возмущение и ненависть – перегорели. Да люди и стали выше ненависти. Сожалительное презрение, иногда брезгливость. Больше ничего.
Оплакав Венгрию, большевики заскучали. Троцкий-Бронштейн, главнокомандующий армией «всея России», требует, однако, чтобы к зиме эта армия уничтожила всех «белых», которые еще занимают часть России. «Тогда мы поговорим с Европой».
Работы много – ведь уж август, даже по старому стилю.
Косит дизентерия.
Т. лежит третью неделю. Страшная, желтая, худая. Лекарств нет.
Соли нет.
Почти насильно записывают в партию коммунистов. Открыто устрашают: «…а если кто…» Дураки боятся.
Петерса убрали в Киев. Положение Киева острое. Кажется, его теснят всякие «банды», от них стонут сами большевики. Впрочем, что мы знаем?
Арестованная (по доносу домового комитета, из-за созвучий фамилий) и через 3 недели выпущенная Ел. (близкий нам человек) рассказывает, между прочим:
Расстреливают офицеров, сидящих с женами вместе, человек 10–11 в день. Выводят на двор, комендант, с папироской в зубах, считает, – уводят.
При Ел. этот комендант (коменданты все из последних низов), проходя мимо тут же стоящих, помертвевших жен, шутил: «Вот, вы теперь молодая вдовушка. Да не жалейте, ваш муж мерзавец был. В Красной армии служить не хотел».
Недавно расстреляли профессора Б.Никольского. Имущество его и великолепную библиотеку конфисковали. Жена его сошла с ума. Остались дочь 18 лет и сын 17-ти. На днях сына потребовали во «Всевобуч» (всеобщее военное обучение). Он явился. Там ему сразу комиссар с хохотком объявил (шутники эти комиссары!): «А вы знаете, где тело вашего папашки? Мы его зверькам скормили».
Зверей Зоологического сада, еще не подохших, кормят свежими трупами расстрелянных, благо Петропавловская крепость близко, – это всем известно. Но родственникам, кажется, не объявляли раньше.
Объявление так подействовало на мальчика, что он четвертый день лежит в бреду. (Имя комиссара я знаю.)
Вчера доктор X. утешал И.И., что у них теперь хорошо устроилось, несмотря на недостаток мяса: сердце и печень человеческих трупов пропускают через мясорубку – и выделывают пептоны, питательную среду, бульон… для культуры бацилл, например.
Доктор этот крайне изумился, когда И.И. внезапно завопил, что не переносит такого «глума» над человеческим телом, и убежал, схватив фуражку.
Надо помнить, что сейчас в СПб., при абсолютном отсутствии одних вещей и скудости других, есть нечто в изобилии: трупы. Оставим расстрелянных. Но и смертность в городе, по скромной большевицкой статистике (петитом), – 65 %, при 12 % рождений. Т. е. умирает половина населения. (Не забудем, что это болъшевицкая, официальная статистика.)
И.И. заболел. И сестра его – дизентерией. «Перспектив» – для нас – никаких, кроме зимы без света и огня. Киев как будто еще раз взяли, кто – неизвестно. Не то Деникин, не то поляки, не то «банды». Может быть, и все они вместе.
Ни страха, ни надежды. Одна тяжелая, свинцовая скука.
Петерс, уезжая в Киев (мы знаем, что Киев взяли, по тому, что Петерс уже в Москве; удрал, значит), решил возвратить нам телефоны. Причин возвращать их так же мало, как мало было отнимать. Но и за то спасибо.
Все теперь, все без исключения, – носители слухов. Носят их соответственно своей психологии: оптимисты – оптимистические, пессимисты – пессимистические. Так что каждый день есть всякие слухи, и обыкновенно друг друга уничтожающие. Фактов же нет почти никаких. Газета – наш обрывок газеты – если факты имеет, то не сообщает, тоже несет слухи, лишь определенно подтасованные. Изредка прорвется кусок паники вроде «вновь угрожающей Антанты, лезущей на нас с еще окровавленной от Венгрии мордой»… или вроде внезапно появившегося Тамбово-Козловского (?) фронта.
Несомненный факт, что сегодня ночью (с 17 на 18 августа) где-то стреляли из тяжелых орудий. Но Кронштадт ли стрелял, в него ли стреляли – мы не знаем (слухи).
Должно быть, особенно серьезного ничего не происходит, – не слышно усиленного ерзанья большевицких автомобилей. Это у нас один из важных признаков: как начинается тарахтенье автомобилей, – завозились большевики, забеспокоились, – ну, значит, что-то есть новенькое, пахнет надеждой. Впрочем, мы привыкли, что они из-за всякого пустяка впадают в панику и начинают возиться, дребезжа своими расхлябанными, вонючими автомобилями. Все автомобили расхлябанные, полуразрушенные. У одного, кажется, Зиновьева – хороший. Любопытно видеть, как «следует» по стогнам града «начальник Северной Коммуны». Человек он жирный, белотелый, курчавый. На фотографиях, в газете, выходит необыкновенно похожим на пышную, старую тетку. Зимой и летом он без шапки… Когда едет в своем автомобиле, – открытом, – то возвышается на коленях у двух красноармейцев. Это его личная охрана. Он без нее – никуда, он трус первой руки. Впрочем, они все трусы. Троцкий держится за семью замками, а когда идет, то охранники его буквально теснят в кольце, давят кольцом.
Фунт чаю стоит 1200 р. Мы его давно уже не пьем. Сушим ломтики морковки или свеклы, – что есть. И завариваем. Ничего. Хорошо бы листьев, да какие-то грязные деревья в Таврическом саду, и Бог их знает, может, неподходящие.
В гречневой крупе (достаем иногда, 300 р. фунт), в каше размазне – гвозди. Небольшие, но их очень много. При варке няня вчера вынула 12. Изо рта мы их продолжаем вынимать. Я только сейчас, вечером, в трех ложках нашла 2, тоже изо рта уж вынула. Верно, для тяжести прибавляют.
Но для чего в хлеб прибавляют толченое стекло – не могу угадать. Такой хлеб прислали Злобиным из Москвы – их знакомые, с оказией.
Читаю рассказ Лескова «Юдоль». Это о голоде в 1840 году, в средней России. Наше положение очень напоминает положение крепостных в имении Орловской губернии. Так же должны были они умирать на месте, лишенные прав, лишенные и права отлучки. Разница: их «Юдоль» длилась всего 10 месяцев. И еще: дворовым крепостным выдавали помещики на день не '/8 хлеба, а целых 3 фунта. Три фунта хлеба! Даже как-то не верится.
Сыпной тиф, дизентерия – продолжаются. Холодные дни, дожди.
Все эти деникинские Саратовы, Тамбовы и Воронежи, о которых нам говорят то слухи, то, задушенно намекая, большевицкие газеты, оставляют нашу эпидерму бесчувственной. Нам нужны «ощущения», а не «представления».
Но и помимо этого, – когда я пытаюсь рассуждать, – я тоже не делаю радужных выводов. Не вижу я ни успеха «белых генералов» (если они одни), ни целесообразности движения с юга.
(Вслух – насчет неверия моего в «белых генералов» не говорю, это слишком ранит всех.) Большевики твердо и ясно знают, что без Петербурга центральная власть (хотя она и в Москве) не будет свалена. Большевики недаром всей силой, почти суеверно, держатся за Петербург. Они так и говорят, даже в Москве: «Пока есть у нас наш красный Петроград, – мы есть, и мы непобедимы…»
Да, это роковым образом так. Петербург – большевицкий талисман. И большевицкая голова.
Кроме того, «белые генералы» наши… Впрочем – молчание, молчание. Если и думают многие, как я (опытны ведь мы все!), то все-таки теперь помолчим.
Продала старые портьеры. И новые. И подкладочный коленкор. 2 тысячи. Полтора дня жизни.
Большевики и сами знают, что будут свалены, так или иначе, но когда? В этом весь вопрос. Для России – и для Европы – это вопрос громадной важности. Я подчеркиваю, для Европы. Быть может, для Европы вопрос времени падения большевиков даже важнее, чем для России. Как это ясно.
Принудительная война, которую ведет наша кучка захватчиков, еще тем противнее обыкновенной, что представляет из себя «дурную бесконечность» и развращает данное поколение в корне – создает из мужика «вечного» армейца, праздного авантюриста. Кто не воюет или пока не воюет – торгует (и ворует, конечно). Не работает никто. Воистину «Торгово-продажная» республика, защищаемая одурелыми солдатами-рабами.
Если большевики падут лишь «в конце концов» – то, пожалуй, под свалившимися окажется «пустое место». Поздравим тогда Европу. Впрочем, будет ли тогда кого поздравлять, – «в конце концов»?
Матросье кронштадтское ворчит, стонет – надоело. «Давно бы мы сдались, да некому. Никто нейдет, никто не берет…»
Что бы ни было далее – мы не забудем этого «союзникам». Англичанам – ибо французы без них вряд ли что могут.
Да что – мы? Им не забудет этого и жизнь сама.
Вчера видела на улице, как маленькая, 4-летняя девочка колотила ручонками упавшую с разрушенного дома старую вывеску. Вместо дома среди досок, балок и кирпича – возвышалась только изразцовая печка. А на валявшейся вывеске были превкусно нарисованы яблоки, варенье, сахар и – булки. Целая гора булок.
Я наклонилась над девочкой.
– За что же ты бьешь такие славные вещи?
– В руки не дается! В руки не дается! – с плачем повторяла девочка, продолжая колотить и топтать босыми ножками заколдованное варенье.
Чрезвычайку обновили. Старых расстреляли, кое-кого. Но воры и шантажисты – все.
Отмечаю (конец августа по новому стилю) что, несмотря на отсутствие фактов, и даже касающихся севера слухов, – общее настроение в городе повышенное, атмосфера просветленная. Верхи и низы одинаково, хотя безотчетно, вдруг стали утверждаться на ощущении, что скоро, к октябрю – ноябрю, все будет кончено.
Может быть, отчасти действуют и слишком настойчивые большевицкие уверения, что «напрасны новые угрозы», «тщетны решения англичан кончить с Петербургом теперь же», «нелепы надежды Юденича на новое соглашение с Эстляндией» и т. д.
Агонизирующий Петербург, читая эти выкрики, радуется: ага, значит, есть «новые угрозы». Есть «решения англичан». Есть речи о «соглашении Юденича с Эстляндией».
Я прямо чувствую нарастание беспочвенных, казалось бы, надежд.
Рядом большевики пишут о своем наступлении на Псков. Возможно, отберут его; но и это вряд ли изменит настроение дня.
Наша Кассандра – Д.С. – пребывает в тех же мрачных тонах. Я… не говорю ничего. Но констатировать общее состояние атмосферы считаю долгом.
Живем буквально на то, что продаем, изо дня в день. Все дорожает в геометрической прогрессии, ибо рынки громят систематически. И, кажется, уже не столько принудительно, сколько утилитарно: нечем красноармейцев кормить. Обывательское продовольствие жадно забирается.
N. с женой поехал недавно в К., на Волгу, где у него была своя дачка. Скоро вернулся. Заполняющие домик «коммунары» уделили хозяевам две каморки наверху. Незавидное было житье.
N. говорит, что на Волге – непрерывные крестьянские восстания. Карательные отряды поджигают деревни, расстреливают крестьян по 600 человек враз.
Южные «слухи» упорны относительно Киева: он будто бы взят Петлюрой – в соединении с поляками и Деникиным.
(Вот что я заметила относительно природы «слуха» вообще. Во всяком слухе есть смешение данного с должным. Бывают слухи очень неверные, – с громадным преобладанием должного над данным, – не верны они, значит, фактически, и тем не менее очень поучительны. Для умеющего учиться, конечно. Вот и теперь, Киев. Может быть, его должно бы взять соединение Петлюры, поляков и Деникина. А как данного – такового соединения и не существует, может быть, если Киев и взят.)
Большевики признались, что Киев окружен с 3 сторон. Только сегодня (26 августа) признались, что «противник (какой? кто?) занял Одессу». (Одесса взята около месяца тому назад.)
Ах, да что эти южные «взятия». И мы – Россия, и большевики – наши завоеватели в этом пункте единомысленны: занятие южных городов «белыми» нисколько не колеблет центральную власть и само по себе не твердо, не окончательно. Не удивлюсь, если тот же Киев сто раз еще будет взят обратно.
Хамье отъевшееся, глубоко аполитичное и беспринципное (с одним непотрясаемым принципом – частной собственности) спешит «до переворота» реализовать нахваленные пуды грязной бумаги «ленинок», скупая все, что может. У нас. В каждом случае учитывая, конечно, степень нужды, прижимая наиболее голодных. Помещают свои ленинки, как в банке, в бриллианты, меха, мебель, книги, фарфор, – во что угодно. Это очень рассудительно.
Лупорожего А-ва с нашего двора, ражего детину из шоферов, который для жены купил мой парижский мех, – сцапали. Спекульнул со спиртом на 2½ миллиона. Ловко.
А чем лучше Гржебин? Только вот не попался, и ему покровительствует Горький. Но жена Горького (вторая – настоящая его жена[61]61
Пешкова Екатерина Павловна.
[Закрыть] где-то в Москве), бывшая актриса, теперь комиссарша всех российских театров, уже сколотила себе деньжат… это ни для кого не тайна. Очень любопытный тип эта дама-коммунистка. Каботинка до мозга костей, истеричка, довольно красивая, хотя и увядающая, – она занималась прежде чем угодно, только не политикой. При наличии власти большевиков сам Горький держался как-то невыясненно, неопределенно.
Помню, как в ноябре 17 года я сама лично кричала Горькому (в последний раз, кажется, видела его тогда): «…А ваша-то собственная совесть что вам говорит? Ваша внутренняя человеческая совесть?» – а он, на просьбы хлопотать перед большевиками о сидящих в крепости министрах, только лаял глухо: «Я с этими мерзавцами… и говорить… не могу».
Пока для Горького большевики, при случае, были «мерзавцами» – выжидала и Мария Федоровна. Но это длилось недолго. И теперь – о, теперь она «коммунистка» душой и телом. В роль комиссарши, – министра всех театрально-художественных дел, – она «вошла», как прежде входила в роль на сцене, в других пьесах. Иногда художественная мера изменяет ей, и она сбивается на роль уже не министерши, а как будто императрицы (ей-богу, настоящая «Мария Федоровна» – восклицал кто-то в эстетическом восхищении). У нее два автомобиля, она ежедневно приезжает в свое министерство, в захваченный особняк на Литейном, – «к приему».
Приема ждут часами и артисты, и писатели, и художники. Она не торопится. Один раз, когда художник с большим именем, Добужинский, после долгого ожидания удостоился, наконец, впуска в министерский кабинет, он застал комиссаршу очень занятой… с сапожником. Она никак не могла растолковать этому противному сапожнику, какой ей хочется каблучок. И с чисто королевской, милой очаровательностью вскрикнула, увидев Добужинского: «Ах, вот и художник. Ну, нарисуйте же мне каблучок к моим ботинкам!»
Не знаю уж, воспользовался ли Добужинский «случаем» и попал или нет «в милость». Человек «придворной складки», конечно, воспользовался бы.
Теперь, вот в эти дни, у всех почему-то на устах одно слово: «переворот». У людей «того» лагеря, не нашего, – тоже. И спешат что-то «успеть до переворота». Спекулянты – реализовать ленинки, причастные к «властям» – как-то «заручиться» (это ходячий термин).
Спешит и Мария Федоровна Андреева. На днях Алексинский, зайдя по делу к Горькому, застал у М.Ф. совсем неожиданный «салон»: человек 15 самой белогвардейской породы. Говорят о перевороте, и комиссарша уже играет на этой сцене совсем другую роль: роль «урожденной Желябужской». Вот и «заручилась» на случай переворота. Как не защитят ее гости – «своего поля ягоду», урожденную Желябужскую?
Недаром, однако, были слухи, что прямолинейный Петерс, наш «беспощадный», в раже коммунистической «чистки» метил арестовать всю компанию: и комиссаршу, и Горького, и Гржебина, и Тихонова… Да широко махнул. В Киев услали.
Киев если не взят, то, кажется, будет взят. Понять вообще ничего нельзя. Псков большевики тогда же взяли – торжествовали довольно. Однако Зиновьев опять объявляет – мы, мол, накануне цинического выступления англичан…
Вы так боитесь, товарищ Зиновьев? Не слишком ли большие глаза у вашего страха? У моей надежды они гораздо меньше.
Атмосфера уверенности в перевороте, которую я недавно отметила, ее температура (говорю о чисто кожном ощущении) за последние дни и как будто тоже без всяких причин – сильно понизились. Какая это странная вещь!
Разбираясь, откуда она могла взяться, я вот какое предполагаю объяснение: вероятно, был, опять ставился, вопрос о вмешательстве. Реально так или иначе снова поднимался. И это передалось через воздух. Только это могло родить такую всеобщую надежду, ибо: все мы здесь, сверху донизу, до последнего мальчишки, знаем (и большевики тоже), что сейчас одно лишь так называемое «вмешательство» может быть толчком, изменяющим наше положение.
Вмешательство. «Вмешательство во внутренние дела России». Мы хохочем до слез – истерических, трагических, правда, – когда читаем эту фразу в большевицких газетах. И большевики хохочут – над Европой, – когда пишут эти слова. Знают, каких она слов боится. Они и не скрывают, что рассчитывают на старость, глухоту, слепоту Европы, на страх ее перед традиционными словами.
В самом деле, каким «вмешательством» в какие «внутренние дела» какой «России» была бы стрельба нескольких английских крейсеров по Кронштадту? Матросы, скучающие, что «никто их не берет», сдались бы мгновенно, а петербургские большевики убежали бы еще раньше. (У них автомобили всегда наготове.) Но, конечно, все это лишь в том случае, если бы несомненно было, что стреляют «англичане», «союзники». (Так знают все, что самый легкий толчок «оттуда» – дело решающее.)
О, эта пресловутая «интервенция!». Хоть бы раньше, чем произносить это слово, европейцы любопытствовали взглянуть, что происходит с Россией. А происходит приблизительно то, что было после битвы при Калке: татаре положили на русских доски, сели на доски – и пируют. Не ясно ли, что свободным, не связанным еще, – надо (и легко) столкнуть татар с досок? И отнюдь, отнюдь не из «сострадания», – а в собственных интересах, самых насущных. Ибо эти новые татаре такого сорта, что чем дольше они пируют, тем грознее опасность для соседей попасть под те же доски.
Но, видно, и соседей наших, и Антанту Бог наказал – разум отнял. Даже просто здравый смысл. До сих пор они называют этот необходимый, и такой нетрудный, внешний толчок, жест самосохранения – «вмешательством во внутренние дела России».
Когда рассеется это марево? Не слишком ли поздно?
Вот мое соображение, сегодняшнее (2 августа), некий мой прогноз: если в течение ближайших недель не произойдет резко положительных фактов, указующих на вмешательство, – дело можно считать конченным. Т. е. это будет уже факт невмешательства. Как выльется большевицкая зима? Трудно вообразить себе наше внутреннее положение – оставим эту сторону. С внешней же думаю: к январю или раньше возможно соглашение большевиков с соседями («торговые сношения»). С Финляндией, со Швецией и, может быть (да, да!), с самой Антантой (снятие блокады). Я ничего не знаю, но вероятия большие…









































