Читать книгу "Дневники"
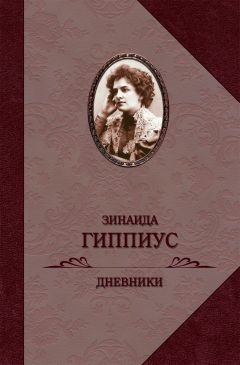
Автор книги: Зинаида Гиппиус
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Война, война! У всех ты отшибаешь разум, и у победителей, и у побежденных равно. Не начинают ли союзные победители терять разум? На это и рассчитывает наше хамье, жулье и безумье.
Теперешние самодержцы – «районные советы» – на всех плюют (так и говорят), особенно же на хлыща Луначарского. В 3 дня выселили из квартиры музыканта Зилотти (опять с ним беда!), позволив взять только носильное платье, остальное – себе, и сами вселились. Семья пошла по комнатам – ведь теперь и с деньгами нельзя «нанять» квартиру, во все пустые вселяют «бедноту» неизвестного происхождения.
Ежедневно декреты. На декабрь объявили какую-то миллиардную военную контрибуцию. Однако неизвестно, что им делать, когда, придя к «обложенному буржую», найдут они у него лишь кусок конины, поджаренный на касторке. Мебель конфисковать? Но ведь она, вся, и так уж давно, по декрету, ихняя… Затруднительное положение…
Взятки берутся (когда есть что взять) уже почти официально. И жулье, даже интеллигентное, процветает – в зависимости от ловкости рук.
Горький все, кажется, старинные вещи скупил, потянуло на клубничку, коллекционирует теперь эротические альбомы. Но и в них прошибается: мне говорил один сторонний человек с наивной досадой: за альбом, который много-много 200 р. стоит, – Горький заплатил тысячу!
Вячеслав Иванов (рассказывал Карташёв) пошел было с голодухи к большевикам, но зря; ничего не получил, так же с голоду умирает.
Директор Тенишевского училища живет без прислуги, жена его (тень!) колет дрова. Едят конину с селедками. Весь он полуразрушенный, страшный…
Что же еще написать? Не знаю, право.
25 ноября, воскресенье
Мы еще живы. Всякий день равнодушно этому удивляемся.
В Германии еще Шейдеман. Всякий день владыки наши уверяют, что завтра воцарится Либкнехт.
Драконовские условия перемирия Германией выполняются. Флот разоружен, интернирован. Английская эскадра была в Киле, в Копенгагене. Проскользнула весть, что появились английские суда и в Балтике. Тотчас, конечно, неунывающий Зилотти (живет в 4°, оторванный от семьи) телефонировал радостно: «Наша родная – в Либаве!»
Большевики нет-нет и задумаются. Хотели было одну минуту, эвакуировать из СПб. снаряды, оружие и все продовольствие. Потом как-то не вышло. Но, очевидно, косят глазом: вдруг-де союзники придут и возьмут «красный Питер»? Если придут, то (в этом и большевики не сомневаются) – немедля и возьмут. Ибо голая и «доблестная» Красная армия не боится ни пустых городов, ни наших горе-белогвардейцев; но первого солдата она испугается насмерть. Когда под Нарвой разорвало их же снаряд – 1600 человек из 2000 немедля удрали.
Но бедные англичане опять, кажется, и этого не понимают.
Свирепствует сыпной тиф. В больницах кладут вповалку, мужчин и женщин.
Морозов больших нет, но каждое полено стоит 5—10 рублей, а потому приходится и дома сидеть если не в шубах, то в пальто.
Москвичам, говорят, хуже нашего. Там холод неисцелимый, 3°—4° в комнатах, а голод… гомерический, ибо все реквизируется для «правительства». Кругом Москвы – бунты: крестьяне не хотят мобилизоваться.
В Пятигорске расстреляли как «заложника» и с Машука сбросили генерала Рузского. Того самого, что бывал у нас в Кисловодске. Больной и невинный болтун с палочкой, немножко рамолик, за ним всегда ходили жена и дочь, офицеры молодые к нему были добродушно-нежны. Он отечески ворчал на них, целовался с ними, бодрился и постоянно хворал воспалением легких.
Успокоился.
2 декабря, воскресенье
Мне стыдно перечитывать мой дневник прошлого года. Но это очень поучительно. Видишь, какие там все были детские игрушки и как, вообще, немужественно и бесполезно – ныть. Я и не буду, а некоторые параллели хочу провести.
В прошлом году у нас было масло, молоко – вообще что-то было (например, магазины, лавки и т. д.). Теперь черная мука – 800 р., каждое яйцо – 5–6 р., чай – 100 р. (все, если случайно достанешь).
В прошлом году я могла читать с эстрады свои стихи (да ведь и печать была, Господи!), а нынче, на днях, профессор Сперанский, со всеми разрешениями, вздумал назначить вечер в память Достоевского, публики собралось видимо-невидимо (участвовал Дмитрий, а он привлекает), – а в последнюю минуту явился «культурно-просветительный Совдеп» и всю публику погнал вон. Нельзя. Накануне изгнали Амфитеатрова. Грозили винтовками.
Вот наше телесное и душевное положение.
В прошлом году мы могли думать о каком-то «пределе»! Предела, очевидно, и сейчас нет. Мы еще не едим кожу, например (у меня много перчаток). И, вот, сижу сейчас все-таки за столом и пишу… хотя нет, пишу я уже незаконно, случайно…
В прошлом году мы возмущались убийством Шингарева и Кокошкина, уверяли, что этого нельзя терпеть, а сами большевики полуизвинялись, «осуждали»… Теперь – но нужно ли, можно ли подчеркивать эту параллель? О ней кричит всякая страница моего дневника – последних месяцев.
И, наконец, вот главное открытие, которое я сделала: давным-давно кончилась всякая революция. Когда именно – не знаю. Но давно. Наше «сегодня» – это не только ни в какой мере не революция. Это самое обыкновенное кладбище. Лишь не благообразное, а такое, где мертвецы полузарыты и гниют на виду, хотя и в тишайшем безмолвии. Уж не банка с пауками – могила, могила!
На улицах гробовое молчание. Не стреляют (не в кого), не сдирают шуб (все содраны). Кажется, сами большевики задеревенели. Лошадей в городе нету (съедены), автомобили, все большевицкие, поломаны и редки. Кое-где, по глухому снегу, мимо забитых магазинов с сорванными вывесками трусят ободранные пешеходы.
Но спешно отправлены в Вологду, в «каторжные работы», арестованные интеллигенты (81 чел.), такие «преступники», как Изгоев, журналист из «Речи», например. Очень спешили, не дали привезти им даже теплой одежды. Жену Изгоева при проводах красноармеец хватил прикладом, упала под вагон; вчера служила в столовой журналистов вся обвязанная.
Не это ли «революция»?
Вчера я проснулась с острым стыдом в душе. Не позорно ли, что еще недавно, лежа в таком виде, мы ждали англичан! Приди, мол, господин, возьми меня!
А они и не подумали прийти. То «не приходили» немцы (я, впрочем, знала, что они не придут), потом такими же «неприхожденцами» сделались союзники. Об этих я все-таки думала иногда, что они могут прийти, не ради нас – ради себя. Ведь нельзя же было предполагать, что они так сразу – германской слепотой ослепнут.
Но теперь я говорю: пусть! Пусть, черт с ними, сидят большевики! Пусть история идет, как ей назначено. Ведь вот «есть правда на земле», возмездие Германии – произошло на глазах. Картина выпукло-ясная. Точно в прописях. А теперь – черед следующих, кто зарвется…
Царства Либкнехта еще нет. Нашу «советскую» делегацию в Берлин не пустили.
Мы по-прежнему ничего не знаем. Кладбище.
15 декабря, суббота
Кладбище. Отмечу только лестницу голода. Нет, конечно, той остроты положения (худого), которая не могла бы длиться. Но до сих пор все ж питались кое-как нажульничавшие и власть. Она же упитывала красноармейцев. Теперь у комиссаров для себе еще много, но уже ни для кого другого, кажется, не будет.
Сегодня выдали, вместо хлеба, ½ фунта овса. А у мешочников красноармейцы на вокзале все отняли – просто для себя.
На Садовой – вывеска: «Собачье мясо, 2 р. 50 к. фунт». Перед вывеской длинный хвост. Мышь стоит 2 р.
Никто ни о каких «спасительных англичанах» более не думает. А что они о нас думают? Должно быть, что-нибудь простое; как-нибудь очень просто, как об Индии, например. Что ж, Индия часто вымирает от голода, и ничего.
Многие сходят с ума. А может быть, мы все уже сошли с ума?
И такая тишина в городе, такая тишина – в ушах звенит от тишины!
29 декабря, суббота
Мы еще живы, но уже едва-едва, все больны. Опять рвемся уехать, просто хоть в Финляндию.
Блокада полная. Освобождения не предвидится. Вместо хлеба – ¼ фунта овса. Кусок телятины у мародера – 600 р., окорок – 1000. Разбавленное молоко 10 р. бутылка, раз-два в месяц. Нет лекарств, даже йода. Самая черная мука, с палками, 27 р. фунт. Почти все питаются в «столовках», едят селедки, испорченную конину и пухнут.
Либкнехт (спартаковцы-большевики) еще не воцарился, но сегодня вести, что в Берлине жестокое восстание. Именно потому, что оно «жестокое», т. е. какая-то настоящая «борьба», – больше вероятия, что Либкнехту не удастся так вожделенно воцариться.
Сегодня видела Вырубову. Русская «красна девица», волоокая и пышнотелая (чтобы Гришка ее не щипал – да никогда не поверю!), женщина до последнего волоска, очевидно тупо-упрямо-хитренькая. Типичная русская психопатка у «старца». Охотно рассказывает, как в тюрьме по 6 человек солдат ее приходили насиловать, «как только Бог спас!».
Тем острых мы старались не касаться. Кажется, она не верит царским смертям и думает, что еще все вернется.
5 января 1919, суббота
Годовщина однодневного Учредительного собрания. А я едва вспомнила… Да и помнить нечего. Да и ничего мы уже не помним.
В Берлине шейдемановцы, после жестокой бойни, победили спартаковцев (большевиков). Так что Либкнехт не только не воцарился, но даже убит. Будто бы его везли арестованного и застрелили за попытку бежать. И эту чертовку Розу Люксембург тоже убили. Ее, будто бы, растерзала толпа. Жаль, что нашего К.Радека, кстати, не растерзала. Уж заодно бы!
Это восстание как будто параллельно нашему июльскому. И тут же ясная, резкая разница. У нас Керенский, после июля, едва-едва арестовал мелких большевиков (кажется, до хлыща Луначарского только). Ленин и Зиновьев открыто «скрывались» сначала в Кронштадте, а затем на Петербургской стороне, где буквально все знали их точнейший адрес. И Ленин ежедневно, под собственным именем, призывал к перевороту в своей газете (незакрытой!), даже твердо обещал переворот, с указанием чисел. Троцкий и не двинулся, работал в Совете с полной явностью. Цвел все время, а когда подвезло «счастье», вполне безумное (Корнилов), – расцвет получился полный, и собственно «воцарение» большевиков совершилось за два месяца до официального. Ведь уже тогда Троцкий был председателем Совета, уже тогда проходили организованные скандалы на всех «совещаниях», на «демократическом», в «предпарламенте» и т. д. Ну а германским большевикам в их «июле» сразу не поздоровилось.
Какой бы «октябрь» ни грозил германцам – одно для меня ясно: у Берлина не будет, подобного Петербургу, пассивного самоотдания. Не верю глазам своим, читая свою же запись тех дней. Петербург сам упал, тихо, в руки большевиков, как созревший плод. Именно сам, именно тихо! Никакого подобия борьбы. Были мелкие судороги, в Москве – покрупнее, но не борьба, а только – судороги.
Мы, интеллигенция, – какой-то вечный Израиль, и притом глупый. Мы в вечном гонении от всякого правительства, царского ли, коммунистического ли. Мы нигде не считаемся. и мы блистательно доказали, что этой участи мы вполне достойны. Вот, «случилось» наше правительство: Временное. И что же, не было оно все, с макушки до пяточек, – ничтожество? От Милюкова, сквозь Керенского, до мельчайших Либергоцев – глупым и ничтожным? Не было?
И я, со своим высокопартийным созерцанием и претензиями на сознательность, такая же близорукая дура, как другие.
Прогнившая воля делала нас достойными подданными Николая. Теперь мы достойны владычества Хамов, взявших нас голыми руками.
Ничего, не на кого, некому жаловаться. Бессильное и неумное ничтожество. А народ – еще животное, с животной (невинной) хитростью, с первичными инстинктами… может быть, впрочем, со своеобразной еще придурью. Точка – вот и все.
Меня привела к этому оглядка на недавнее прошлое. Оно кричит о глупости и последнем безволии.
И ни одной личности! Ни единой! (Кроме Савинкова, может быть, но где Савинков?) Ни единой до того, что когда я перечитываю собственный дневник и через несколько страниц встречаю то же имя, – мне кажется, что я ошиблась: имя то же, человек другой. «Индивидуум» не похож на себя… на какого «себя»? Где – он? Вовсе его нет. Горького, например, будто и не было, столько Горьких. Даже каждый прохвост меняет прохвостничество. А Керенский где – настоящий? А Карташёв? О литераторах не говорю… Да каждый? Каждый, как медуза, как все!
Не говорю и о демосе. Там безлико по праву (но мы-то этого не подозревали). Например, мной здесь упоминающийся «герой» – матрос Ваня Пугачев. «Революционный деятель» в марте, над рассуждениями которого я умилялась, усмиритель апреля и июля, сметливый, хитрый, о сю пору верный нашей кухне (в том смысле, что любит забежать в нее похвастаться). Теперь он форменный мародер самого ловкого типа. Шатался по всей России, по Украйне, даже залезал в Австрию, всегда был в «тех», кто побеждал, орудовал, прожженный на всем, спекулировал, продавал этих тем, а тех сызнова этим. Говорит без конца, без конца, по какой-то своей логике, целует у меня руку (как у «дамы»), ходит в богатейшей шубе, живет в 25 комнатах, ездит на своей лошади (когда не путешествует), притом клянется, что не «большевик» и не «коммунист», и я ему в этом верю.
Кстати, раз уж я оглянулась на прошлое, вспомню мою сентябрьскую встречу с Блоком в трамвае. Я сидела, когда он вошел. Мест больше не было, он минут 10 стоял, поневоле, около меня. Войдя, сказал сразу: «Здравствуйте». Я подняла глаза при знакомом замогильном звуке голоса, ставшем, кажется, еще замогильнее.
Бледный, желтый, убитый. «Подадите ли вы мне руку?» – «Лично – да. Но только лично. Вы знаете, что мосты между нами взорваны…»
Кончилось тем, что к нашему диалогу стал прислушиваться весь трамвай. Мы признавались друг другу в любви, но я тут же подчеркивала, что «не прощу никогда». Все, очевидно, думали, что встретились старые любовники. Было тяжело. Наконец я встала, чтобы выйти. Он сказал: «Спасибо за то, что вы мне подали руку…» – и поцеловал эту руку, протянутую «только лично, не забывайте!».
Да, он весь стал глуше, суше, мрачнее. Весь пришибленный, весь – «без права», и вот уж без счастья-то!
В октябрьские торжества внесли полотнища с хамской рожей и с хамскими словами внизу, хамски и жидовски начертанными:
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем!
Это его – нежного Блока – слова!
Довольно. Я уже замолчала о настоящем. Что тревожить прошлое?
Было ли оно? Если я не предвижу будущего, не вижу настоящего, – не позволительно ли мне сомневаться в бытии прошлого?
Нас постигло «небытие». Пусть мы, Россия, русский народ, виноваты сами. Я готова сейчас признать все вины, признать наше небытие, нашу трупность. Но ведь Европа еще жива! И мы – какая-то часть ее тела все-таки, хотя бы самая ничтожная. Кто ослепил, одурил Европу, и она не понимает, как для ее жизни опасно наше трупное разложение? Кто у нее отнял разум? Если Бог – за что Он ее так наказывает?
12 января, суббота
Декларация Вильсона, от которой большевики возликовали сугубо, с задираньем носов. Не совсем, конечно, понимают, откуда и с какими психологиями этот вильсоновский «шеколад» заверений и уверений, которым обернут зов «русских правительств на Принцевы острова» (эдакая «предварилка»), – но все равно рады: им явная «передышка», и можно еще громче кричать, что «Антанта боится!».
Мы уже совсем не понимаем, какие у Вильсона мысли по поводу этих островов и на что тут он надеется, о чем мечтает Его Наивность. Понимаем одно, что это на руку большевикам, безразлично, поедут они туда или закобенятся.
Условия? Условия можно и обойти, можно и принять; Ленин, во время сделки с Германией, неустанно требовал принятия немецких условий: «Согласимся! Ведь все равно мы их исполнять не будем!» И как сказал, так и сделал: после принятия двух главных условий
Германии – разоружение всей армии и никакой пропаганды за чертой – тотчас взбодрил всю Красную армию и особенно развил пропаганду в Германии.
«Передышка» очень кстати: было у них страху с Нарвой, ведь близко! А Красная армия так дружно удирала (думала – англичане), что сами большевики затряслись. Ничего, потом обтерлось. Потеряли морской кусочек, зато на юг двинулись и везде что-то забирают.
Им везет, им все на пользу. Победа союзников над Германией – они тотчас в пустые города. Ушли немцы, предав Скоропадского, – вылез бессильный Петлюра, – они тотчас двинулись на Украйну, схватили Чернигов, Харьков, Полтаву, шествуют опять на несчастный Киев.
Ваша Наивность! Мистер Вильсон! Вы хотите спросить нескольких евреев под псевдонимами о «воле русского народа». Что же, спросите, послушайте. Но боюсь, что это недостаточная информация. Вы больше бы узнали, если бы пожили с недельку в Петербурге, покушали нашего овсеца, поездили на трамваях, а затем отправились бы по России… ну хоть до Саратова и обратно. Да не в «министерском» вагоне с «комиссарами», а с «народом», со всеми, кто не комиссары, т. е. в вагончиках «скотских». Там вы непосредственным соприкосновением узнали бы «волю русского народа». Или, во всяком случае, наверно узнали бы его неволю. Увидели бы собственными глазами. И собственными ушами услышали бы, что сейчас в России нет, за малыми исключениями, ни одного довольного и не несчастного человека.
Это было бы – такой опыт мистера Вильсона – очень мило, но, я сознаюсь, бесполезно. Ибо в глубину добрых чувств Его Наивности я все равно перестала верить. А вот жаль, что я не могу дать Вильсону самый практический совет, самый ему сейчас нужный, ему – и всей Европе: не ставьте никаких условий большевикам! Никаких – потому что они все примут, а вы поверите, что они их исполнят.
Есть только одно-единственное «условие», которое им можно поставить, да и оно, если условие – бесполезно, а благодатно лишь как повеление. Это – «убирайтесь к черту».
Черная книжка (1919)
Июнь, СПб.
…Не забывай моих последних дней…
…О, эти наши дни, последние,
Остатки неподвижных дней,
И только небо в полночь меднее,
Да зори голые длинней…
Июнь… Все хорошо. Все как быть должно. Инвалиды (грязный дом напротив нас, тоже угловой, с железными балконами) заводят свою музыку разно: то с самого утра, то попозже. Но, заведя, уже не прекращают. Что-нибудь да зудит: или гармоника, или дудка, или граммофон. Иногда граммофон и гармоника вместе. В разных этажах. Кто не дудит – лежит брюхом на подоконнике, разнастанный, смотрит или плюет на тротуар.
После 11 ч. вечера, когда уже запрещено ходить по улицам (т. е. после 9 – ведь у нас «революционное» время, на два часа вперед), музыка не кончается, но валявшиеся на подоконниках сходят на подъезд, усаживаются. Вокруг толпятся так называемые «барышни», в белых туфлях, – «Катьки мои толстоморденькие», о которых А.Блок написал:
С юнкерьем гулять ходила,
С солдатьем теперь пошла…
Визги. Хохотки.
Инвалиды (и почему они – инвалиды? Все они целы, никто не ранен, и госпиталя тут нет) – «инвалиды» здоровые, крепкие мужчины. Праздник и будни у них одинаковы. Они ничем не заняты. Слышно, будто спекулируют, но лишь по знакомству. Нам ни одной картофелины не продали.
А граммофон их звенит, звенит в ушах, даже ночью, светлой как день, – когда уже спят инвалиды, замолк граммофон.
Утром, по зеленой уличной траве, извиваются змеями приютские дети, – «пролетарские» дети, – это их ведут в Таврический сад. Они – то в красных, то в желтых шапчонках, похожих на дурацкие колпаки. Мордочки землистого цвета, сами босые. На нашей улице, когда-то очень аристократической, очень много было красивых особняков. Они все давно реквизированы, наиболее разрушенные – покинуты, отданы «под детей». Приюты доканчивают эти особняки. Мимо некоторых уже пройти нельзя, такая грязь и вонь. Стекла выбиты. На подоконниках лежат дети, – совершенно так, как инвалиды лежат, – мальчишки и девчонки, большие и малые, и, как инвалиды, глазеют или плюют на улицу. Самые маленькие играют сором на разломленных плитах тротуара, под деревьями, или бегают по уличной траве, шлепая голыми пятками. Ставят детей в пары и ведут в Таврический сад лишь по утрам. Остальное время дня они свободны. И праздны, опять совершенно так же, как инвалиды.
Есть, впрочем, и много отличий между детьми и инвалидами. Хотя бы это одно: у детей лица желтые – у инвалидов красные.
Вчера (28 июня) дежурила у ворот. Ведь у нас, со времени военной большевицкой паники, установлено бессменное дежурство на тротуаре, день и ночь. Дежурят все, без изъятья, жильцы дома по очереди, по три часа каждый. Для чего это нужно, сидеть на пустынной, всегда светлой улице, – не знает никто. Но сидят. Где барышня на доске, где дитя, где старик. Под одними воротами раз видела дежурящую, интеллигентного обличил, старуху; такую старую, что ей вынесли на тротуар драное кресло из квартиры. Сидит покорно, защищает, бедная, свой «революционный» дом и «Красный Петроград» от «белых негодяев»… которые даже не наступают.
Вчера во время моих трех часов «защиты» – улица являла вид самый необыкновенный. Шныряли, грохоча и дребезжа, расшатанные, вонючие большевицкие автомобили. Маршировали какие-то оборванцы с винтовками. Кучками проходили подозрительные личности. Словом – царило непривычное оживление. Узнаю тут же, на улице, что рядом, в Таврическом дворце, идет назначенный большевиками митинг и заседание их Совета. И что дела как-то неожиданно-неприятно так обертываются для большевиков, даже трамваи вдруг забастовали. Ну что ж, разбастуют.
Без всякого волнения, почти без любопытства, слежу за шныряющими властями. Постоянная история, и ничего ни из одной не выходит.
Женщины с черновато-синими лицами, с горшками и посудинами в ослабевших руках (суп с воблой несут из общественной столовой) останавливались на углах, шушукались, озираясь. Напрасно, голубушки. У надежды глаза так же велики, как и у страха.
Рынки опять разогнали и запечатали. Из казны дается на день 1/8 хлеба. Муку ржаную обещали нам принести тайком – 200 р. фунт.
Катя[60]60
Горничная.
[Закрыть] спросила у меня 300 рублей – отдать за починку туфель.
Если ночью горит электричество – значит, в этом районе обыски. У нас уже было два. Оцепляют дом и ходят целую ночь, толпясь, по квартирам. В первый раз обыском заведовал какой-то «товарищ Савин», подслеповатый, одетый как рабочий. Сопровождающий обыск И.И. (ужасно он похож, без воротничка, на большую, худую, печальную птицу) шепнул «товарищу», что тут, мол, писатели, какое у них оружие. Савин слегка ковырнул мои бумаги и спросил: участвую ли я теперь в периодических изданиях? На мой отрицательный ответ ничего, однако, не сказал. Куча баб в платках (новые сыщицы – коммунистки) интересовалась больше содержанием моих шкапов. Шептались. В то время мы только что начинали продажу, и бабы явно были недовольны, что шкап не пуст. Однако обошлось. И.И. ходил по пятам каждой бабы.
На втором обыске женщин не было. Зато дети. Мальчик лет 9 на вид, шустрый и любопытный, усердно рылся в комодах и в письменном столе Дмитрия Сергеевича. Но в комодах с особенным вкусом. Этот, наверно, «коммунист». При каком еще строе, кроме коммунистического, удалось бы юному государственному деятелю полазить по чужим ящикам?
А тут – открывай любой.
– Ведь подумайте, ведь они детей развращают. Детей! Ведь я на этого мальчонку без стыда и жалости смотреть не могу! – вопил бедный И.И. в негодовании на другой день.
Яркое солнце. Высокая ограда С. собора. На каменной приступочке сидит дама в трауре. Сидит бессильно, как-то вся опустившись. Вдруг тихо, мучительно протянула руку. Не на хлеб попросила – куда! Кто теперь в состоянии подать «на хлеб»? На воблу.
Холеры еще нет. Есть дизентерия. И растет. С тех пор как выключили все телефоны – мы почти не сообщаемся. Не знаем, кто болен, кто жив, кто умер. Трудно знать друг о друге, – а увидаться еще труднее.
Извозчика можно достать – от 500 р. конец.
Мухи. Тишина. Если кто-нибудь не возвращается домой – значит, его арестовали.
Так арестовали мужа нашей квартирной соседки, древнего-древнего старика. Он не был, да и не мог быть связан с «контрреволюцией», – он просто шел по Гороховой. И домой не пришел. Несчастная старуха неделю сходила с ума, а когда, наконец, узнала, где он сидит и собралась послать ему еду (заключенные кормятся только тем, что им присылают «с воли»), – то оказалось, что старец уже умер. От воспаления легких или от голода.
Так же не вернулся домой другой старик, знакомый 3. Этот зашел случайно в швейцарское посольство, а там засада.
Еще не умер, сидит до сих пор. Любопытно, что он давно на большевицкой же службе в каком-то учреждении, которое его от Гороховой требует, он нужен… но Гороховая не отдает.
Опять неудавшаяся гроза, какое лето странное. Но посвежело.
А в общем ничего не изменяется. Пыталась целый день продавать старые башмаки. Не дают полторы тысячи – малы. Отдала задешево. Есть-то надо.
Еще одного надо записать в синодик. Передался большевикам А.Ф.Кони! Известный всему Петербургу сенатор Кони, писатель и лектор, хромой 75-летний старец. За пролетку и крупу решил «служить пролетариату». Написал об этом «самому» Луначарскому. Тот бросился читать письмо всюду: «Товарищи, А.Ф.Кони – наш! Вот его письмо». Уже объявлены какие-то лекции Кони – красноармейцам.
Самое жалкое – это что он, кажется, не очень и нуждается. Дима не так давно был у него. Зачем же это – на старости лет? Крупы будет больше, будут за ним на лекции пролетку посылать, – но ведь стыдно!
С Москвой, жаль, почти нет сообщения. А то достать бы книжку Брюсова «Почему я стал коммунистом». Он теперь, говорят, важная шишка у большевиков. Общий цензор. (Издавна злоупотребляет наркотиками.)
Валерий Брюсов – один из наших «больших талантов». Поэт «конца века» – их когда-то называли «декадентами». Мы с ним были всю жизнь очень хороши, хотя дружить так, как я дружила с Блоком и А.Белым, с ним было трудно. Не больно ли, что как раз эти двое последних, лучшие, кажется, из поэтов и личные мои, долголетние друзья – чуть не первыми перешли к большевикам? Впрочем, какой большевик – Блок! Он и вертится где-то около, в левых эсерах. Он и А.Белый – это просто «потерянные дети», ничего не понимающие, аполитичные, отныне и довека. Блок и сам как-то соглашался, что он «потерянное дитя», не больше.
Но бывают времена, когда нельзя быть безответственным, когда всякий обязан быть человеком. И я «взорвала мосты» между нами, как это ни больно. Пусть у Блока, да и у Белого – «душа невинна: я не прощу им никогда».
Брюсов другого типа. Он не «потерянное дитя», хотя так же безответствен. Но о разрыве с Брюсовым я и не жалею. Я жалею его самого.
Все-таки самый замечательный русский поэт и писатель – Сологуб – остался «человеком». Не пошел к большевикам. И не пойдет. Не весело ему за это живется.
Молодой поэт Натан В., из кружка Горького, но очень восставший здесь против большевиков, – в Киеве очутился на посту Луначарского. Интеллигенты стали под его покровительство.
Шла дама по Таврическому саду. На одной ноге туфля, на другой лапоть.
Деревянные дома приказано снести на дрова. О, разрушать живо, разрушать мастера! Разломают и растаскают.
Таскают и торцы. Сегодня сама видела, как мальчишка с невинным видом разбирал мостовую. Под торцами доски. Их еще не трогают. Впрочем, нет, выворачивают и доски, ибо кроме «плешин» – вынутых торцов, – кое-где на улицах есть и бездонные черные ямы.
N. был арестован в Павловске на музыке во время облавы. Допрашивал сам Петерс, наш «беспощадный» (латыш). Не верил, что N. студент. Оттого, верно, и выпустил. На студентов особенное гонение. С весны их начали прибирать к рукам. Яростно мобилизуют. Но все-таки кое-кто выкручивается. Университет вообще разрушен, но остатки студентов все-таки нежелательный элемент. Это, хотя и – увы, пассивная, – но все-таки оппозиция. Большевики же не терпят вблизи никакой, даже пассивной, даже глухой и немой. И если только могут, что только могут – уничтожают. Непременно уничтожат студентов – останутся только профессора. Студенты все-таки им, большевикам, кажутся коллективной оппозицией, а профессора разъединены, каждый – отдельная оппозиция, и они их преследуют отдельно.
Сегодня еще прибавили ‘/8 фунта хлеба на два дня. Какое объедение!
Ночи стали темнее.
Да, и очень темнее. Ведь уже старый июль в половине.
Косит дизентерия. Направо и налево. Нет дома, где нет больных. В нашем доме уже двое умерло. Холера только в развитии.
16 июля
Утром из окна: едет воз гробов. Белые, новые, блестят на солнце. Воз связан веревками.
В гробах – покойники, кому удалось похорониться. Это не всякому удается. Запаха я не слышала, хотя окно было отворено. А на Загородном – пишет «Правда» – сильно пахнут, когда едут.
Няня моя, чтобы получить парусиновые туфли за 117 р. (ей удалось добыть ордер казенный), стояла в очереди сегодня, вчера и третьего дня с 7 часов утра до 5—10 часов подряд.
Ничего не получила.
А И.И. ездил к Горькому, опять из-за брата (ведь у И.И. брата арестовали).
Рассказывает: попал на обед, по несчастью. Мне не предложили, да я бы и не согласился ни за что взять его, горьковский, кусок в рот; но, признаюсь, огурцы свежие и кисель черничный…
Бедный И.И., когда-то буквально спасший Горького от смерти За это ему теперь позволяется смотреть, как Горький обедает. И только; потому что на просьбу относительно брата Горький ответил: «Вы мне надоели. Ну и пусть вашего брата расстреляют».
Об этом И.И. рассказывал с волнением и дрожью в голосе. Не оттого, что расстреляют брата (его, вероятно, не расстреляют), не оттого, что Горький забыл, что сделал для него И.И., – а потому, что И.И. видит теперь Горького, настоящий облик человека, которого он любил… и любит, может быть, до сих пор.
Меня же Горький и не ранит (я никогда его не любила) и не удивляет (я всегда видела его довольно ясно). Это человек прежде всего не только не культурный, но неспособный к культуре внутренно. А кроме того, – у него совершенно бабья душа. Он может быть и добр – и зол. Он все может и ни за что не отвечает. Он какой-то бессознательный. Сейчас он приносит много вреда, играет роль крайне отрицательную, – но все это, в конце концов, женская пассивность, – «путь Магдалины». Но Магдалина, которая никогда не раскается, ибо не поймет своих грехов.
Не завидую я его котлетам. Наша затхлая каша и водянистый суп, на котором мы сидим месяцами (равно как и И.И.), – право, пища более здоровая.
Старика И., знакомого 3. (я о нем писала), не выпустили, но отправили в Москву, на работы, в лагерь. Обвинений никаких. На работы нужно ходить за 35 верст.
Что-то все делается, мы чуем, а что – не знаем.
Границы плотно заперты. В «Правде» и в «Известиях» – абсолютная чепуха. А это наши две единственные газеты, два полулистка грязной бумаги, – официозы. (В «коммунистическом государстве» пресса допускается ведь только казенная. Книгоиздательство тоже только одно, государственное, – казенное. Впрочем, оно никаких книг и не издает. Издает пока лишь брошюры коммунистические. Книги соответственные еще не написаны, все старые – «контрреволюционны»; можно подождать, кстати, и бумаги мало. Ленинки печатать и то не хватает.)









































