Читать книгу "Дневники"
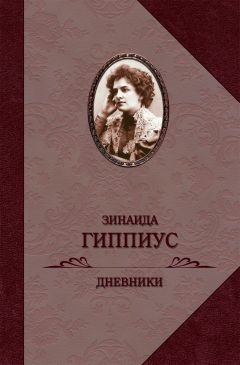
Автор книги: Зинаида Гиппиус
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Через Гершельмана и его друга графа Пшездецко-го принялись устраивать Деренталю аудиенцию у главы государства.
Деренталя было не понять. Он уверял, что на его ответственности лежит решить, стоит Савинкову приезжать или нет. Решит он это лишь после свидания с Пилсудским. Даром вызывать – можно ли?
От Савинкова шли нетерпеливые и довольно спутанные депеши (всегда подписанные Эми Деренталь, женой Деренталя).
В конце мая свидание, после хлопот, состоялось, наконец. У Деренталя еще и шея не прошла.
16 ноября, вторник, Париж
Да, это неслыханная катастрофа. Трагический скандал. Врангель, можно сказать, рухнул в одночасье. Буквально. Лавина всесметающая большевиков, под личным предводительством Троцкого, уже в Севастополе.
Это лишь первая реализация варшавского ужаса – мира в Риге.
Дима, с тех пор как мы уехали, почти месяц, не написал ни строки. Ни мне, да, кажется, и никому.
Я ему писала. Скажу и здесь, что знаю, с чего не возвращусь.
Наша грубая, простая линия понимания, которое мы вывезли «оттуда», – проста и непреодолима, и единственна. Мы знали, что свергнуть иго большевиков (и даже не трудно) можно только:
1) вооруженной борьбой с крайне демократическими лозунгами (Савинкова) и с чисто большевицкими методами борьбы (вроде Балаховича);
2) при непременном условии опоры на регулярную армию другого самостоятельного воюющего государства.
Вот – и больше ничего. Остальное – сравнительные детали, отсюда вытекающие. Знали мы также, что «очень бесплодны все южные движения…». Да ведь это само собою разумелось…
От этого нашего знания и пошла наша вся Польша, и наше ожидание туда Савинкова, и все, все…
От этого знания и не сомневались мы, что «большевики лопнут около Польши в ту минуту и там, где Польша вынесет им первый… даже не удар – укол».
Это случилось в 7 верстах от Варшавы… и так называемое «чудо на Висле» свершилось.
Мы знали… Мир Польши с большевиками, после этого «чуда», – что это такое? Или мы в него не верили (как большинство), или мы забыли, что это – конец?
Все равно. Факт тот, что мы почти ничего не делали ни в Польше, ни во Франции для предотвращения катастрофы. Мы уже разделились тогда в себе – вот наше преступление. О, вероятно мы ничего бы не могли сделать, что такое – мы? Но мы и не делали. И далее, когда мир – первая и главная катастрофа – стал реальностью со всеми последствиями (она включала уже и падение Врангеля), – мы ничего не сделали, чтобы сохранить, спрятать до времени Савинкова и Балаховича… Хотя как?
Савинков теперь, со всей правдой дела (говорю не лично о нем, а как о «знаке») – «один в поле воин». С ним, если при этом ужасном условии, он… Будет дискредитирована и единственная правда дела, правда лозунгов и методов.
Ждать нечеловеческого чуда, чуда совсем внереального – одно можно. Но можно ли даже молиться, требовать такого чуда нам, не исполнившим меру своих крошечных сил? О, если б я могла!
Савинков тоже виноват тут, но он, для себя, конечно, будет «свят». Но что Савинков, что – в конце концов – и каждый из нас!
Я не совсем помню, когда именно, но чуть ли не в один с Деренталем день, лишь на несколько часов раньше, было и свидание с Пилсудским Родичева. (Может быть, и ошибаюсь, но, кажется, так.)
Надо сказать, что старик, в общем, все знал и был с нами в прекрасных отношениях, – не знал только деталей. Мы виделись каждый день и уж конечно всячески старались держать его на нашей стезе. Ибо он нет-нет – да и взбурлит, и начнет порываться к своим «кадетам»! Помогала много его любовь к Польше, а затем то, что Родичев сам по себе удивительно ясный, честный, добрый человек.
К Савинкову он относился хорошо (и надо ведь, помнит, что из Парижа приехал! И кадет! И большевиков путем не испытал!). Только иногда, ни с того ни с сего, вдруг начинал доказывать, что с Савинковым ничего не выйдет… почему? «А потому, что он – убийца!!»
«Вышло же с Пилсудским, – возражаем мы, – а ведь он то же, что Савинков, чуть не той же, во всяком случае такой же, боевой организации».
Тогда Родичев начинал доказывать, что Пилсудский внутренне это свое «убивничество» преодолел, переступил, а Савинков – нет («Я читал его романы!)», и что это лично делает последнему честь, но действия его обречены на неудачи. И прибавлял еще смутно, что Пилсудский – неизвестно, может тоже в конце концов провалиться.
Нас не тревожили, конечно, эти выводы Родичева: но в глубине души, – меня по крайней мере, – тревожило другое при сравнении Бориса с Пилсудским. Видно же, что этого обожают целые косяки людей, что он, говоря мещански, «популярен», и даже в армии. Борис, этот потрясающий «личник», как-то специализировался по «непопулярности». Наверно (еще бы!) глубже Пилсудского… Но вдруг он и теперь глубок, как дыра, проткнутая семиверстной палкой: чуть не до центра земли глубок, – но узок, темен…
Впрочем, ведь говорит же Деренталь, что он изменился…
Так я тогда размышляла.
Старика в Бельведер шапронировал какой-то расторопный малый из Русского комитета. К четырем часам.
Свидание это не могло иметь никакого особого значения и, конечно, никаких реальных последствий. И не стремилось к ним. Просто акт вежливости с обеих сторон, со стороны Родичева, и «желание взглянуть в глаза».
Ну да и так, вообще, – «на всякий случай».
Родичев уж имел против Пилсудского особый зуб – Петлюру, Украйну. Уже нет-нет и зажигался (правда, минутно) проклятым и преступным огнем «патриотического» негодования, который разгорался уже среди всегубящего русского эмигрантства в Париже и в Лондоне.
Ведь ей-богу, – и это стоит отметить! – все оно, вплоть до невинно-безалаберного Бурцева, до того дошло, что стало кричать вместе с большевицкими о патриотическом подъеме в Совдепии, в красной армии, против гнусной Польши, желающей отнять у России (??) Украйну, объявляющей ее самостийность!
Орало без различия партий. В глупостях, безумно-гадостных и фатальных, – всегда единодушно.
Под вечер пришел Родичев к нам и всем нам обстоятельно рассказывал об аудиенции.
(Деренталя не было. Положительно – его свидание было назначено в тот же день вечером!)
Усталый старик как-то размягчился. «Сказал прямо, что об Украйне буду молчать». А в общем – доволен. Пилсудский, очевидно, был с ним снисходительно мил, осторожно умен. Я спрашивала о впечатлении от личности.
– Я скажу… да, я скажу, что у него – честные глаза…
Не совсем помню, когда явился Деренталь. В этот день или на другой. Во всяком случае при нем были только мы, никого постороннего.
Явился довольный, – тут уж и мы вздохнули свободно. Говорит, что послал Борису очень благоприятную телеграмму. Выходило, что Пилсудский хочет приезда Савинкова. Как будто хочет, однако, чтобы он приехал один. Так Деренталь и телеграфировал.
Да с кем Савинкову и приезжать? Ясности у нас полной не было, но как будто выходило, что у него приблизительно никого.
Перед самым свиданием Деренталя от Савинкова опять были противоречивые телеграммы. То «не приеду», то «все изменилось, приеду» и «без папы» (Чайковский).
Деренталь начал с того, что передал от Савинкова поздравление Пилсудскому по поводу его успехов на Украйне. Это, кажется, маршалу весьма понравилось.
Мы стали ждать. И довольно радостно. Даже Дима был (сравнительно) весел.
Как жаль, что я не помню точно числа июня, когда приехал Борис. Мы с Дмитрием пошли обедать. Дима тоже куда-то ушел. Быстро вернулись (и Дима). Френкеля, – кто-то из них, – сказали, что у нас был гость, «кажется, министр», оставил карточку, придет в 5 ч.
На карточке Савинкова («Ancien Ministre de la Guerre de Russie»[66]66
Бывший военный министр России (фр.).
[Закрыть]) действительно стояло: «Зайду около 5½».
Мы, как-то успокоенно, опять стали ждать.
Когда позвонили – мы невольно пошли к дверям передней, и я первая попала в его объятия.
25 ноября, Париж
Дима телеграфировал, что приедет в пятницу (завтра). Ранее была телеграмма от Буланова, что через 8 дней приедет в Париж или Дима, или Борис. И затем было (через Пети) письмо от Димы, начинавшееся так: «Сегодня отправил Борису письмо с категорическим требованием приезда. Мне кажется, ему нужно поехать в Париж, ударить кулаком по столу и взять, наконец, в свои руки несчастный русский флаг…» (!) Это показывает, что Дима тоже не понимает степени непопулярности здесь Бориса. Конечно, надо бы сделать именно так; но ранее надо было сделать здесь гигантскую подготовительную работу вроде польской, только неизмеримо труднее, ибо тут приходится считаться с русскими отбросами, с русской швалью и старью, а шваль и старь – все русские, за личными исключениями, и русских тут чуть не 200 тысяч. Да и Савинков…
К личностям же Варшава отнеслась с самой опрометчивой пренебрежительностью (не говорю о нас) и всякого друга, данного и потенциального, сумела оттолкнуть. Кое-кого определенно вышваркнула, кое-кого обманула, почти всех раздражала полным отсутствием связи и информации, полнотой невнимания. Неожиданно, вчера, «Общее дело» напечатало интервью с «только что прибывшим в Париж» и будто бы «назначенным представителем Русско-Польского комитета в Варшаве» – каким-то Неклюдовым. Кто он – неизвестно, ибо его не знают ни у Пети, ни в кадетских кругах. Мы не знаем даже, откуда он взялся. (Но мы – все равно, а почему так случилось, что мы «все равно», – это будет видно из моего последовательного рассказа.)
Дима пишет еще, что положение «невероятно трудное», что Пилсудского травят. Украинцев бьют и «на Пермикине лица нет».
Сегодня известия, что большевики принялись и за Балаховича и «остатки его накануне ликвидации». Верно ли это или упреждение событий, – не знаю. Но зато знаю, что Англия накануне признания большевиков. Это-то уж верно. Между прочим, поэтому я думаю, что большевики сейчас на Польшу ни за что не полезут (если бы!).
Не полезут, слишком хитры.
Пилсудский, по словам Димы, «в мир не верит, но войны вести не может». Нахохлившийся больной орел.
Может быть, большевики и вовсе не полезут на Польшу? Может быть, внутренние польские раздоры, которые ужасны, кончатся падением Пилсудского… и тогда Польша будет завоевана «мирно», т. е. попросту обольшевеет. Отсюда особенно ясно видно, как там все полуразрушено, какая там полусовдепия.
Я, впрочем, не хочу, прямо не хочу ничего предсказывать.
О, какое жалкое зрелище русские за границей! И партийные, и беспартийные…
Сегодня мы опять пойдем обедать к Пети́.
Савинков изменился – так неуловимо, что я бы не могла сказать – чем… Однако я его мгновениями не узнавала. Постарел? Поплотнел? Полысел? Нет. Перед свиданьем в Петербурге в 17 году, я его дольше не видала, – и он был совсем тот же, он же… А теперь – он, а мгновеньями другой человек. (Говорю только о физике.)
Он, конечно, воззрился на Диму: неудивительно! Этот ведь в самом деле во всех смыслах – неузнаваем!
Долго не мог прийти в себя от Димы. Дмитрия нашел только чуть побелевшим сбоку, да и то мало. А моей «непотрясаемости», как он выразился, моей неизменяемости так же долго удивлялся, кажется, как Диминой перемене.
Мы все были радостно взволнованы. Чувствовалось, слишком много надо сказать – и мысли перебивают одна другую.
Володи, конечно, тут не было. Вообще же я должна сказать несколько слов о Володе. До сих пор он, в свою меру, во всей этой польской эпопее, был вместе с нами: и у Оссовецкого, и в Польско-Русском обществе, и у мессианистов, и лекции читал тоже везде с нами вместе. Это мне казалось, помимо всего другого, хорошим символом: не все «седые и лысые»… И если б у него характер поактивнее, то было бы, конечно, еще лучше. Он мог бы завязывать связи собственные с людьми, с которыми мы не могли связаться, благодаря нашему положению и, главное, нашему возрасту. У нас могла бы создаться периферия. Большевики понимают не хуже меня, как нужна молодежь, и притом отнюдь не только в виде пушечного мяса…
Этого, благодаря Володиному характеру, пока не выходило. Он просто оставался «на наших стезях». Я надеялась, впрочем, что в конце концов будет именно то, что нужно, и пока оставляла как есть.
Надо еще прибавить, что Володя очень доверчив, наивен, невинен – в общежитии, в смысле условного «умения жить». Он не имел «светской практики» и не умел вовремя приходить – вовремя уходить, выгодно быть и выгодно не быть. Конечно, и весь уклад жизни наш был совершенно исключительный. Я не знаю и сама, будь я Володей на Володином месте, нашла ли бы я тот исключительный такт, с которым надо было «выгодно приходить и уходить», мудро держать себя… не с нами, но с нашими людьми.
Во всяком случае лишь с Крулевской я тут почувствовала особые трения. Дима как будто раздражался. Наконец, по поводу Деренталя (и уж со слов «конспиративного» Деренталя) сказал мне. Я, конечно, сказала Володе, – но уж это беда, когда нужно сказать: непременно человек станет самым «невыгодным» образом – уходить!
Последнее время при Дерентале Володя и уходил.
Не было его, конечно, и при первом свидании с Савинковым, но и потом не было. Большей частью, едва являлся Савинков, – Володя уходил. Сидел в комнате Дмитрия. Потом, если мы пили чай, я его звала – приходил, но был тенью, что совершенно естественно… хотя и неестественно.
(Таковы уж все люди: склонны других прежде всего брать, как тень… мешающую или помогающую. И когда чувствуешь, что тебя берут за тень, – трудно не входить в роль.)
26 ноября, пятница, 4 часа
Дима не приехал утром, встречавший его Володя сказал, что поезд опоздал.
Но теперь мне вдруг пришла мысль, абсолютно дикая и оскорбительная, но вероятная именно своей неестественностью. Если она не приходила мне в голову ранее, то лишь потому, что еще не окончательно свихнулась, все спадаю в нормальность.
Мысль эта: Дима не будет жить у нас, остановится в гостинице. Он туда прямо и проехал.
Легко объясниться внешним образом (предлоги) и невозможно оправдать внутренно.
Да, я забыла абсурдную психопатию Варшавы и несчастье Димы. Оттого я и не думала об этом. Теперь я почти уверена.
18 декабря, суббота
Конечно, конечно, так и случилось.
Дима живет в гостинице. Он еще здесь. Мы редко видимся. Дело, за которым он приехал (доставать деньги для интернированного в Польше отряда Савинков – Балахович), не удалось. Больше мы ничего не знаем.
Третьего дня Дмитрий читал лекцию в Салоне Дантон. Слушали внимательно.
На днях Дима уезжает обратно в Варшаву. С проклятиями. Неблагословенность «наших» дел… Еще бы! Так и будет продолжаться.
11 марта 1921
Кончена зима, кошмарная. Я физически не могла писать дневника. Знаю, что это очень плохо.
Писала статьи в «Общем деле». Получала письма от читателей. Дима совсем оставил нас. Трудно понять, что они там с Савинковым делают. Оказывается, «разгромили» генералов. Вышвырнут и Балаховича. Дима, кажется, сделал политику (политику Савинкова) своей религией. Трудно поверить.
Но дело не в том. А в том, что Россия опять в революции. Восстание кронштадтских матросов. Борьба за Петербург. Моря, океаны крови. То, чего не было бы при малейшей помощи извне, – «интервенции». Но социал-революционеры ликуют. Что им русская кровь!
Главное – это длится. Уже две почти недели. Какое томление духа, какая боль. Но лучше молчать пока.
Чайковский, И.Демидов, Вакар, Карташёв и мы – соединяемся в какой-то религиозный союз. Илюша и Руднев, посидев, ушли, ибо не желают (не могут) вливать в «дела» – дух, а дух делать действенным. Бунин – во-первых, слишком чистый «художник», а во-вторых, – не без черносотенства.
Карташёв – но буду ли я о Карташёве?
В смертельном томлении душа моя.
26 марта, суббота (ихняя Страстная)
Вот когда действительно надо было бы писать дневник. И нет ни сил, ни возможности. Нет слов, – а между тем только слова останутся. Только они кому-нибудь помогут не забыть. А забывать нельзя.
Большевики восторжествовали по всем пунктам. Вся Европа кинулась помогать им.
Ллойд-Джордж подписал соглашение. Так же все другие страны. Польша подписала мир. Кронштадт, конечно, пал.
В Варшаве Савинков сидит по-прежнему, всех разогнав, самодовольный, с Димой. Нельзя понять, на что они надеются. Ничего не видят.
Франция предложила Врангелю отправить русские войска или в Совдепию, или в Бразилию. Милюков, съеденный эсерами, требует уничтожения Врангеля.
Я ничего не понимаю от тяжелой душевной боли. Целыми днями хожу одна, в толпе. Не знаю, куда еще бежать.
Всякий день жду удара… О, если б я знала! Неужели Дима…
Карташёв исчез.
Теперь я здесь отмечу нечто, относящееся к нашей Варшаве в июне 1920 года, что имеет очень важное внутреннее значение, но такое внутреннее, что не подлежит оглашению. Это касается меня и Савинкова. Составляет продолжение – непосредственное – истории нашей в Варшаве.
Несколько слов раньше: Савинков до такой степени, по природе, лишен в себе женского, что никогда не могла себе представить, чтобы между нами, в какой бы то ни было форме, мог возникнуть пол.
Слава Богу, около пятнадцати лет я его знаю, и несмотря на всю (мою) дружбу, – это было в корне исключено между нами, в голову не приходило ни мне, да и, очевидно, ни ему.
Первые дни в Варшаве Савинков еще ничего не начинал – да и Пилсудский был в отъезде, – а предстояло решительное с ним свидание. Собственно, оно уже было ясно. Предстояла большая ломка для Савинкова, – еще так недавно бывшего колчако-деникинцем, большие, может быть, унижения… Савинков это понимал, был неспокоен. До этого свидания с Пилсудским избегал какого-нибудь «оказательства» в польском обществе. Бывал только у нас. Ко мне проявлял особое внимание, и за глаза – и в глаза. Это было естественно – не я ли верно хранила всегда его для нас, не я ли одна писала ему, и прежде – и в последнее время, не я ли особенно настаивала на его приезде, на его нужности здесь?
Меня не удивило, когда однажды, в жаркий солнечный день (у нас сидели, как почти всегда, люди – Родичев, Буланов, еще кто-то), пришел Деренталь и сказал: «З.Н., Б.В. хочет иметь с вами партикулярный разговор, он у себя, просит вас прийти к нему сейчас». Я надела другие туфли, шляпу и потом пошла. Через сад. Сад был напротив нас. Если его пересечь – то выходишь прямо на маленькую тихую уличку, где помещается Брюловская гостиница, тоже окнами в сад.
В маленьком номере Савинкова я уже бывала. Он нам трогательно там устраивал обед (всем трем), очень заботился, чтоб была скатерть, – в Варшаве нет скатертей, – и добыл все-таки нечто, похожее на простыню больше. Номер узкий, длинный, в одно окно, выходящее на сад (высоко). Слева красный диванчик, стол с бархатной скатертью, кресло спиной к окну. По правой стене у окна шкаф, дальше кровать. Я застала Савинкова сидящим на диванчике у стола. Простывший чай. Какие-то конфеты. Я села в кресло. Окно было открыто.
Наша долголетняя дружба делала наши отношения близкими и, как мне казалось, очень верными и очень прямыми. Если слово «любовь» взять, как слово совсем исключительное, высшее, редкое во всяких отношениях, то я не могу сказать, что я люблю Савинкова. Но я чувствовала к нему совершенно особую, редкую близость, глубоко человеческую, доверие, понимала его ценность и думала, что одна понимаю его слабости, принимаю его с ними. Все это в то время еще подчеркнулось радостью несказанной, что вот – этот человек здесь, внутренно с нами, в той правде, которую мы видим, и будет в нужной борьбе, и сделает то, что нужно, ибо у него сила, которой у нас нет. Только о том и думалось, как бы ему тут помочь, пригодиться, хоть на линийку увеличить его силу. Ведь это «борьба» – только она и заполняла все наши помыслы, чувства – все. Я как-то, почти не думая, ощущала тогда всех нас, – и его, – вместе. И за Диму перестала бояться (что он опять пойдет против Савинкова). Слишком важно было первое, главное.
Мы говорили очень хорошо. Я понимала остро «боренье духа», в котором находился этот властный, одинокий человек. Такому нужно вдруг, порою, поговорить с кем-нибудь вот так, близко. И то, что предстояло, – было так трудно, так важно, так нужно. Трудно передать разговор, и тогда я не могла бы. Переплеталось внешнее и внутреннее, личное и общее. Говорил – о себе – тоже и внешне, и внутренне. Какое странное смешение в нем доверчивости, ребяческой, – мрачности, самоуверенности – суеверия, остроты и слепоты, расчета и безрассудства; то он сознателен – то инстинктивен. Сколько примитива, кроме того. Нет, никогда не встречала я таких сложностей в единой душе… И даже не сложностей. Ведь он как будто тонок, но не тонок. Он никогда не владеет всем, что у него есть, но всегда чем-нибудь одним, и незаметно это одно начинает владеть им.
Я давно пересела к нему на диванчик, обнимала его полусмеясь, нежно, целовала его. (Мы часто, всегда целовались, особенно прощаясь – мы ведь расставались каждый раз как бы «навсегда».) Говорила, что все понимаю и его сейчасного понимаю (что была правда), – ведь мы с вами «однотипны». Он тихо соглашался: «Да, мы похожи». Разговор не переходил на отвлеченности. Иногда мы просто «молчали вместе». Я знаю, что ему в эту минуту дорога была бы та интуитивная ласка, тот духовный знак, которым так богаты женщины. К этому он бессознательно тянулся. Я знаю, что тут мой провал, и я уже в первое это свидание как-то дрожала, что сумею и не умею создать именно этой атмосферы, дать и это. Нет у меня этой интуиции! А что у меня есть – сейчас, в данную секунду, не нужно. Впрочем, это было не так резко тогда, а смутно. Всей доброй волей моей я смутно искала путей к такому проникновению. Впрочем, во мне столько было бездонного человеческого чувства к Савинкову и такой подъем духа, что я ничего еще не боялась.
– Я даже не честолюбив… Я властный, но это другое… И уж таким я родился…
Когда надо было уходить – идти ужинать – он меня не отпускает: «Ведь вы понимаете, я один, один с моими мыслями и борениями. Придет Деренталь… Потом уйдет… Больше ничего… Эти дни пройдут, я справлюсь с собой. Когда решу – будет легче. Но теперь мне трудно». – «Хорошо, я пойду домой, скажу, что буду ужинать с вами, – и вернусь. Хотите? Я приду через четверть часа».
Дома я застала Володю (он ужинал всегда с нами), сказала, что опять ухожу. «Да. Пожалуйста, придите за мной в Брюль в 11 часов». (В Варшаве можно было ходить вечером лишь до 11½, и одной неприятно.)
Итак – я вернулась. Мы ужинали на том же столике, пили кофе, курили. Он был очень рад мне. Не помню хорошо, но, кажется, настроение было не такое интимное, как дневное. Или, кажется, оно несколько изменилось, когда я (довольно бестактно) сказала:
– Я просила «моего Деренталя» прийти за мной в 11 часов.
– Зачем? – как-то недовольно сказал он. – Я бы вас сам проводил.
Ровно в 11 часов Володя пришел, и мы тотчас же ушли.
Эта крошечная тень не имела никакого значения. И опять я не удивилась, когда, на другой день, возвратясь из пансиона, где мы обедали, нашла записку от Деренталя: «Б.В. будет ждать вас все время…» И я пошла опять.
Мне жаль, что я пишу так вдолге, так не могу восстановить подробностей даже самых как бы ненужных – они, по-моему, все нужны.
Савинков за эти несколько дней (я даже не помню уже сколько) очень много мне говорил о себе. То с детским увлечением показывал мне красную, широкую масонскую ленту и рассказывал, как он «держал экзамен» в какую-то высшую степень и как его «клали в гроб», то рассказывал о своих делах и путешествиях, об истории с Авксентьевым, то о Дерентале, о том, как отец его жены предал его, Савинкова, и как Савинков, простив, приобрел вечно преданных ему людей… То опять о себе внутреннем, о своей «безмерности», о любви к детям… (О безмерности, об отсутствии «меры» я уже начинала догадываться, т. е. об ужасной этого стороне.)
Но дело не в том. Не про это хотела писать. Вот про что: наши «сидения» вдруг стали приобретать совершенно неожиданный оттенок. Я сначала отказывалась верить себе, но уже не замечать этого сделалось нельзя, а скоро и вид делать, что не замечаешь, уж нельзя стало. Меня просто ужас взял, ибо я сразу охватила все возможности тупика. Безысходность я поняла чуть не раньше, чем его импульсы. Конечно, он в меня не влюблен (еще бы!). Я даже нарочно, говоря о прошлом, подчеркнула: «Я ведь никогда не была влюблена в вас», – на что он тотчас ответил: «Вот и я тоже»; допустить грубое «желание» – тоже глупей глупого, слава Богу, что я на «мужчинский» вкус из себя представляю? Несмотря на известную моложавость – подумаешь!!! Я соображаю, что это было, в сущности, все опять то же стремление к близости «женского» в его интуитивной силе, утешающей и поддерживающей; его собственное объяснение, очень индивидуальное, свойское, как будто этому не противоречит… «Я совсем не грубый в этом смысле… Меня не знают… И не "брачник"… Неужели вы думаете, что если б я хотел женского тела… Нет, я не понимаю близости духовной только. Вместе видеть смерть лицом к лицу – это сближает действительно, физически…» – «Но я не думаю так. Я не могу». – «Тогда не нужно целовать в уста…» – сказал он, слегка отодвигаясь. Думая все о том же, о тупике, который все равно грозит, раз уж такое случилось и он так думает, я взволнованно сказала: «Я ведь ничья…» Он, не понимая, ответил: «И я ничей…»
Смотрел прямо, мимо меня.
Тут я опять сказала, что в него никогда не была влюблена, что у нас с ним другая близость, совершенно единственная, что тут мы чересчур «однотипны»… Уже не помню, что я говорила, но была искренна и опять с болью чувствовала, что дело в «атмосфере» женской, и что дать ее я не могу никогда, и что тупик готов во всех случаях, даже в том, если бы я внутренно решилась пойти на все жесты женские… Это была бы сплошь жертва, так как Савинков, по сплошному «мужчинству» своему, вообще убивает во мне всякий пол. Но это была бы жертва бесплодная, она не спасла бы ничего. Твердое сознание бесплодности подобной жертвы меня и подавляло. И я без всякого честного выбора (не хочу щадить себя) пошла по линии наименьшего сопротивления… Была еще глупая надежда, что это «так», а завтра и он забудет. Или еще: что он вдруг «поймет» мои отвлеченные слова, не будет их слушать, как «заговаривание зубов». Под этими глупостями я, однако, знала все простые и неизбежные вещи: это человек исключительного самолюбия и в данной, как во всех других сторонах. Он не привык ни к какому сопротивлению. Он его не простит, даже если бы и хотел…
В этот день я ушла до ужина, и мне удалось сделать это, как хотелось, без тени разрыва… Без «да», без «нет»…
Помню, как я шла через сад домой, по ближайшей аллее, мимо пруда. Было солнечно, каблуки моих туфель стучали по землистому тротуару этой пересекающей сад аллеи… А исхода не было. Сколько ни думай – все равно. Вдолге, вскоре, так, иначе, – мое устранение придет логически. В это время, впрочем, главной моей заботой было – «как не повредить». Вот это.
(Вспоминаю еще, что Савинков очень откровенно говорил со мной о своей коренной «одинокости». Я, впрочем, никогда не сомневалась, что он коренным образом «одиночка». Мы так понимали друг друга, что, когда я с улыбкой напомнила ему конец его второго романа, неожиданно кончающегося «народом», он произнес тихо: «…это я написал для других…». Но, несмотря на такое значение, я тогда считала его ум и его волю в большей гармонии… Впрочем, это отступление сюда не относится.)
Я была так взволнована неожиданным несчастьем, что дома намекнула об этом Дмитрию (слегка) и сказала Диме. Быть может, не в этот день, а на следующий, – не припомню. Ибо на следующий день я тоже обещала прийти, и пришла, и было опять то же мое «верченье», и разговоры, и жесты, и мое внутреннее отчаянье, и мой смех… И опять я ушла с тем же безысходным обещанием прийти завтра. Кажется, он меня провожал на этот раз. Опять было солнечно. Он рассказывал что-то о своем путешествии… (Спешу дописать, надоело ужасно.)
Бело решено, что я приду завтра. Опять. (Окончательно не помню, сколько было этих свиданий. Может быть, больше, чем пишу. Все равно.) На другой день утром получила записку: «Дорогая З.Н. Я буду в два часа у Соснковского (это военный министр), а с З¼ буду дома…» Я дошла до того, что стала просить Диму прийти днем к Савинкову – чтобы «прервать» как-нибудь свидание. Все по той же линии наименьшего сопротивления! Дима обещал, с неохотой; но дела были.
В половине четвертого я пошла. Говорили о делах, о Соснковском. Еще о чем-то. Но я уж видела, что опять будет то же. Дима пришел как-то очень скоро. Я подумала, что это плохо. Не может же и он весь день сидеть. А я хотела с ним уйти. Но Дима и не подумал об этом. Говорили опять о делах. О Пилсудском, который чуть ли не сегодня-завтра приезжает… И Дима скоро взял и ушел. Я осталась.
Это свиданье, так неожиданно последнее, было, в сущности, очень похоже на предыдущие… И я ему говорила: «Послушайте, милый. Ведь вы же заставляете меня бороться с вами. А это смешно. И некрасиво. И я к этому не привыкла». Он остановился, потом снова и, натыкаясь на мое невольное сопротивление, – шептал: «Не боритесь…» Позволить ему решительно все – так же глупо, как не позволить. Т. е. совершенно так же поведет «к худу». Это будущее «худо», неизвестное, уже где-то совершилось. Мог быть один вопрос: в каком из двух случаев оно будет менее важно для общего? Но я не могла этого решить. Мне казалось, впрочем, и весьма разумно и ясно я это сознавала, – что «худо» будет, главным образом, для меня, для наших отношений с Савинковым и для моего участия в деле, которое было для меня дорого, как свое (и вообще дороже всего). И по чести скажу, не рисуясь, что тут и была моя единственная надежда, спасавшая от отчаяния. Да, непредвиденное несчастье. Да, моя мечта была тут, вместе, помогать, делать – провалится, провалилась… чувство твердое. Да, у меня есть силы, я могу быть нужна делу (так я тогда думала крепко), но… даже когда этот мой провал и воплотится? Ведь дело останется? Ведь Савинков останется? Ведь вся беда – моя только, и так ли она важна, моя-то?
Я не думала всего этого четкими мыслями, конечно. Но за эту надежду моей личной неважности хваталась. Схватилась. Без четких мыслей невозможны никакие «решения», конечно. Но могут быть инстинктивные уклоны выбора. И когда я почувствовала, 1) что позволю ему все или не позволю – будет одинаковое худо в результате, но 2) что это худо коснется, вероятно, лишь меня и моего, – я как будто выбрала, т. е. из своих-то «худ»; раз «мое» – могу же я подумать о себе? В моем будущем провале – как мне будет лучше сидеть? С этим бесполезным воспоминанием или без него? И, кажется, у меня был уклон. Ибо, конечно, быть без него мне, в том же фактически положении, лучше.
Ну, да, я разбираю это лишь теперь. Тогда разборки не было. Но все вместе уже было…









































