Читать книгу "Дневники"
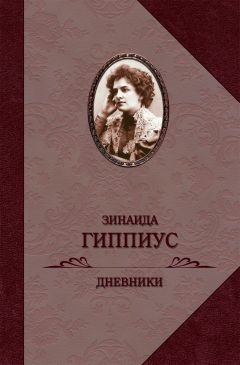
Автор книги: Зинаида Гиппиус
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Коричневая тетрадь (1921–1925)
Отдать
Димитрию Владимировичу после
1920
Некому отдавать, он умер.
И он.
Это надо сжечь.
1944
26 марта 1921, Париж
Без связи. Без цели. Так.
Мне непонятно: куда исчезает все, что проходит через душу. Невысказанное. Себе – без слов. Но бывшее. Значит, и сущее. Или даже очень «словное», и не мелькающее, а пребывающее, запомнятое, только никому не переданное, – куда оно? Вот, я умру. И куда оно? Где оно?
Притом оно, такое, не сделано, чтоб не передаваться. И оно никому, навсегда, неизвестно. И столько, столько его!
Пойдет, может, к Богу и у Него разберется. Да, мне и своего не разобрать, а ведь у всех – пропадает! Очевидно, к Богу.
Бог уж по одному этому неизбежен. Только у Него не пропадает, и только Он в силах разобраться. Потому что на многое как-то требуется ответить, иначе невозможно и бессмысленно.
В разлуке вольной также ложь.
Уходить так сладко. Я, кажется, во сне видела уход.
Я ни о чем не думаю. Я только несу в себе, во всем моем существе – одно.
В каждом маленьком «никогда больше» – самые реальные глаза смерти.
Банальность этой фразы изумительна. Т. е. изумительно, что она сделалась банальной, не сделавшись понятной.
Впрочем, Смерть вообще самая окруженная оградой вещь. Когда говорят Смерть – подразумевают ограду, а еще чаще – ничего.
В сущности, люди не могут выносить в других измены, коренной перемены в своем «я». Люди сами не знают, что именно этого не могут. Однако приходят в самое ужасное негодование и бешенство именно по этому поводу.
Англичане сказали, что грабить мало – нельзя, а помногу – поощряется. Это европейский строй.
М. б., у Савинкова – мимификрия. Так переоделся, что сам поверил?
Вчера Чайковский ужасался савинковской статье в «Свободе»: «Портит и мне, и себе. И что это ни с того ни с сего – "дряхлеющими руками"… У меня руки еще не трясутся».
Рэйли окончательно положил Савинкова на полочку «главы боевой организации». Говорит: это не государственный человек.
Говорит, что в Варшаве более нет смысла оставаться. Предполагает, что Савинков уйдет нелегально соединяться с оперирующими бандами, что Антонов и Махно возьмут его начальником.
Не возьмут.
Только при ухаживании друг за другом возможна совместная жизнь. Только.
Значит, при каком-то элементе «пола». Как входящее.
Брак, т. е. нечто строящееся на поле, не совместная жизнь (настоящая), ибо пол старый, при котором, обыкновенно, «ухаживание» не взаимно по времени: вначале муж ухаживает за женой. Потом перестает, и жена начинает ухаживать за мужем. (Беру счастливый брак.)
Никакой «закон» не может дать истинной совместности.
Савинкова мне очень жалко. Я думала о нем больше. Или не жалко? В нем…
Керенский – предатель. По самой материи своей. Но я как-то не сержусь, не ужасаюсь, не возмущаюсь. У меня перегорели к нему человеческие чувства.
У меня все возмущение, весь ужас перед несправедливостью жизни – слились в один ком, или застыли одним камнем. И я хожу с ним, ношу его, и он меня распирает.
Дима, ты, в сущности, не изменился. И тут таится ужасное. Маленькая чуточка ужасного, но именно тут, в пребывании точки какой-то «сущности», не могущей измениться, но очень – видоизменяться.
Ты говорил, что ты с нами «покорился» (чему?), «потерял свою личность», а ты «отвечаешь за свою личность». А теперь?
Савинков, м.б., более и более сочетается с внешним уклоном твоего «я» (это очень трудно сказать), чем Дмитрий. Но тут нет ничего прекрасного. Тут никакой еще заслуги перед твоей «личностью». (Так как я говорю это для себя, то могу и не договаривать.)
Странно! У меня есть какое-то «облегчение», что я не должна все время «оправдывать» Дмитрия перед тобой, вечно чувствовать его под твоим судящим и осуждающим взором. Могу позволить ему быть грешным по-своему, быть собой. Без стыда покрывать его своей любовью.
Твой жестокий, вечный суд над ним – твой темный грех, Дима, но он простится тебе, потому что ты в нем был не волен. Ты его не хотел, но ты не мог. Так же, как ты хотел любить меня – и тоже не мог.
Я, думая о тебе, никогда как-то не «сужу» тебя. Скорее себя. Даже очень себя. У меня нет твоих оправданий. Я не все сделала для тебя, что могла сделать. Я умела любить тебя, как хотела, т. е. могла, но я чего-то с этой любовью не сделала.
Много чего! Много!
Лето 1921, Висбаден
Когда я больна, – особенно ярко и неотступно вижу тебя во сне. Сегодня у меня болит горло.
Давно мечтается умереть здесь, в твоем Висбадене (которого мы вместе не видали, куда ты мне ни разу не написал), быть похороненной вот здесь, рядом, около русской церкви на Нероберге, под деревьями Таунуса. Здесь спокойно, как на том маленьком кладбище, где мы с тобой искали могилу Жанны и в траве тихо пели пчелы, а я почему-то (?) все плакала, плакала, не могла удержаться и уходила одна по дорожке, чтобы успокоиться.
Никакого страха у меня перед своей смертью. Только предсмертной муки еще боюсь немного. Или много? Но ведь через нее никогда не перескочишь, теперь или после.
А именно теперь хочется покоя. Иногда почти галлюцинация: точно уже оттуда смотрю, оттуда говорю. Все чужие грехи делаются легки-легки, и странно выясняются, тяжелеют, свои.
Вот это главное, вот эта перемена. Ужасно яркая, но не выразимая.
В эти минуты даже против большевиков нет злобы (невозможность всякой именно «злобы»). Вовсе нет «прощения», совсем не то! Но относительно большевиков понимаешь, что они ничего бы не могли без «Божьего попустительства». А Бога я «отсюда» еще могла бы судить, а когда я «оттуда» – то мысли нет, в голову не приходит, не знаю почему.
Борис ничего не знает о смерти, как не знает о любви. Или, вернее, главное не знает. От этого он – слабый. Да, слабый. Он бессилен потерять себя внутренно… Нет, не то. Бесстрашие внешнее, если притом полная немуже-ственность внутренняя, – хуже, чем внешняя трусость.
Совсем не сужу, но пронзительно жалею.
Соединяю тебя, Дима, – нет, не то, не то!
Последняя точка: дохожу до того, что перестает мучить невозможность передать другим мое ясное знание чего-то. Перестает. Это опять должно быть, что несешь Богу и веришь, что оно там, у Него, не пропадает и не пропадет.
Рассказываю сказки себе. Позволяю себе.
Я со дня этого письма с кровавыми подписями, еще с тех пор, больна.
Как странно, что «мы» только тогда что-нибудь могли бы действительно сделать, когда уже физически ничего не можем.
По горло в жизни – слепота. А чуть видишь – уходишь.
Уход. Ухожу ли я? Или перед настоящим бывают еще предупреждения, образы его, последнего?
Я не хочу хотеть конца. Я его хочу хотеть, когда он придет. Просто.
27 декабря, Париж
Мне казалось, что я хочу писать здесь, но вот, взяла тетрадку и не знаю, что верно и не надо. Богу отдавать… однако вот о карандаше думаешь?
Нет, никогда, никогда не пойму я никакой измены, т. е. это слишком громко – «измена». Просто не пойму, что было, а потом нет.
Что тут не понимать? Очень просто.
«Нет благословения». Дима, ты должен вспоминать эти мои слова как свои. Быть может, оттого ты так сердишься, такое непомерно грубое, ребячески несправедливое было твое письмо. Оттого такая жалость.
Не стыдись жалеть себя.
Ты это прочтешь, только если переживешь меня. Поэтому читать будешь уж, наверное, без страха и без злобы. Но, может быть, все-таки без понимания, я и на это готова. Остановись просто, взгляни в себя: ведь можно было уйти от нас, если мы лично негодны (или даже тебе неугодны), но уйти не так. Не уйти от того, что было когда-то нашим Главным. От этого некуда уйти, а если стараешься, то на делах нет благословенья. Я и не делаю ничего, хотя я не уходила: я только упала, где стояла.
Ты пишешь: это было лучшее время моей жизни (когда ушел), – а я вижу твои стиснутые зубы. Откуда же злоба, если ты доволен собой и счастлив?
Если и ничего нет, все теряешь – правду нельзя потерять. С ложью нельзя и одного раза вздохнуть. И добьюсь я ее, правды, хоть одна – перед Богом.
В темные минуты я Савинкова ненавижу. Но редко. Ибо не за что. Потом сверху вниз жалею. И опять проходит, опять не к чему. Просто жалею – почти всегда. И этого он достоин. Достоин??
Он – верный (себе). Он – такой. Он никого не может обмануть. Если им обманываются – виноваты обманутые.
Какое слово? Какое слово?
1922
Так много в душе – и почти без единого слова. Моя болезнь… «мамочкина», и я была рада светлой радостью, когда это узнала.
Тихо все кругом обрезается, – внутренно, – но еще не обрезалось, еще не совсем готова. Еще лежит какой-то ком, клубок.
Савинкова, когда увидала еще этот последний раз, не ненавидела – и не жалела. Поняла, что и не буду никогда уже ненавидеть, да, вероятно, и жалеть. Я скажу правду: мне было неинтересно. И не то, что было, а стало. И не от меня, а от него.
Все, что он говорил, и весь он – был до такой степени не он, что я его не видела. А тот, кого видела, мне казался неинтересным.
Он – прошел, т. е. с ним случилось то, что теперь случается чаще всего, и для меня непонятнее всего.
Оборотень. Еще один оборотень.
Может быть, Дима, и ты уже оборотень. По крайней мере все, что идет от тебя теперь феноменально, – идет не от тебя и для тебя неестественно. Точно совсем от другого какого-то человека.
Если так, то хорошо, что я тебя не вижу, и, может быть, лучше, если я тебя и вовсе более не увижу. Или нет: пусть не лучше, а все равно. Не знаю, дойду ли до этого, но хочу дойти. До полной реализации того, что ты не погиб, что ты живешь – со мной, в моем сердце (больном), именно ты единственный, ты сам.
«Где был я, я сам?» — тревожно, в роковую минуту, спрашивает Пер Гюнт.
И для него, как для тебя, есть это место. Не бойся.
Но когда я так думаю, мне не хочется (кажется ненужным) даже и после моей смерти отдавать эти слова тебе. Тебе – другому, ибо феноменально ты не он и читать будешь «другой».
Смешение порядков. И надо их сначала очень разделять, чтобы потом они могли слиться.
Мне нужна очень большая сила. Чтобы верно хранить тебя. И чисто хранить, отдельно, цельно, не затемняя ничем своим, ни малейшей тенью.
4–5 января
Ну вот, милый Дима. Вчера «он» приехал в Париж.
Разделила ли я до конца, т. е. и кожно, тебя от оборотня? Кажется, еще не вполне, но иду на это и дойду.
Конечно, легче бы дольше не видать оборотня и совсем не видать, но, пожалуй, и так хорошо. Значит, я готова, только еще последнее усилие.
Неправда ли, мы понимаем с тобой, почему «он» не может быть равнодушен, так злится без всяких, казалось бы, причин внешних, почему с такой злобной досадой, желающей быть презрительной, говорит о непотрясаемости «Мережковских» – и все остальное? Это его бессилие, и он, кроме того, все время выдает себя. Что он не ты, мой ясный, мой родной, мой бедный.
Он не знает, что ты жив, хотя он и прогнал тебя из тебя. Но он подозревает что-то смутно и боится.
Под 9 января такой сон тяжелый. Дима умирает в соседней комнате (неизвестная квартира), а я почему-то не могу войти туда. Хожу из угла в угол. И умер, и какая-то горничная (это будто бы гостиница?). Закрыли ему глаза. А я тут лишь из двери могу выглянуть. Вижу только спину его на кровати.
С необыкновенной физической тяжестью проснулась. Опять заснула, и опять то же самое! Продолжение.
В этот день ты не пришел, Дима (ты или он). Я изо всех сил помогала ему казаться тобой. Для этого нужно ни о чем не говорить.
Что Савинков стал видеться с Красиным – меня как-то и не возмутило, и не удивило. Он должен был, логически, перейти за эти пределы.
Не удивляет меня и то, что это (помимо всего прочего) не умно. Я уже давно поняла, что ум у Савинкова очень второстепенный, а в политике – пожалуй, и третьестепенный.
Тот Дима, который следовал и следует за Савинковым понемножечку, шаг за шагом, от интервенции – к восстаниям, к зеленым, к «советам», без коммуны, затем к Его Величеству Крестьянству русскому, потому куда еще? – сам не замечая, должен был дойти и до Ленина без Чека, т. е. совсем к абсурду. Я не буду с ним говорить об этом – и для себя, и для него. Он будет оправдывать все это «политикой», а я не хочу свое больное сердце подвергать бесполезной боли. Не надо.
Господи! Если б знали все это «там». Если б они не узнали, и как можно дальше! А я точно там сижу – и все это знаю. Но пусть я.
8 февраля
Нет, я еще не готова. Я еще не достигла той первой черты, за которой, думала, уже я есть. Я еще «как бы», т. е. делаю, думая. И оттого выходит плохо. Не оторвалась окончательно, действительно. И тебя, Дима, люблю еще с самостью, с болью.
Не домололи внутренние жернова. Еще суд и осуждение. Да, да, перед собой не скроешь. В иные минуты, впрочем, – бывает…
Уподобление есть Савинкову (чего мне здесь бояться?). Уподобление в том, что ведь и он, как бы вчера, – личник, отщепенец и террорист, – а говорит и хочет быть «каплей в море народном», за Ленина без коммуны и т. д. Я – как вчера гордая, злая, бессильно страдающая, боящаяся боли и всякой смерти, жестоко-любящая, – а говорю себе и хочу быть внутренно-сжатой и всепрощающей, крепкой и широко-любящей. Так надо.
Но это лишь уподобление. Внешнее. То, что я есть, и то, чем надо быть, – так далеко от бедного Савинкова. Я, в своем, действительно умею говорить себе его слова: «Я не был призван. Был ли я хоть зван?» А ему в голову это не придет. А в этом сила.
Нет, все не то. Уж важно, что я иду к своей доброте. С каждым мгновением я отрываюсь от тебя, Дима, но это хороший отрыв. Главное, главное – не судить тебя. Не видеть старыми глазами тебя – с Деренталями в одной яме, двух прислуживающих, тебя – оборотня… Неужели не побежу эти соблазны? Когда Савинков за обедом в субботу так надтреснуто смеялся – ведь у меня была же и к нему опять жалость, поверх ясного моего взгляда? Ведь не было у меня к нему ни минуты возмущения или какого-нибудь личного оскорбления? А ведь я его не люблю. Жалость моя любовная к тебе, Дима, должна покрыть тебя, помочь тебе невидимо – на мой счет. Вполне на мой.
Но очень тяжело и трудно. Очень. Очень. Очень.
Прорыв в молитву.
1923, Париж
Примирение с тем, что кажется нелепостью, невозможностью. Говорю о внутреннем, о тебе, опять. Примирение есть. Но от себя не скрываю, это – омертвение тканей. И омертвение не естественно (от старости), а непрестанным усилием воли.
Я не хочу знать то, что знаю. Я, правда, не знаю, как я это знаю, и потому – куда уж другим что сказать! Но я и сама этого знания не хочу, я ужасаюсь до боли, и – глаза крепко-крепко закрываю. Достигается желанное… но это омертвение ткани душевной.
Да о чем я? Не все ли равно – я? А ты не погиб. Тебя только нет там, где ты (с Савинковым). Где ты скитаешься, мой вечный, мой верный тому, чему нельзя не быть верным?
Иногда мне кажется, что никакого Савинкова уже давно нет, и ты в руках злого марева, призрака. Не боюсь тут сказать – дьявольского, чертовой игрушки, да, да! Ведь именно черт не воплощается, и у него игрушки такие же. Не страшная эта кукла — Савинков. Только для тех, кто не знает, что это. Правда, таких и природа не любит, не терпит, ибо он пустота. Я сама не знаю, когда я пришла к такой для меня бесповоротной формуле (и с таким смыслом): пустота. А смысл такой: Савинков хуже всякого большевика, Троцкого, например. Т. е. совсем за чертой человеческого и Божьего.
Нет, вот сказала – и мне стало страшно. Как это я смею такое говорить? Откуда? А может, это личное, за тебя, Дима, когда я вижу, что тебя он из тебя выгнал?
Право, я сама двоюсь. И говорю – и не смею говорить, и знаю – и хочу не знать, верю, что ничего не знаю.
О, пусть бы ты меня пережил. Может, ты бы увидел в моих словах правду, которой я сама не вижу, не понимаю.
Пусть Бог судит и видит Савинкова, я не умею и не смею. Молчу. Молчу.
Декабрь
Я ощупью пробираюсь. И падаю. В злобу падаю, в боль одиночества, в омертвение. А потом опять, тихонько. Кому долго, тому хорошо. А кому не долго, тому плохо добывать. Все на горы смотрела, а вот тебе пылинки. А ты их люби, как горы. Они – твое. Твоя доля. Немножко, немножечко. Если я так доведу, ускромнюсь так, – я знаю, что мне Бог простит многое. Только надо еще никого не обижать. Враг только один – Враг; во всех образах – но всегда один.
Горе, что и в малом надо крепко, а я слабая. Т. е. могу крепко, а тогда выходит не мягко. О, какое борение!
Если б чем-нибудь послужить к его спасению тоже. Хоть как-нибудь, косвенно. И не «там» (там-то он спасется), а еще здесь, на земле. Чтобы он вернулся в себя, зная, что здесь – правда жизни и благословение дела только в этих трех, и вместе:
верность, крепость, благость.
Если они будут, будут и другие необходимые: ясность, тихость, скромность.
У меня есть верность, бывает крепость, а благости я ищу борением, всегда, часто падаю – и опять борюсь. Господи, не для себя! Я-то всегда в страхе для себя.
То, что я делаю, – не увидишь и в микроскопе. И буду делать, и ему радоваться. И не увижу ничего глазами, и ничего. И не увижу и Диминого здесь восстания, прозрения, возвращения к себе, и ничего. То есть иду на это, готова на это. Готова, что так он и будет сидеть в Варшаве, с савинковской «Свободой», по-савинковски ненавидя всех, и не узнает правды. Готова. Но не лгу, хочу, чтоб так не было. Но готова.
Нет, не могу сказать. Просто нету для этого выражения.
А если благость в том, чтоб не желать ему прозрения? Ведь он мне никогда не простит, что не он, а я была права?
Совсем запуталась.
Одно знаю: Савинков – пустота, нестрашная только для того, кто ее видит, осязает. Его нет и, главное, не было никогда. (Если нет, то и не было.)
И вся моя боль от этого не за него (еще бы!), не за себя (что мне я!), а только за тебя, Дима. Да какая!
Но не от тебя, милый, боль моя. Я не обижаюсь на тебя. Разве ты виноват?
А иной раз бунт одолевает. Ох какой! Никого не боюсь, ни тебя, Дима, ни за тебя, все мне равно, так бы, такими бы словами последними выругаться, на «благость» смотрю как на «елей».
Да нет, знаю, это старая слабость. Если б не слабость, были бы строгие, и крепкие, и ясные слова, а ведь нет же их?
Да и не слова, а такой бы нож, и не задумалась бы я отрезать тебя от Савинкова, чего бы это ни стоило. Ты бы выздоровел или умер, а о Савинкове я, конечно, не думаю – о пустоте-то!
Я знаю, что и тогда бы ты не выздоровел вполне. Ты никогда не имел бы силы вернуться к прежнему (вечному). Даже и тогда. Но этого не нужно. Т. е. нужно, но на это я не посмотрела бы. Лишь бы выздоровел ты хоть немного.
Т.е.: я знаю, что ты и отрезанный от Савинкова – никогда не простишь мне, что я была права. Именно это, а не то, что я была так виновата (этого я себе не прощу).
Но чужой правоты почти никто не может простить.
Какая боль, какая боль.
Ноябрь 1924
Неужели? Неужели это совершилось? Дима, Бог рассудил, как я не думала. Как я счастлива эти дни. Я тебя видела, тебя выздоровевшего или выздоравливающего. После этих недель невероятного кошмара с Савинковым (за тебя все) – какая нечаянная радость! Эта книжка смысл потеряла. Так, для памяти, для себя. Чтоб «говорила же я…». А это и не нужно вовсе.
Вместо Савинкова – обнаружилось пустое, гадкое место, и я считаю чудом, совершившимся для тебя, что эта пустота обнаружилась, что ты мог увидеть.
Благодарение Богу за тебя, я знала, что ты не погибнешь «там», но какое счастье, что это дано здесь!
И если даже рана твоя болит и ты скрываешь боль напряжением воли, – ничего, ничего! Все будет, т. е. все уже есть, ибо ты – ты
Май 1925
Савинков погиб?
Да, я думаю, погиб. На меня это не произвело впечатления. Убил ли он себя или что вообще случилось – не все ли равно?
Ведь он уже годы как умер. Да и был ли когда-нибудь?
Дима, да ты все-таки не простишь мне (или не забудешь), что я была права.
1936
Да, это пришло слишком поздно (для Димы).
Указатель
А., см. Андреев Леонид Николаевич
Авксентьев Николай Дмитриевич (1878–1943), публицист, один из лидеров партии эсеров, министр внутренних дел Временного правительства, председатель Предпарламента, с 1918 г. в эмиграции – 157, 180, 184, 209, 213, 261, 280, 293, 301, 305, 311, 333, 475
Аггеев Константин Маркович (1868–1920), священник, духовный писатель, член совета Всероссийского демократического союза духовенства и мирян – 147–149, 155
Аджемов Моисей Сергеевич (1878–1950), юрист, врач, публицист, кадет, депутат Государственной Думы II, III и IV созывов, в эмиграции – 94
Александр III (1845–1894), император (1881–1894) – 108, 218
Александра Федоровна (1872–1918), императрица – 93, 144, 358
Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918), генерал, начальник штаба Ставки (1915), верховный главнокомандующий (1917) – 112, 115, 144, 198, 201, 219
Амалия, см. Фондаминская Амалия Осиповна
Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938), публицист, фельетонист, литературный и театральный критик, драматург – 210, 345, 365
Андреев Леонид Николаевич (1871–1919), писатель, с 1918 г. в эмиграции – 67, 149, 405
Андреева Мария Федоровна (1872–1953), вторая жена М.Горького, актриса МХТ, член РСДРП, заведующая художественно-промышленным отделом советского торгпредства в Германии (1926) – 255, 357, 393
Андреевский Сергей Аркадьевич (1847–1918), поэт, литературный критик, юрист – 360
Андроников Михаил Михайлович (1875–1919), князь, чиновник особых поручений при обер-прокуроре Синода (1897–1914), начальник Кронштадтской ЧК (1917) – 215, 216
Аргунов Андрей Александрович (1866–1939), член ЦК партии эсеров, один из редакторов газеты «Воля народа», член Учредительного собрания, с 1919 г. в эмиграции – 267, 293 Ася, см. Гиппиус Анна Николаевна
Ашкинази Шимон (1866–1935), польский историк, дипломат – 455
Базаров [Руднев] Владимир Александрович (1874–1939), публицист, переводчик, экономист, философ, социал-демократ (с 1895 г.), большевик (с 1904 г.), автор в «Новой жизни» (1917) – 164
Бакст Леон (Лев) Самойлович (1866–1924), художник, сценограф, иллюстратор, декоратор «Русских сезонов», с 1910 г. в эмиграции – 48
Балахович [Булак-Балахович] Станислав Никодимович (1883–1940), командир партизанского полка в Гражданскую войну, с 1920-х годов в эмиграции – 445, 447, 455, 456, 460, 463, 464, 470, 482, 485, 487, 490, 491
Балаховская-Пети Софья Григорьевна (1870–1966), жена Э.Пети, литератор, меценат – 125
Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942), поэт-символист, с 1920 г. в эмиграции – 41, 42
Барановская Елена Всеволодовна, двоюродная сестра О.Л.Керенской – 61, 186, 189, 190, 334, 386
Барановский Владимир Львович (1882–1931), генерал-майор, военный и морской министр Временного правительства, с 1918 г. в РККА – 176, 183
Барышников Александр Александрович (1877–1924), инженер, строитель, литератор, депутат IV Государственной Думы, комиссар почт и телеграфа, а позже товарищ министра призрения Временного правительства – 198
Батюшков Федор Дмитриевич (1857–1920), филолог, литературный и театральный критик, публицист – 134, 215, 290, 301
Беклемишев Владимир Александрович (1861–1920), скульптор, ректор Императорской Академии художеств (1906–1911) – 279
Белецкий Степан Петрович (1873–1918), директор Департамента полиции (1912–1915), сенатор, товарищ министра внутренних дел (1915–1916), иркутский генерал-губернатор (1916) – 61, 279, 305, 313, 352
Беляев Михаил Алексеевич (1863–1918), генерал, военный министр – 109, 114
Бенуа Александр Николаевич (1870–1960), художник, историк искусства, один из основателей «Мира искусства», хранитель Картинной галереи Эрмитажа, с 1926 г. в эмиграции – 134, 136, 141, 158, 287, 301
Бердяев Николай Александрович (1874–1948), философ, публицист, с 1922 г. в эмиграции – 96
Блок Александр Александрович (1880–1921) – 49, 61, 67, 104, 153, 223, 266, 286, 301, 344, 369, 370, 372, 376, 403
Богданов [Малиновский] Александр Александрович (1873–1928), философ, экономист, писатель, преподаватель в Коммунистической академии – 152
Богучарский [Яковлев] Василий Яковлевич (1860–1915), публицист – 62, 65
Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955), управделами Совета народных комиссаров (1917–1920) – 96, 137, 139, 274, 289, 317, 396
Брасова Наталья Сергеевна (1880–1952), урожд. Шереметьевская, морганатическая жена вел. кн. Михаила Александровича, с 1918 г. в эмиграции – 344
Брешковская (Брешко-Брешковская) Екатерина Константиновна (1844–1934), одна из лидеров партии эсеров – 179, 180
Брике Анри, знакомый З.Н.Гиппикс – 27, 28, 30
Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926), генерал, командующий армиями Юго-Западного фронта (1916), верховный главнокомандующий (1917) – 112
Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924), поэт – 67, 141, 376
Бугаев Борис Николаевич [Андрей Белый] (1880–1934), поэт – 82, 118, 120, 125, 222, 286
Буланов Николай Георгиевич (1874–1942), инженер, с 1919 г. в эмиграции, председатель Русского общественного комитета в Польше (1930–1939) – 457, 461, 467, 472, 480, 486, 488, 490
Булгаков Валентин Федорович (1886–1966), секретарь Л.Н.Толстого, мемуарист, в эмиграции (1923–1948), хранитель дома-музея Толстого в Ясной Поляне (1948–1966) – 125
Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944), философ, богослов, экономист, с 1922 г. в эмиграции – 63
Бунин Иван Алексеевич (1870–1953), поэт, писатель, в эмиграции – 471
Буренин Виктор Петрович (1841–1926), публицист, литературный и театральный критик, поэт-сатирик – 5
Бурханов, см. Бухарин Н.И.
Бурцев Владимир Львович (1862–1942), публицист, с 1918 г. в эмиграции – 219, 226, 227, 279, 311, 313
Бухарин Николай Иванович (1888–1938), большевик, редактор газеты «Правда» (1918) – 304
Бьюкенен Джордж Уильям (1854–1924), посол Великобритании в России (1910–1918) – 237, 261
Вася, см. Степанов Василий Александрович
Ватсон Марья Валентиновна (1848–1932), урожд. де Роберти де Кастро де ла Серда, писательница – 151
Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867–1941), переводчица – 24
Вендзягольский Кароль (1886–1974), польский социалист, адъютант Ю.К.Пилсудского – 454
Венява (Веньява-Длугошовский) Богу слав (1881–1942), адъютант Ю.К.Пилсудского – 438, 481 Вера Глебовна, см. Успенская
Верховский Александр Иванович (1886–1938), генерал-майор, командующий войсками Московского военного округа, военный министр Временного правительства, с 1921 г. преподавал в Военной академии – 219, 224, 225
Вильгельм II (1859–1941), германский император и прусский король (1888–1918) – 129, 131, 148, 260, 353, 354, 356, 357, 359, 361
Вильсон Томас Вудро (1856–1924), президент США (1913–1921), лауреат Нобелевской премии мира 1919 г. – 97, 100, 155, 356, 370, 371
Владимир [в миру Богоявленский Василий Никифорович] (1848–1918), митрополит Киевский и Галицкий (1915–1918) – 142, 294
Воейков Владимир Николаевич (1868–1947), генерал-майор Свиты, дворцовый комендант (1913–1917), с 1919 г. в эмиграции – 138, 142
Войтинский Владимир Савельевич (1885–1960), экономист, комиссар Северного флота, с 1921 г. в эмиграции – 280
Волковысский Николай Моисеевич (1881 – после 1940), журналист, один из учредителей Дома литераторов в Петрограде, с 1923 г. корреспондент рижской газеты «Сегодня» в Берлине – 115
Володарский Моисей Маркович (1891–1918), большевик, редактор петроградской «Красной газеты» – 279, 342–346, 350
Володя, см. Злобин Владимир Ананьевич
Володя-студент, см. Ратьков-Рожнов В.А.
Вольф-Израэль Евгения Михайловна (1895/1897—1975), актриса – 290
Врангель Петр Николаевич (1878–1928), генерал-лейтенант, один из руководителей Белого движения, с 1920 г. в эмиграции – 438, 447, 459, 460, 463, 464, 471, 486, 490
Вырубова Анна Александровна (1884–1964), урожд. Танеева, фрейлина императрицы Александры Федоровны, с 1920 г. в эмиграции – 152, 367, 432
Гавриил Константинович (1887–1955), вел. кн., с 1918 г. в эмиграции – 357, 358
Галина, см. Флаксерман Галина Константиновна
Гальперн Александр Яковлевич (1879–1956), юрист-консультант Британского посольства в Петербурге, управделами Временного правительства, с 1919 г. в эмиграции – 221, 223
Ганецкий Яков Станиславович (1879–1937), управляющий Народным банком РСФСР (1917) – 166
Ганфман Максим Ипполитович (1873–1934), юрист, публицист – 113, 137, 271, 274, 354
Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906), священник, инициатор шествия 9 января 1905 г. к Зимнему дворцу – 227
Герзони Иосиф Леонтьевич (1872 – после 1917), доктор медицины – 271, 273, 274
Гермоген (1530–1612), патриарх Московский и Всея Руси (1606–1612) – 290
Геронтий [в миру Лакомкин Григорий Иванович] (1872–1951), епископ Петроградский и Тверской, Костромской и Ярославский – 96
Гершельман Карл Львович (1899–1951), литератор, в эмиграции _ 447? 457, 461, 463, 480, 490
Гессен Иосиф Владимирович (1865–1943), один из лидеров партии кадетов, депутат II Государственной Думы, с 1919 г. в эмиграции, издатель «Архива русской революции» – 144
Гзовский Александр Иосифович (1888–1938), публицист, редактор газет «Минский курьер» (1919) и «Свобода» (Варшава, 1920) – 441, 443, 480, 481
Гиммер Николай Николаевич (псевд. Суханов) (1881–1940), экономист, социал-демократ, редактор петроградской газеты «Новая жизнь» (1917–1918) – 123, 127, 129, 132, 134, 136, 143, 144, 146, 152, 242, 243, 279, 287, 296, 305
Гиппиус Анастасия Васильевна (? – 1903), урожд. Степанова, мать З.Н.Гиппиус – 15
Гиппиус Анна Николаевна (1880–1942), сестра З.Н.Гиппиус, врач, религиозный публицист, с 1919 г. в эмиграции – 49, 340
Гиппиус Владимир [Вольдемар] Васильевич (1876–1941), поэт, историк литературы, преподаватель словесности, троюродный брат З.Н.Гиппиус – 333, 363
Гиппиус Наталья Николаевна (1880–1963), сестра З.Н.Гиппиус, скульптор – 318
Гиппиус Татьяна Николаевна (1877–1957), сестра З.Н.Гиппиус, художница – 52
Глёден Вильгельм фон (1856–1931), германский фотохудожник – 27, 30
Головин Федор Александрович (1867–1937), один из лидеров партии кадетов, депутат Государственной Думы II и III созывов, председатель II Думы, комиссар Временного правительства, член Всероссийского комитета помощи голодающим – 136, 141, 157, 158
Гольц Рюдигер фон дер (1865–1946), граф, германский генерал – 407—409
Горемыкин Иван Логгинович (1839–1917), министр внутренних дел (1895–1899), председатель Совета министров, член Государственного совета – 73, 76, 79, 82, 89, 125
Горький Максим (1868–1936) – 62, 65–67, 123, 134, 136, 141, 143, 144, 146, 152, 164, 238, 240–242, 254, 255, 258, 259, 275, 279, 296, 330, 333, 336, 341, 342, 344, 351, 355, 357, 358, 362, 363, 369, 377–380, 382–385, 392–395, 398, 401, 403, 405, 417–419, 424, 429
Гофман Макс (1869–1927), генерал-майор, командующий германскими войсками на Восточном фронте, глава германской делегации во время мирных переговоров в Брест-Литовске – 307
Гржебин Зиновий Исаевич (1877–1929), график, книгоиздатель, с 1921 г. в эмиграции – 125, 136, 139, 141, 254, 318, 351, 383, 392, 394, 405, 408, 412, 417, 418, 431









































