Читать книгу "Дневники"
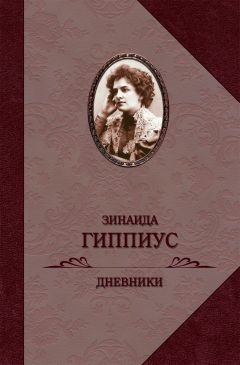
Автор книги: Зинаида Гиппиус
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Я была столь же осторожна, как он, – я избегала «борьбы» физической, но, конечно, он чувствовал же мое весьма несоответствующее состояние. Рядом с большой внутренней горестью у меня был на все это наблюдающий взгляд. И, признаться, меня-таки душил неудержимый смех.
– ??
– Я смеюсь потому, что вы ужасно не умеете обращаться со мною!
– Научите!
Весьма просто было сказать, что он этому обращению (со мной) никогда не научится, но я ничего не говорила, только смеялась… Я надела шляпу и стала уходить, все время что-то говоря, уже не смеясь, полушутливо, полу… нежно? Не знаю. Мы стояли у двери, я все говорила, неизвестно что… «Нет, нет, я завтра приду, завтра…» – «Завтра?» – «Нет, вы не грубый… Что? О, нет…» – «А посмотрите, разве я не тоненький, как вы?» Он распахнул пиджак, я на секунду обняла его за талию. «Я завтра приду… Сегодня я взволнована… завтра…» Я, действительно, была взволнована, но совсем не так, как хотела показать. О завтра почему-то не думала. Точно зналось, что его не будет… Назавтра он был вызван к Пилсудскому, дело решилось. Началась работа – каждую минуту дня. И наши «сидения» прекратились «как будто» сами собою.
Первые дни по приезде Савинкова случилось, что Пилсудский был не в Варшаве, и решительная аудиенция оттянулась. Это не имело значения, так как известно было, приблизительно, чего ожидать от нее конкретно. И конечно «торг» с Пилсудским имел свои трудные, даже унизительные, стороны. Савинков понимал это, волновался, мучился. Видался с некоторыми лицами, но мало, больше сидел у себя в гостинице (куда я приходила к нему для долгих разговоров). Бывал и у нас, но в эти дни чаще тогда, когда никого не было. Говорили о Пилсудском. Дмитрий спрашивал, что он может понять? Мы все знали, что тут очень важен человек, его широта и сила. Он может сделать так (понимая), что станет возможной и общая удача, и наше и Савинкова зависимое положение не будет тяжело. Но может и внутренно «провалиться», понять вполовину, внешнее, хитро и грубо, – и это уж будет гораздо хуже, притом чревато всякими близкими и далекими последствиями.
Вот об этом «провалится или не провалится Пилсудский» мы больше всего и рассуждали.
У нас собрались все прежние, изредка встречались и с Савинковым.
Не знаю как, но чувствовалось, что приезд Савинкова в Польшу – окончательный, что плохо или хорошо обернется дело – в Париж он не вернется, и вообще у него везде сожженные корабли. Кто стоит за ним – мы не знали. Впрочем, это нам тогда было все равно. Савинков говорил о двух генералах, из которых одного ждал на днях – Глазенапа.
День аудиенции наступил как-то внезапно. Помню Савинкова, приехавшего к нам прямо из Бельведера.
Мы были одни, с Димой. Бросились, конечно, навстречу: «Ну что?» Савинков еще не успел дойти до угла, где у меня стояли кресла и диван, первое его слово было: «По-моему, он провалился».
Т.е. внутренно провалился. А с виду, внешне, все обстояло как бы наилучшим образом: решено было формирование русского отряда на польские средства. Пока – не официально объявленное, под прикрытием «Эвакуационного комитета». Председатель – Савинков.
– Вам, – сказал Савинков очень серьезно, обращаясь к Диме, – я предлагаю быть моим ближайшим помощником и заместителем, товарищем председателя этого комитета.
– Не смею отказаться, – ответил Дима.
Как ни были мы в этот миг все одинаково взволнованы и как бы все решительно вместе — мне почему-то показалось вот это мгновенье и этот Димин ответ – какой-то чертой отделяющей… что от чего? Кого от кого?
С этого дня все завертелось. Пристегнули Буланова, Гершельмана… Других всяких. Предполагался «отдел пропаганды», в котором я должна была играть роль. Тут не сразу стала образовываться газета. Дима вызвал из Минска этого хама – Гзовского. Родичев подходил несколько сбоку, но тоже подходил.
Глазенапа Савинков привел тотчас же к нам с Дмитрием. Бледный, одутловатый, с гладкими черными волосами. Одутловатость какая-то у него самодовольная. Савинков его точно не совсем понимал (он вообще мало видит людей) и беспокоился. Но другого не было.
К этому времени относится моя запись в этой книге (первая) от 24 июня. Надо сказать вот что: конкретные последствия, первые, начатой «работы» Савинкова были таковы, что мы почти перестали видеться. Если бы Дима не перешел на чисто военную работу с Савинковым и Глазенапом, а со мной и Дмитрием стал бы, в этом же деле, устраивать газету, пропаганду и т. д., – это было бы одно; но у Савинкова не было ни одного серьезного человека, которому он бы доверял, на которого мог бы опереться, и Савинков схватился за Диму. При совершенной закулисности и притом спешности этой громадной сложной работы формирования армии, работы нам с Дмитрием неизвестной и остающейся неизвестной, – мы и оказались сразу как бы в пустоте, впрочем, ее не чувствуя и не сознавая, – разве предчувствуя. Разумных возражений нельзя было и представить: им – Савинкову и Диме – дохнуть некогда, они и с польскими властями, они и офицеров принимают, они и с Глазенапом заседают, когда же кому же еще бегать к нам – докладывать, что ли? Предполагалось, что я сама по себе, одна, только с деньгами, буду устраивать какой-то «отдел пропаганды» с Володей в виде моего личного секретаря.
Я, впрочем, ничего не боялась и была готова на все, но решительно не могла ступить. Да и некуда было мне ступить. Дима приходил иногда, измученный, раздраженный. Дали мне в помощники Лесновского, этого плюнь-киселя. А хуже всего, что чуть началась газета – мне в этой «Свободе» свободы не дали. Гзовский сразу начал хамить, и пошла чепуха, неизвестно, кто был хозяином, со всем нужно было обращаться к Савинкову, и ничего не понять. Являлся Дима – и опять не разберешь, какая «коллегия» распоряжается в газете. Гзовский ни с кем, кроме Савинкова, разговаривать не желал, от меня только требовал материала! Материала! А иначе грозил свою дрянь вставлять.
Все это было глупо. Может быть, и моя внешняя беспомощность и непривычка «организовывать» тут виною, но что я могла «организовать», когда, при отсутствии помощи, у меня не было и полномочий, никакого маленького дела с моим хозяйством и собственной хозяйственностью.
Но я забегаю вперед. И меньше всего мне интересно жаловаться или оправдываться. Было как было. Силой вещей.
Тут свидание Дмитрия с Пилсудским. Его статья «Иосиф Пилсудский». Знакомство с адъютантом Пилсудского – Венявой. Наши старанья: снять крышку с дела Савинкова, т. е. с формирования армии, и добиться открытого объявления со стороны польского правительства, что Польша воюет не с Россией, а с большевиками.
Тут Дмитрий очень постарался, и это вышло, и даже очень хорошо и пышно. У меня записана дата, когда это было.
Глазенап бывал у нас, без Савинкова, и как-то весьма откровенно беседовал с Дмитрием. Мало нам нравился, главное же – несомненно, что Глазенап ненавидит Польшу, терпеть не может Савинкова и весьма не рад быть у него под началом. Савинков злится, но откуда взять генерала?
Савинкова я с Дмитрием видим все реже и реже.
Подхожу к нашему ужину в Саксонском саду, в июле.
Да, собственно, все разыгралось в течение июля, т. е. наша работа с Савинковым, и начало нашего разрыва было уже положено.
Внешняя последовательность такая, если начать со свидания Савинкова с Пилсудским, когда было решено формирование русской армии: Глазенап уже был. Создание «эвакуационного» комитета. Дмитрий видится с Пилсудским. Официальное объявление, что Польша воюет только с большевиками, а не с Россией. Наше воззвание (втроем) к русской эмиграции и к русским людям, объясняющее войну Польши. Начало газеты «Свобода». Появление Балаховича. Наступление большевиков. Мольбы поляков о мире (поддержанные Европой). Наш отъезд в Данцинг 31 июля.
Внутренно же это развивалось следующим образом. Как я уже писала, – работа Савинкова, в которую плотным образом, сразу, был вовлечен Дима, по своему характеру, чисто военному и конспиративному, оказывалась такого рода, что я и Дмитрий фактически остались сбоку. Т. е. мы, не участвуя в военной работе (естественно), просто реже стали видаться с ними, и никакой общественной работы не было, все наши отношения в Варшаве сделались как-то ни к чему: ведь главное дело было не официально, и Пилсудский ни за что не хотел его сделать главным. С самого начала Савинков держал себя конспиративно, в польском обществе не показывался, даже у нас при других не бывал.
Не знаю, как я могла, при этих условиях, без прямого контакта и дельных помощников, поставить «отдел пропаганды», который мне будто бы был поручен. Но не спорю, может быть, и могла (не имея власти даже в газете), – но факт тот, что пошла везде великая чепуха… и первые трения с Савинковым. Они начались нелепо. Непонятно. (Или так всегда бывает?)
Он как-то вырвался, и мы условились пойти вместе, втроем, обедать. Так как стояла жара, то пошли просто в Саксонский сад, напротив, в открытый ресторан. Невозможно уследить и нельзя передать как, – но разговор принял чуть не сразу самый неприятный оттенок. Могу только утвердить, что ни я, ни Дмитрий не были в этом повинны, и нас это изумило и даже поразило. Дмитрий самым благодушным образом, в тоне старых наших, близкодружеских, отношений, начал говорить об общем – не о борьбе с большевиками, конечно, но об идеях, о работе, о смысле ее… может быть, и сказал что-нибудь о слишком узковоенном характере дела, благодаря которому мы не можем иметь более тесного контакта. Вдруг Савинков сделался аррогантен, стал говорить, что это «экзамен» ему, что ему теперь не до разговоров, что он работает – он не привык отвечать на чужие сомнения и держать экзамены ему некогда. Каким-то образом, уже к полному нашему изумлению, заговорил о Володе и стал его неистово ругать, зачем он не пошел к нему записываться в армию. «Ему надо бы мгновенно прийти, умолять меня, а он – что? Он, сукин сын, вишни ест! И не пошелохнулся! Стихи пишет? Да черт ли в них, когда перед ним прямое дело!»
Мы, конечно, Володю не защищали, но с непривычки не сумели сразу замолчать, а пытались еще спорить. Я привыкла за годы Савинкова нисколько не бояться и очень в него верить. Мне казалось, что это случайное что-то, а ведь он «все поймет всегда». (Я забыла «перевернутые страницы». Да ведь как забыла!)
Удивленный Дмитрий вечером не знал, что и сказать. На другой день пришел Дима и говорит: «Борис мне рыдал в жилет, что вы его экзамену подвергали и что он экзамена не выдержал». Странно было и с Димой спорить.
После этого было как-то свидание днем, у нас. Не помню точно глупого разговора, но, кажется, был момент, когда я рассердилась (все по старой моей вере) и сказала: «Это вздор, сколько я ни думаю о вас, но Россия для меня первая; и если я верю, что вы будете нечто для России, может быть, – но я имею право смотреть, судить и узнавать вас». Что-то в этом роде. На это он сказал: «Как вы резки», – но сказал уже тише.
Комнатные столкновения ничего пока не меняли. Я продолжала работать и в газете, и в конторе – все, насколько можно было и умела. Еще внутреннее – меня заботил Дмитрий, который к ежедневной работе уже совсем не приспособлен, к такой в особенности, чувствовал свою растущую бесполезность в данных условиях и очень томился поэтому на нашем пыльном припеке – жара стояла неистовая. Так как я хотела оставаться с ними до последней возможности, терпя все и все-таки стараясь дать все силы, – то мне с утра приходилось мучиться, придумывать, как успокоить Дмитрия, что ему обещать, только бы он не стремился куда-нибудь прочь. Утром возилась с редактированьем рукописей, днем ехала с Дмитрием в Лазейки, чтоб он там подышал, вечером ехала часто в редакцию – и бесполезно, – в промежутке писала статьи для «Свободы».
Польские дела шли очень серьезно. Была объявлена еще одна мобилизация. Помню с нашего балкона мальчиков с песнями, новобранцев, и было это хорошо, и вся душа была с ними, – ведь они идут не с Россией бороться, а за «свою и нашу вольность».
Я не помню, когда в эту марсельезу стал ввиваться подленький мотивчик, «Мой милый Августин», – мотивчик о перемирии и мире с большевиками. Да если б и помнила всю польскую ситуацию тогда, всю их партийную борьбу и подталкивание Европы, – не стала бы писать. Не стоит. Факт, что мотивчик день ото дня рос и креп. Поляки наши, конечно, кричали, что ничего не будет, – да ни за что в жизни! И Пилсудский против мира, да и как можно!
Не то было среди крайних правых и крайне левых…
Я забыла сказать, что приехала жена Деренталя. Во время наших свиданий с Савинковым в Брюле он как-то мне сказал: «Деренталь просил у меня позволения выписать жену. Я сначала сказал – как хотите, это ваше семейное дело. Но потом вспомнил, что ведь она может быть полезна. Она будет составлять телеграммы во Францию, она владеет языком, как француженка».
К этому времени Савинков перешел в Брюле в другой номер, где в первой комнате была контора, а крошечная за конторой – его. Свою же комнату (где мы «заседали») он отдал ей. Сделав нам визит – она нас пригласила к себе чай пить. Было любопытно, как преобразилась комната: розовые капоты, пахнет пудрой, много цветов. Она – ничего себе, вид крупной еврейки, яркая, с накрашенными губами, кокоточная, сделана для оголения, картавит. Черные волосы; на грубый вкус красивая. Деренталь говорил Диме: «Моя жена очень умеет с Борисом Викторовичем обращаться, если что-нибудь – так надо к ней».
Кстати: насчет Деренталя я сначала не все понимала, до одного факта. Раз, еще в самом начале июля, в начале «дела» – пришел Деренталь и стал прибедняться: «Вот я теперь еду в Латвию и в Эстонию для тамошнего формирования, Борис Викторович посылает. И непременно завтра. На послезавтра у меня есть билет, но Борис Викторович требует завтра, и я должен в багажном вагоне…»
Вечером я видела Савинкова и между прочим, чуть не шутя, сказала ему, почему это он так жесток и не позволяет Деренталю остаться лишний день? И (это было первое мое изумление) вдруг Савинков осатанел: «Как! Деренталь смеет рассуждать?! Смеет жаловаться?! Да он на буфере поедет, если ему приказывают!!!» И т. д.
Тут я поняла окончательно и бесповоротно, что Деренталь – собака.
И что Савинкову нужны только собаки. Но это последнее я поняла (сказала себе) не тогда, а вдолге.
Я пишу все эти мелочи для характеристики «человека». От громадности драм «людей» – не уменьшается важность драмы «человека». (Никто этого не понимает. А это связано.)
Дима тогда переехал в Брюль. Мы с Брюлем иногда днями не сообщались. Дима иногда приходил в сумерки, думал на моем диване. Я говорила ему насчет Балаховича: «Пошли какие-то слухи, что Балахович со своим отрядом чинит какие-то препятствия савинковскому» (Балахович числился на польской службе). «Что же, он с вами не хочет разговаривать?» – спрашиваю, помня нашу весеннюю встречу и соображая, что почему бы и Балаховичу, при таких обстоятельствах, не пригодиться?
– Вот еще! – вспылил Дима. – Это мы с ним не желаем разговаривать!
Ну, я промолчала. Глазенап между тем явно вздувался и пакостил. Мы обедали в пансионе, где жил он. Дмитрий часто с ним говорил. Предупреждал Савинкова, что ничего доброго из него не будет. Савинков уверял, что пока – надо терпеть, без него нельзя. Ну, так длилось. Савинков заезжал все реже. Обыкновенно с этой самой Эми. (Деренталь уехал гораздо раньше ее приезда.) В Брюле жил и Буланов – он был на должности казначея и хранил польские миллионы у себя под кроватью.
Тут еще надо сказать о Врангеле…
Впрочем, что говорить о Врангеле: мы в него по некоторым доходящим до нас фактам и его «воззваниям» не верили, особенно же печально было то, что он был против всякого дела с Польшей, из Польши, смотрел на всех и все здесь – как на врагов. Быть может, он и не ошибался даже в поляках; но это была тактическая ошибка, и я утверждаю, что у Врангеля было бы больше шансов на успех, если бы он попытался заключить – хоть не союз, хоть в блок войти с окружными государствами. В тот момент фактически это было возможно, но на это не хватило ни выдержки, ни разума.
Отношение же Савинкова к Врангелю было какое-то непонятное. Да, по правде сказать, Савинков мне все менее и менее становился понятным, – не говорю менее приятен, ибо это могло быть моим личным делом и не важным, – но именно непонятен; в памяти у меня даже всплыло старое туманное пятно, оставшееся для меня непонятным в Савинкове во время корниловского дела. Почему он, тогда, после всей его возни с Корниловым против Керенского, после всего, что было на наших глазах, чуть не в нашей квартире, и в линии очень определенной, – вдруг сделался на три дня «усмирителем корниловского бунта» и лишь потом был Керенским изгнан? Этого нам он объяснить тогда не сумел, но сумел затереть вопрос до забвения.
Теперь я, сама, впрочем, не отдавая себе в этом отчета, – вспомнила.
Да, работать с ними вместе – нельзя, нам по крайней мере. Просто фактически невозможно. Объективно – я перестаю верить в успешность дела именно с Савинковым, благодаря многим его свойствам, которые прежде ускользали из моего поля зрения. Одно из них, наиболее еще безобидное, это – что он людей не различает, никого не видит. Не могу же я вообразить слепого Наполеона! А претензии его безграничны при этом.
И, однако, я решаю, со своей стороны, сделать все и не отходить до конца, до последней возможности. Ведь – Дима! Не то что я бы осталась ради Димы в глупом и вредном деле вредного или ненужного человека; но мне верилось, что мы уйдем вместе с Димой, если именно так выяснится, и выяснить поможет мне Дима, а я – ему.
Когда все стало невозможным?
Уже был Балахович. Сначала он звонил мне, жаловался на Брюль, я устраивала свидания (тоже по телефону), и внезапно оказалось, что Балахович уж с ними. Ну, ладно, все хорошо.
Но мы очутились в полной пустоте и безделии. Отчасти благодаря событиям: большевики полезли в наступление. Наш отряд был в полной неготовности и, насколько я понимала, из-за внутренних дрязг, чепухи и общего неумения. Закулисную сторону я знала мало, но все-таки видела, что Савинков организатор плохенький и сам по себе, а тут еще и личные его претензии совершенно людей не собирают, а отталкивают.
Дмитрий томился: «Знаешь, уедем хоть недели через две, ну на десять дней хотя бы… Ведь нам буквально нечего делать!»
Пришел как-то Дима. Дмитрий к нему: «Знаешь, недели через две…» Дима прервал его: «Не через две, а теперь уезжайте, тут действительно пошло такое, что лучше уехать, вернетесь, когда выяснится. Только не уезжайте из Польши», – прибавил он вдруг.
И мы уехали в Данциг.
Это было 31 июля. В этой книжке есть об этом запись. О Данциге и Цоппоте. Как в Данциге немцы радовались ложному известию о победе большевиков, о взятии Варшавы.
Поляки все время посылали просить о мире. Не знаю, что случилось (почему и как было это пресловутое «чудо под Вислой»), но Варшаву не сдали, и после этого самого «чуда» большевики сделались сговорчивее, перемирие вскоре (не без скандалов и издевательств, впрочем) было подписано в Минске. Быть может, я путаю числа, но во всяком случае – все уже как-то замирились, о взятии Варшавы речи не было, и, несомненно, все шло к миру. Мы решили вернуться в Варшаву, посмотреть… Была ли у меня надежда? На что? Конечно нет. Буквально ни на что больше, и даже не было надежды выцарапать Диму из ямы. Но я хотела еще и опять добросовестно сделать и увидеть все.
В наше отсутствие – мы знали от Буланова – Дима уехал в наши лагери, к «неготовым отрядам». Я никогда не знала и не узнавала, что там делалось, но факт, что были там чепуха и безобразие. Глазенап уже исчез, да и вообще какие-то генералы прежние, почти все, исчезли, появились какие-то новые (вроде молодого Пермикина), Дима ругался в тонах Савинкова (где был Савинков – я не знаю), а Деренталь жестоко пьянствовал.
Но я забегаю вперед.
Мы вернулись в начале сентября. Прямо на Хмельную, где у Димы не то редакция, не то какие-то заседания…
Ну, с муками устроились в невероятно грязной «Виктории», такой грязной, что даже написать – сам не поверишь. Большая комната, две кровати за ширмами, во втором этаже, дверь на балкон (старая, в щелях, и на полу стояла асфальтовая лужа, ее потом вычерпывали. А затем нас ночью через балкон обокрали).
Почти не стоит в подробностях описывать эти наши последние полтора месяца Варшавы. Просто скажу краткую суть. Ведь уже все было кончено.
Я с величайшей строгостью задала себе вопрос относительно Савинкова. Я не хотела, хотя бы только перед собой, даже втайне, ни тени чего-нибудь необъективного. Я должна была быть справедлива. Ничто мое пусть не ввивается в мой суд. И если в чем виновата я – не скрою от себя.
Ведь разве трудно поддаться таким чувствам: «мы» оказались не у дела; и главное, главное – разделил нас с Димой, совершенно взяв его под свое влияние; значит – Савинков нехорош… Вот этого-то я и не хотела. Вот такого-то суда над Савинковым и не принимала.
Я желала и добивалась полной справедливости даже не как к Савинкову-человеку в первом счете (это само собой), но в вопросе пригодности его в данный момент для дела России.
И я видела, что он для дела ни в данный момент, ни вообще не пригоден.
Лично (т. е. помня о Диме, обо мне, о нас) у меня могло бы быть, с этим выводом, злорадство; но у меня было горе и ужас: здесь другого-то, пригодного, не имелось нигде! Ведь на него у нас была главная надежда, и его приезд я считала величайшей нашей удачей!
Да, горе, ужас, а из личного – только стыд, пожалуй, стыд, что я могла так обманываться в человеке. Стыднее, чем о Керенском… Этот стыд еще и не позволял мне окончательно и открыто сказать себе то, что оказалось впоследствии, скоро: Савинков – пустота. И я ведь своими руками ввергла Диму в эту обманную пустоту…
Но вернемся к рассказу.
Я решила дотерпеть и «досмотреть» все до конца: конец уж ясно, по всей линии, для нас намечался – отъезд. Я ничего не могла противопоставить Дмитриеву стремлению уехать в Париж, это стремление было верное.
Дима делал попытки привязать – меня по крайней мере – к каким-то их делам; выдумал еще – для нас – особый частный Комитет и совещания; но и тут писались «официальные» бумаги на бланках (!), причем Дима говорил: «Борис это любит…» На генеральных совещаниях мы не присутствовали. Собрания с поляками были теперь иные; наши прежние отношения как бы провалились; я помню одно собрание, уже после перемирия, у какого-то левого министра (чуть ли не в отставке), где «докладывал» Савинков и были мы приглашены. Это собрание, а главное, довольно бесцельное, меня, однако, поранило, такое все было иное, а главное, изранили речи Савинкова. Я их приняла как «новую тактику», но для меня непонятную, противную и целей которой я не видела: он, Савинков, говорил о мире Польши с большевиками, восхвалял этот мир «успевшей страны» и т. д. Дмитрий не выдержал и стал говорить то, что мы всегда говорили и на чем продолжали стоять, что продолжали думать. Савинков был очень недоволен и жаловался потом Диме, что Дмитрий возражает ему… Но я, не видя «мудрости» в тактике Савинкова, нисколько Дмитрия не осуждала. Да вряд ли и поляки верили, что можно так искренно перевернуться в несколько недель.
Однако и это ему приблизило развязку. Я абсолютно не могла понять, что еще делать в Польше после мира ее и признания большевиков. Ведь прежде всего выкинут этот несчастный русский отряд, готовившийся – и не приготовившийся, несмотря на ухлопанные деньги.
Ничего не понимая, я уже сама отдалилась от всех стараний проникнуть в их «планы». Люди были все новые, старые, вроде Буланова, раскусили Савинкова, приходили к нам жаловаться, на него и на Диму.
Гершельман уехал к Врангелю. Дима принимал замашки Савинкова, с величайшей заносчивостью разбрасывая всех вокруг: «Мы этих генералов разогнали, черт их подери…» Генералы тоже давно новые. Деренталь привел какого-то Палена, вился молодой Пермикин, а главное, царствовал Балахович с братом. Савинков разыгрывал главнокомандующего (чем?), и будто бы очень важно было примирить Пермикина и Балаховича, которые будто бы соперничали из-за того, кого первым назначит Савинков. Так как я продолжала ничего себе реально не уяснять, то автоматически делала что придется: говорила с Пермикиным, когда он зачем-то являлся к нам, говорили мы и с этим, часто пьяным, ужасным ребенком, Балаховичем, который, при данном обороте обстоятельств, был, по-моему, ни на что серьезное не пригоден, а при его самодурстве Савинкову подчиняться совсем был не склонен. Впрочем, о чем говорить с ним? Дитя природы, искренний разбойник, его любопытно слушать, а сам-то он что понимает?
Вечные ужины, питье… На одном ужине я сидела между Пермикиным и Балаховичем. Прямо передо мной – оголенная Деренталиха в кружевной шляпе… Как наблюдение – интересно, пожалуй, но мне было не до беллетристики. Ролью Деренталихи я глубоко не интересовалась, почти не видела ее.
Савинков иногда приходил еще к нам, с Димой, в «Викторию». Когда мы уже решили уезжать, даже билеты взяли, он как-то сказал: «Да, я прежде не хотел, чтобы вы уезжали из Польши, но теперь я нахожу, что вы можете быть полезнее в Париже, и я говорю теперь: мДа, уезжайте"».
Хотя мы все равно уехали бы, если б он этого и не говорил, и хотя я нисколько не обманывала себя, что мы едем – в бездействие, мы промолчали. Ведь и тут бездействие, только еще глупое и вредное. Этот «нелегальный» поход Савинкова в отряде Балаховичей и с Деренталихой в мужском костюме (она озабочена была заказываньем сапог, когда приходила к нам прощаться) – ведь это же несерьезно!
Савинков раз, у нас в «Виктории», прямо сказал: «Мне не нужны помощники, мне нужны исполнители!» И я опять тогда подумала о словах Дмитрия, когда он вдруг открыл: «Знаешь, я убежден, что Савинков просто не умен!» Это было на темной варшавской улице, мы просидели втроем в каком-то пустынном польском кабачке, пили мед. И Савинков, действительно, городил жалкую и непрактичную чепуху.
Почему-то Дима внезапно был командирован в Париж. Мы не узнавали, было уже неинтересно. Явная чепуха, ибо какие оставались у Савинкова связи в Париже? Я сильно подозревать стала, что он там сжег корабли, если и были.
«Они» и ушли в свой поход 17 октября, а мы уехали 20-го. Дима вернулся за два часа до нашего отъезда.









































