Читать книгу "Дневники"
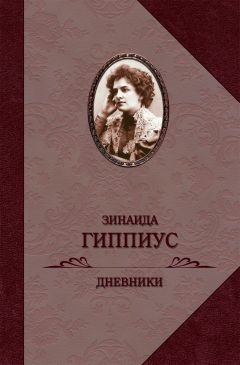
Автор книги: Зинаида Гиппиус
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Но и не воевать, сидеть дома, здесь, не легче. Даже когда топим печку, выше 7° не подымается. Мерзнут руки, все, за что ни возьмешься – ледяное. Спим почти одетые. Окна к утру покрываются ледяной коркой.
Я давно поняла, что холод тяжелее голода. И все-таки, опять повторю, голод и холод вместе – ничто перед внутренним, душевным, духовным смертным страданием нашим – единственным.
Запишу несколько цен данного момента.
Могу с точностью предсказать, насколько подымется цена всякой вещи через полгода. Будет ровно втрое, – если эта вещь еще будет.
Ведь отчего сделалось бессмысленным писать дневник? Потому что уж с давних пор (год, может быть?) ничего нового сделаться здесь не может: все сделалось до конца, переверт наизнанку произошел. Никакого качественного изменения, пока сидят большевики, – сиди они хоть 10 лет; предстоят лишь количественные перемены, а так как есть точная наука – геометрия, и так как мы имели время наблюдать способы ее приложения, то нет уже никакой надобности и сидеть тут в 20-м, 21-м году, чтобы точно знать в 20-м году положение в России. Высчитать, когда, во сколько раз будет больше смертей, например, – ничего не стоит, зная цифры данного дня.
Эй, Бергсон! Мы вышли из твоей философии! Кончена непредвиденность! Остался «учет» – по Ленину.
Итак – вот сегодняшние цены, зима 19–20 г., декабрь (через полгода: втрое, кое-что вчетверо, большая часть – ни за какие деньги).
Фунт хлеба – 400 р., масла – 2300 р., мяса – 610–650 р., соль – 380 р., коробка спичек – 80 р., свеча – 500 р., мука – 600 р. (мука и хлеб – черные и почти суррогат). Остальное соответственно.
А в «Доме искусств» – открытие. Был чай, пирожные (всего по сто рублей!), кончилось танцами: Оцуп провальсировал с мадам Ходасевич.
О спекулянтах нашего дома: жирный Алябьев, попавшийся на спирту (8 миллионов), был на краю смерти: спасся выдачей всех на месте расстрела. Теперь собирается «поднимать» к себе икону Скорбящей, молебен служить.
Другой, Яремич, пока расцветает: сидит уже в барской квартире, по нашей лестнице, обставил себя нашим пианино, часами И.И., чьим-то граммофоном, который непрерывно заводит, – и покровительственно «принимает» Диму.
Третий, первый спекулянт, ступенькой повыше, – Гржебин, – обставил себя награбленным у писателей. Тоже принимает «покровительственно», но старается изо всех сил, хотя и безуспешно, сохранить «оттенок благородства».
Люди ли это?
Я уже предпочитаю Г. из Смольного, из Военной секции. Он очень интересен. Когда-нибудь напишу о нем подробно. Важная шишка. Русский. Выслужился из курьеров. Очень молод. Знает Достоевского наизусть. Любит Дмитрия. Почти обиделся, когда я спросила, знает ли он меня… Все понял, подписывая нам командировку, хотя «слово» между нами не было сказано…
Не коммунист, т. е. не записан в партию, потому что – «я верующий. Христианин». При записи в ком. партию нужно, оказывается, какое-то отречение…
О Г. я напишу впоследствии подробнее, и напишу с удовольствием… А теперь коснусь, кстати, того, чего я намеренно здесь еще не касалась.
Церкви.
Очень много можно тут сказать. Но я ограничусь самыми краткими словами и фактами. И эти-то факты упоминать тяжело.
Следует, говоря о данном моменте, разделить так:
1) Православие, Церковь – иерархия.
2) Народ.
3) Тактика большевиков.
Летнее письмо патриарха, унизительное и заискивающее, к «Советской власти», «всегда бережно относившейся» и т. д. Большевики с упоением напечатали его во всех газетах, но не преминули снабдить своими победно-ликующими комментариями. На униженную просьбу «не расстреливать священников» ответили просто ляганьем. С другой стороны – здешний митрополит, при той же, лишь более скрытой политике, ходит пешком, одемократился и благосклонен к интеллигентному кружку некоторых священников вроде А.В. и Е., пустившихся в новшества и делающихся все популярнее. Св. А.В. (мы его знали еще студентом) склоняется к кликушеству (говорю резко) – им поработилась даже Анна Вырубова, знаменитая «дочь Гришки Распутина» когда-то. Измученная интеллигенция влечется туда же.
Священники простецкие, не мудрствующие, – самые героичные. Их-то и расстреливают. Это и будут настоящие православные мученики.
Народ? Церкви полны молящихся. Народ дошел до предела отчаяния, отчаяние это слепое и слепо гонит его в церковь. Народ русский никогда не был православным. Никогда не был религиозным сознательно. Он имел данную форму христианства, но о христианстве никогда не думал. Этим объясняется та легкость, с которой каждый, если ему как бы предлагается выход из отчаянного положения – залгаться в коммунисты, – тотчас сбрасывает всякую «религиозность». Отрекается, не почесавшись. (Даже Г. удивлялся.) Невинность ребенка или идиота. Женщины в особенности. Внешние традиции у многих под шумок хранятся. Так – любят венчаться в церкви. Не жалеют на это денег и очень хитрят. Ну, а кому все равно нет выбора, все равно отчаяние и некуда идти, – идут в церковь. Кланяются, крестятся – молятся, в самом деле молятся, ибо Кому-то, Кого не знают, несут душу, полную темного отчаяния.
Большевики сначала грубо наперли на Церковь (истории с мощами), но теперь, кажется, изменяют тактику. Будут только презирать, чтобы ко времени, если понадобится, и Церковь использовать. Некоторые, поумнее, говорят, что потребность «церковности» будет и должна удовлетворяться «их церковью» – коммунизмом. Это даже по-чертовски глубоко!
Написала – и как-то мне стало противно. Почти невыносимо говорить об этом! Страшно.
23 (10) декабря
Вот что надо не забыть. Вот чего не знают те, которые не сидят с нами, гуляют на свободе. Русские ли они? Я склонна думать, что они перестали быть русскими. Русские только мы, только в России.
Надо не забывать этих глаз, полных горечи и негодования, этих тихих слов, которыми мы обменивались здесь слишком часто:
– Опять!
– Опять?
– Да. Все то же. Опять объявили (белые, те или другие, очередная надежда на освобождение России, словом) – то же самое. Не признают «независимости» (чьей-нибудь). Опять большевики ликуют. Что ж, они правы. Победили.
– Да, может, неправда? Да не могут же «они» держаться за старое безумие? Ведь это же приговор собственному делу?
– Вот подите! Сумасшедшие. Слепые. Не только Россию глубже в землю зарывают – и себя хоронят. Что делать?
Но мы знали, что нам нечего делать. Даже сказать мы ничего не могли. А если б и могли?
Сказать – не поверят.
Кричать – не поймут.
И близится черед.
Свершается суд…
С неумолимой, роковой однообразностью каждая русская сила, собиравшаяся на большевиков, начинала с того, что кого-нибудь «не признавала»: даже Финляндию (фатальная архиглупость!), уж не говоря о Латвиях, Эстониях и т. п.
Мы содрогались, мы хохотали истерическим хохотом отчаяния – а они со всей преступной тупостью (честной, может быть) объявляли, что не позволят «расчленять Россию»… Россию, которой сейчас нет
Это, во-первых, косвенное признание большевиков и России большевистской. Ведь они одни хотят своей «неделимой» России, они одни ею сейчас владеют и действенно эту неделимость поддерживают. Все ими провозглашенные «независимости» ихния, «советские», вроде Украйны с Раковским, – конечно вздор, куры смеются. Они «упустили» как Финляндию, так и все прибалтийские кусочки. И не взяв силой, подходят с «мирами»: им «хоть мытьем, хоть катаньем», – все равно. Увернувшиеся маленькие государства, влюбленные в «независимость», идут на «мир» – что же им делать? Хитрое «мирное» завоевание когда-то еще будет, – они глаза закрывают. Может, и не сейчас, а пока – «независимость». Если же, не дай Бог, белые свергнут большевиков, – каюк: ведь заранее объявляют, что никакой «независимости».
Все соседи, большие и маленькие, при таком положении, не могут содействовать белым, должны, естественно, стоять за большевиков, сегодня.
Это практический результат. Но сам внутренний корень таких «непризнаний» стар, глуп, гнил. Не говоря даже о Польше и Финляндии (еще бы!) – но вот эти все Литвы, Латвии и т. д., «прибалтийские пуговицы», как я их называю без всякого презренья, – да почему им, в конце концов, не быть самостоятельными? Если они хотят и могут, – какое «патриотическое» русское чувство должно, смеет против этого протестовать? Царское чувство – пожалуй, чувство людей с седой и лысой душой, все равно близкой к гробу.
Вот эти седые и лысые души губят Россию, как и себя. Не раз, не два – все время!
А мы, отсюда, мы, знающие и уж конечно не менее русские, чем все это, по-своему честное, старье, – мы не только не боимся никакого «расчленения» царской России: мы хотим этого расчленения, мы верим, что будущая Россия, если станет «собираться», то на иных принципах и в тех пределах, в каких позволит новый принцип.
Это будущее. А сейчас, кроме того, как не радоваться каждому клочку земли, увернувшемуся из-под власти большевиков? Да если б Смоленская губерния объявила себя независимой, свергла комиссаров и пожелала самоопределиться, – да пусть, с Богом, самоопределяется, управляется как может, – только бы не большевиками! Почему «не патриотично» признавать ее? Требовать, чтобы не смела освобождаться от большевиков? Этот дикий «патриотизм», в сущности, ставит знак равенства между Большевизией и Россией (в их понятии). «Не признаем частей, отделившихся от России!» – читай: от большевиков. Безумие. Бесчеловечность.
Не могу больше писать. Не знаю, когда буду писать. Не знаю, что еще… Потом?
А сегодня опять с «человечиной». Это ядение человечины случается все чаще. Китайцы не дремлют. Притом выскакивают наружу, да еще в наше поле зрения, только отдельные случаи. Сколько их скрытых…
Я стараюсь скрепить душу железными полосами. Собрать в один комок. Не пишу больше ни о чем близком, маленьком, страшном. Оттого только об общем. Молчание. Молчание…
Это последняя запись «Серого блокнота». На другой день, в среду, 24 декабря 1919 года, совершился наш отъезд из Петербурга с командировками на Г., а затем, в январе 1920 г., – переход польской границы.
Мучительные усилия и хлопоты, благодаря которым мог осуществиться наш отъезд из Петербурга, затем побег – не отражены в записи последних дней по причине весьма понятной. Хотя маленький блокнот не выходил из кармана моей меховой шубки, а шубку я носила, почти не снимая, – писать даже и то, что я писала, было безумием, при вечных повальных обысках. У меня физически не подымалась рука упомянуть о нашей последней надежде – надежде на освобождение.
Дневник в Совдепии – не мемуары, не воспоминания «после», а именно «дневник», – вещь исключительная; не думаю, чтобы их много нашлось в России, после освобождения. Разве комиссарские. Знаю человека, который, для писания дневника, прибегал к неслыханным ухищрениям, их невозможно рассказать; и не уверена все-таки, сохраняется ли он до сих пор.
Впрочем, – нужно ли жалеть? Не сделалась ли жизнь такою, что «дневник», всякий, – дневник мертвеца, лежащего в могиле?
Я знаю: и теперь, за эти месяцы, в могиле Петербурга ничто не изменилось. Только процесс разложения идет дальше, своим определенным, естественным, известным всем, путем.
Первая перемена произойдет лишь вслед за единственным событием, которого ждет вся Россия, – свержением большевиков.
Когда?
Не знаю времен и сроков. Боюсь слов. Боюсь предсказаний, но душа моя все-таки на этот страшный вопрос – «когда?» – отвечает: скоро.
3 октября 1920
Варшава
Варшавский дневник (1920–1921)
24 июня 1920, четверг, Варшава, Крулевска, 29-а
Завтра Дмитрий едет в Бельведер (военная ставка), к Пилсудскому. Если это свидание будет даже пятиминутным и Дмитрий ничего не успеет ему сказать, – все равно, будет некий символ. Факт.
Был Борис, он окунулся в работу. Говорит, что хотел бы растроиться и расчетвериться – как дело началось – сейчас же нет людей…
Завтра первое заседание так называемого «эвакуационного» комитета, прикрывающего формирование русской армии в Брест-Литовске. Председателем – Дима.
Прикомандированные к делу Соснковским 3 польских офицера – очень хорошие и дельные люди.
Тайный комитет, из 3 лиц, Бориса, Димы и Глазенапа, уже заседал вчера. Глазенап – дубина (это я видела с первого раза), но приходится Борису взваливать этого осла на спину. Лишь бы он не «воображал» и подчинился.
Я пишу между двумя навалами людей. Чувствую как бы «повеление» писать теперешний дневник, да действительно, слишком важно и интересно то, что происходит, что я вижу, в чем участвую, но… нужны какие-то человеческие, во всяком случае не мои физические для этого силы. Попробую.
Устремленность воли на одну точку все время, в продолжение месяцев – дает мне, и всем нам, неожиданные силы. И какое счастье, что есть Борис. И что он приехал…
При возможности я вернусь к прошлому, буду возвращаться, но сразу не могу. Дай Бог следить за теперешними днями.
Сегодня здесь, наконец, составился кабинет, и к удивлению – центро-правый, а не центро-левый. Посмотрим. И, кажется, соглашение с забастовщиками.
Наше дело поляки хорошо торопят. Слух, что у них на севере опять плохо. А сегодняшние газеты Врангеля привели меня в транс. Идиотское черносотенство! Вот эти генералы. Если так будет – то и он, конечно, провалится.
Сейчас (вечер) опять придут люди: Родичев, может быть, Петражицкий и наши, остальные.
Завтра у Бориса будет 4 миллиона. Грош, но для начала и для здешнего – годится.
3 июля, суббота
Пилсудского Дмитрий видел, сидел у него час двадцать минут (и то сам потом ушел), результаты интересны. Первый – что Дмитрий в него как бы влюбился и вообще стал бредить Бельведером. Уже написал восторженную статью «Иосиф Пилсудский», которую будет печатать везде, когда через Веняву получит благословение. Венява – личный адъютант, «бельведерчик» с позывом на эстетику, преклоняющийся перед шефом, конечно….
6 июля, вторник
Я и нового всего физически записать не могу, не то что к старому возвращаться. Вчера, наконец, появился знаменитый приказ Пилсудского насчет войны Польши не с Россией, а только с большевиками…
10 июля, суббота
Вот как я могу писать здесь…
Сегодня появилось наше ответное «воззвание к русским людям».
Газета будет. Дима весь в работе, мы его почти не видим, переселился в центр, к Борису, в Брюловскую гостиницу. Польское положение довольно жуткое. Формирование нашей армии еще не официально, впрочем, все знают.
Отдел пропаганды, которым я заведую, еще не очень хорошо организован благодаря тому, что еще нет газеты и помещения.
Я знаю, знаю – там только могилы, но все равно, тем более… Боже, нет слов.
11 августа, среда, Данциг-Цоппот
И действительно нет слов.
Варшава накануне большевиков. Мы уехали оттуда в пятницу, 31 июля, в тот холодный, несчастный вечер, когда несчастные поляки отправили свою несчастную делегацию к Барановичам – молить издевающихся большевиков о перемирии. Не вымолили. Что-то происходит очень странное. Не странное с Европой – с Англией; у Ллойд-Джорджа, наказанного Богом, давно отнят разум; но с большевиками. Но, может быть, они чувствуют свою, уже безграничную, власть над Европой? Мне казалось, что они побоятся зарыва, примут и перемирие, и мир, – ведь Англия накануне их полного признания, им это важно. Они же изворачиваются, крутятся, тянут и явно хотят взять Варшаву и соединиться с немцами. Я все-таки думаю, что они дадут Ллойд-Джорджу зацепочку для их признания, – ведь ему так мало нужно!
Наш отъезд был очень тяжел.
8 октября, суббота, Варшава, гостиница «Виктория»
Теперь, оставляя Польшу, заключившую в Риге перемирие с большевиками, оставив уже и здешнее дело, я хочу посвятить последние дни возможно подробному описанию всего, что было с нами и в поле нашего зрения за эти девять месяцев.
Я хочу писать смешанно, сплетенно, личное и общее вместе, потом лучше можно разобрать. И постараюсь, – насколько могу, – без оценок и выводов (их тоже потом).
Как можно больше фактов, что только вспомню.
В Бобруйске – наш первый этап после перехода границы – мы прожили дней десять.
Там узнали, что Борис Савинков с Чайковским приехали в Варшаву. Запоздавшие газеты давали нам противоречивые сведения об этом визите. Ни общего положения дел, ни позиции, данной, Савинкова мы понять еще не могли. Мы едва начали понимать, какая чепуха творится в Европе, в каком она развале, внутреннем и внешнем.
Из Минска – куда мы едва добрались, в воинском поезде, благодаря любезности польских властей, – мы телеграфировали и Чапскому (Иосифу), и Савинкову. От последнего получили телеграмму с просьбой писать на Париж, ибо он уезжает, и с известием, что в конце февраля он снова хочет быть в Варшаве.
Кризис помещений, кажется, всемирен. Польша, особенно пострадавшая от войны, от большевиков и продолжавшая с ними войну, находилась в особенном развале.
Конечно, после Совдепии нам, диким людям, и Минск казался верхом благоустройства. Да что Минск! Первые магазины в Бобруйске привели нас в столбняк. Я помню, как Володя[62]62
Злобин
[Закрыть] с открытым ртом глядел на выставленные в окне носки и произнес с удивлением:
– Ведь я могу их – купить!
Через улицу мы и в Бобруйске боялись переходить (лошади ездят!), точно это было Avenue de l’Opera. В Бобруйске Дима пошел к парикмахеру, остригся – хотя оставил все-таки бородку. (И это его как-то окончательно изменило. Я его стала меньше узнавать, – первого Диму, – чем даже в виде совсем диком, совдеповском.)
В Минске мы поселились в гостинице «Париж», грязной, разрушенной сначала немцами, потом большевиками.
Положение наше было такое.
Мы, прежде всего, были заряжены стремлением бороться с большевиками. То, что мы знали о них, весь наш опыт, вечная мысль об «оставшихся» – все это, само по себе, делало невозможным наше молчание. Белые булки, молоко, шоколад – мы не радовались им, не накидывались на них; мы были к ним или равнодушны (отвыкли), или противны и преступны (к «оставшимся»), если признать, что мы ничего не делаем против большевиков.
И тут же – мы были нищие. Несколько «думских» тысяч, провезенных в подкладке моего чемодана, рваное платье, рваное, в лохмотьях, белье, черная тетрадка моего дневника последних месяцев – вот все, что у нас было.
К счастью, было еще «имя» Мережковского.
Оно, наша «заряженность», мы сами, – «выходцы с того света», – все это сразу, уже в Минске, очень помогло нам. К нам стали приходить люди. Явилась мысль устроить ряд лекций о большевизме.
Русское минское общество, глубочайшим образом провинциальное, поразило нас ненавистью к полякам! К «освободителям» Минска! Это было столь дико для нас, что мы долго не могли опомниться, а когда опомнились, – то сразу стали в определенную оппозицию.
Конечно, поляки, особенно низшие служащие, вели себя глупо в отношении русских. Ненавидели их наравне с евреями и держали себя подчас как завоеватели. Но это была мелочь, это было ничто перед ужасом, от которого поляки спасли Минск, взяв его у большевиков!
(Теперь, через 8 месяцев, когда Минск снова прошел через этот ужас и до сих пор под «Советами», – хотелось бы мне повидать этого старого идиота Ив. Ив. Метлина, упрекавшего нас, на одной частной вечеринке, в полонизме, когда поляки даже «русского языка» русских лишили!)
Был там и кружок уже совершенно правых, «остатков», но с ними мы меньше общались. Епископ Мелхиседек, молодой, болезненный, красивый, – был там центром обожания.
Он в самом деле не без интереса. К нам отнесся очень хорошо с самого начала. Держал себя в Минске, по отношению к польским властям, весьма тактично. Нас приятно удивлял своим желанием «современности» – напоминал мне лучших иерархов Петербурга времен первых Рел. – Фил. Собраний. Стремление к «интеллигенции». И с этим – несомненно религиозное мужество, при случае подвижничество. (Не знаю, что с ним теперь, после взятия Минска снова, но уверена, что он держал себя достойно.) Я вернусь еще к Мелхиседеку, а пока продолжаю нашу историю.
Мы очень скоро читали нашу первую лекцию, все вчетвером, в Городском театре (против гостиницы «Париж»). Устраивали ее заведующий русской Пушкинской библиотекой (доктор Болховец, очень милый). Наплыв народа был такой, что мы, придя в театр, не могли пробраться и уж хотели идти назад. К «толпе» у нас остался вечный ужас. Но после скандалов, криков полиции – прошли, наконец. Вся снежная, темная площадь была запружена не попавшими.
Мы решили эту лекцию повторить.
Среди кучи всяких людей, стремящихся в нашу гостиницу, не из последних был и Гзовский, редактор местной русской газеты, «Минского курьера». Это московский поляк, мелкий когда-то репортер, помыкавшийся по свету. При большевиках был в большевицкой газете, возможно, шпионил полякам (мог бы, при случае, и обратно). Громадного роста, с зычным голосом, самый характерный Хам, какого я только видала на своем веку. При том захолустно-провинциальный (уж был ли он в Москве?).
Он тотчас понял, какие выгоды обещает ему наш приезд. Решил «использовать» его, принялся ухаживать за нами, стал печатать всякие «интервью» и собственные статьи о Дмитрии Сергеевиче («Ублюдок и Титан»).
Мы это отлично видели и смеялись над его грубыми ухаживаньями, которые были бесполезны: и без них мы, одичавшие, оголодавшие без «слова», заряженные Совдепией, пошли бы на буро-желтые страницы его убогого «Курьера». Он был яро антибольшевицкий – чего же еще нужно?
Ко второй лекции мы уже не жили в «Париже». Меня и Дмитрия Сергеевича Мелхиседек устроил в женском монастыре, в доме игуменьи. Две комнаты на второй половине домика (их нам уступила жившая там Мария Алексеевна Гернгросс, весьма милая, энергичная и благодетельная дама, бывшая аристократка, поклонница Мелхиседека). Дима переехал в комнату на другом конце города, у Хитрово, а Володя, вскоре, к какой-то даме-бабе за реку.
Совершилось наше первое разделение.
Замечу, однако, что это внешнее разделение, наше с Димой, которое как будто обуславливалось внешними причинами – жилищным кризисом, – мне очень не нравилось. Давнишняя мечта Димы – не жить с нами. Я не буду здесь касаться всех разнообразных причин рождения такой мечты. Отмечу одну, последнюю, которая вышла наружу с войны, – это сама война и несходство отношения к ней. Мы уже явно пошли по разным линиям. Внутреннее несходство, «разность убеждений», так сказать, неуловимо перешло в чуждость кожную… так что и Февральская революция нас не сблизила, хотя могла бы, в сущности.
После революции (для меня она была неизбежна во время войны, я только не знала, будет ли «Она» или страшное «Оно») я уже стояла за войну. Я еще надеялась, но Дима почти сразу погрузился в полное отчаяние.
Большевики, несмотря на нашу общую к ним ненависть (соединяла ли кого-нибудь ненависть?), все время углубляли трещину между нами. Перед самым переворотом, когда я (и Д.С.) пытались помогать Савинкову, Дима резко, почти грубо, отмежевался от последнего: «Я не участвую. Вашей политики я не знаю…»
То же самое, когда я помогала социал-революционе-рам, Учредительному собранию (в сущности, Чернову), писала им прокламации и манифест, считая, что хочу помогать без различия всем, кто только сейчас действенно борется с большевиками…
Дима все время был против меня. До такой степени, что даже в «ориентациях» мы не сходились; его периода германской ориентации у меня никогда не было. Дима вообще одной линии действия не имел. Мы никто не имели этой линии конкретно, но у Димы не было ее одной и внутренно.
При каждом наступлении «белых генералов» – вечный крик, раздраженное страдание, когда я говорила, что «ничего не выйдет», что нельзя «с остатками», что нужна «третья» сила.
– Ну и создавай эту «третью»! Ее нет! Создавай, ведь я тебе не мешаю! А пока – молчи, не каркай, не смей «о них» говорить!
О всяком «социализме», о всяком «Учредительном собрании» даже слышать не мог, намека не переносил.
Ожесточенно страдал и опускался, страдал до смерти. С отвращением, пассивным, соглашался на отъезд. Последний побег наш – было наше «насилие» над ним, как он говорил. И в самом деле, можно сказать, что Дм. С. насильно увез его – он был инертен и безучастен, при озлоблении.
Но с переезда, и особенно начиная с Минска, когда мы стали немного оглядываться, вдруг оказалось, что у нас одна и та же «политика». Не сговариваясь, мы одинаково отнеслись к Польше, к полякам, оказались в той же, до мелочей, позиции. Спор о «границах», этот праздный, преступный и абсурдный в корне спор, одинаково возмущал нас. Когда Дима впервые напечатал у Гзовского, что пресловутые границы 72 года – только справедливость, – под этим как бы мы все подписались.
Дима даже написал, что Саксонская площадь в Варшаве была бы красивее без памятника русского самодержавия – Собора, и его следовало бы срыть. Я и ждать этого от Димы не смела – и не чувствовала себя от радости, наблюдая эту перемену. Линия казалась нам – мне – очень верной. Ведь были – большевики. И мы их знали. Наш побег оправдывался только ежеминутной работой против них, за оставшихся. Только Польша боролась с большевиками. Мы должны были стать с Польшей, вместе, до конца. И мы могли сделать это вполне искренно, по всей совести.
О позиции Савинкова, когда он приезжал в Варшаву, ходили разноречивые слухи. Неужели он не с нами? Савинков был представителем Колчака, теперь Деникина… А Деникин уже был при своем естественном конце… Кроме того, соображали мы, Савинков давно за границей, а это яд, это туманит мысли…
Впрочем, я не сомневаюсь, что он должен все понять. Надо было лишь сообщиться.
Необыкновенное согласие «убеждений», однако, не приблизило к нам Диму. Он по-прежнему раздражался Дмитрием, чисто внешне, но непреодолимо. Писал мне записки, что «ко мне не пробиться благодаря моему окружению, когда ни придет – тут же Володя, тут же Дмитрий». Потом звал меня к себе «говорить о политике». Радость от этого глубокого согласия между нами у меня была большая и надежды большие…
Не закрывала глаза на то, что это согласие не уничтожает чуждости… но думалось, что это пройдет, да ведь это и личное – такое неважное перед Главным!
Вторая наша лекция прошла тоже с громадным успехом, – публичным, – ибо минское общество уже начало весьма коситься на нас за полонофильство. Было громадное собрание и у Мелхиседека, где мы все выступали. Вскоре, однако, и Мелхиседек, несмотря на свой либерализм и современничанье, стал нами «огорчаться», особенно Димой, за его «варшавский собор».
А для меня этот Димин «собор» был особенно ценным показателем перемены: даже уклон к православию не помешал главной линии.
Сжимали сердце слухи о мире с Совдепией. Явно Польша еще не знала того, что мы знали, не знала большевиков. Срыв мира наполнял нас новой надеждой.
Поезда в Варшаву не ходили. Мы оставались в Минске. Дмитрий стал готовиться к третьей лекции, совершенно польской, к лекции о Мицкевиче.
13 октября, среда
Несколько современных слов, для памяти, раньше чем буду продолжать эпопею. Сегодня опубликовано перемирие Польши с Совдепией. Мир будет через несколько дней. Очень тяжело. В субботу Пилсудский объявил Савинкову, что в течение 6 дней все русские войска должны оставить польскую территорию. На заседании политического комитета в понедельник было решено, что отряд Пермикина пойдет на юг, к Петлюре, а Балахович на Гомель, Жлобин… и далее на Москву. С ним уедет и Савинков. Мы ужинали вместе в понедельник. Необыкновенно тяжелое воспоминание. Дойду в свое время.
Сегодня известие, что Балахович занял «самовольно» Минск (он, по условиям, остается Совдепии). Балахович сам в Варшаве. Вчера вечером у него в Савой был Димитрий на «скучном» торжестве. Дима в Париже (послан), с нами разведется, ибо его вызывают скорее, а мы уезжаем ровно через неделю.
Возвращаюсь.
Помню розовые утренние рассветы в оснеженное окно моей монастырской комнаты. Стена собора, в саду, вся в заре. Сны, от которых плачешь, просыпаясь. Все те же, те же… Если очень громко плачешь, Дмитрий будит из соседней комнаты.
И опять засыпаешь, за своей ширмой, пока, совсем утром, не внесет мать Анатолия, самая благообразная из монахинь, самоварчик, не подымется и Дмитрий, собираясь идти в ванну умываться.
Днем – люди… Вспоминаю генерала Желиговского. Умный, удивительно приятный и все понимающий. «Да ведь вы поймите, нет никого ответственного и разумного из русских людей, с кем поляки могли бы разговаривать и кому могли бы доверять. Отношение к Польше парижских представителей несуществующих русских правительств, отношение Сазоновых – вам известно. Если бы они даже были здесь – из этого ничего не вышло бы. Ожесточение поляков против русских огулом вполне понятно, хотя и неразумно.
Неудачи русских генералов меня не удивляют. Я сам генерал русской службы, я знал многих и знаю, почему в борьбе с большевиками они успеха иметь не могут. Генерал должен быть, вы правы, но генерал не может соединять в себе военную и гражданскую власть. Возвращаясь к Польше, которая – вы правы – сейчас одна могла бы серьезно помочь борьбе с большевиками, да фактически одна сейчас и борется с ними, – я повторю, что соединиться с русскими антибольшевиками она не может потому, что их нет. Нам не с кем разговаривать. Вы – первые русские люди, точка зрения которых нам не внушает недоверия. Вы поняли, как болезненно отношение Польши к России. Границы 72 года… Какой разумный поляк будет претендовать на них фактически? Но это вопрос чести и справедливости. Это пенка, от которой надо танцевать. Отказ русских от насильственных действий русского правительства против Польши начиная с 72 года. Момент восстановления справедливости, аннулирование ее – честное, – вот начало разговоров Польши и России на основах взаимного доверия… В Польше нужно создать русское правительство, которое Польша желала бы видеть в России у власти после свержения большевиков…»
Вот, собственно, суть наших разговоров с генералом Желиговским. Нечего подчеркивать, что мы отлично понимали друг друга. Мы были только в Минске, мы еще не знали ни варшавских настроений, ни положения Польши и ее правительства, не знали детально ни соотношения сил и партий, не уяснили себе вполне, что за личность Пилсудский (не Керенский ли, думалось порою, читая влюбленные письма молодого Чапского), – но главная суть дела нам была уже ясна. И общая линия оставалась одною. Генерал Желиговский очень утвердил ее в нас.
Он тогда занимал важный пост в Минске, где сумел отлично себя поставить. Бывал на каждой из наших лекций.
Внешним образом тоже помогал нам, во всякой возне с бумагами, с пропусками и т. д. Часто приезжал к нам в монастырь. Иногда присылал своего рослого адъютанта. (Этот же адъютант провожал нас, на автомобиле Жели-говского, на вокзал, когда мы уезжали в Вильно.) О Желиговском у нас осталась память как о первом польском друге, умном, сильном, все понимающем и надежном.









































