Текст книги "Олимпия Клевская"
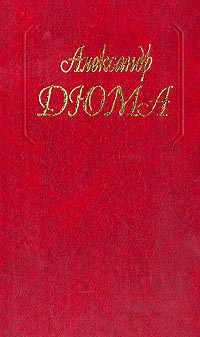
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 66 страниц)
L. ГОСПОДИН ДЕ МАЙИ ВСТУПАЕТ НА ЛОЖНЫЙ ПУТЬ
Вместо того чтобы, заметив меланхолию Олимпии, найти истинную причину этой печали среди воспоминаний о былом или новых тревог, волнующих обыкновенно женские сердца, г-н де Майи, по обычаю всех ревнивцев, предался заботам о себе самом.
Приняв самый приветливый вид, он бодро подошел к ней с улыбкой на устах:
– Дорогая Олимпия, сегодня вечером вы имели колоссальный успех!
– Вы так считаете? – обронила Олимпия, стирая с лица румяна.
– А все потому, моя красавица, что вы играли обворожительно.
– Что ж, тем лучше, – небрежно заметила она.
– Известно ли вам, – продолжал Майи, – что вы всех заставили говорить о себе?
– В самом деле? – произнесла Олимпия все тем же тоном. – А вам это доставляет удовольствие?
– Да нет, напротив.
– Как это напротив? Почему?
– Потому что для меня в этом нет ничего приятного.
– То есть как? Для вас нет ничего приятного в том, что у меня есть талант и зрители признают это?
– Ну да, разумеется.
– Вот как! Тут требуется объяснение.
– Дать его крайне просто.
– Так дайте же.
– А если человек, черт возьми, ревнив?
– Что ж, значит, он не прав.
– Можно быть неправым, – игриво возразил Майи, – но страдания от этого не уменьшаются.
– Страдания?
– И притом жестокие.
– Да, но вы ведь не ревнивы?
– Я в этом не уверен.
– Вот еще! К кому бы вам ревновать?
– Э, Бог мой! Я знаю, что вы меня любите, – заявил граф с той ужасающей самоуверенностью, которую всегда проявляет в человеке полное отсутствие душевного равновесия.
Олимпия отвернулась к зеркалу с выражением лица, которое у женщины менее воспитанной могло бы сойти за гримасу.
Но графа занимали совсем другие заботы, так что он не разглядел ни Олимпии, ни зеркала, ни выражения ее лица.
– Как бы то ни было, – продолжал он, – я не вполне удовлетворен.
– И что же должно произойти, чтобы совершенно успокоить вас, граф?
– Ах, моя милая Олимпия, для этого нужны поступки, которых вы, к несчастью, не совершите.
– О, я способна на многое, – промолвила она.
– Однако не на то, от чего вы уже отказались.
– У женщины бывают капризы, – возразила Олимпия.
– Это значит, что я вправе не терять надежды?
– Согласитесь, дорогой граф, что мне трудно ответить на ваш вопрос прежде, чем я узнаю, о чем, собственно, речь. И этот поступок, которого вы от меня хотите, – он один или их несколько?
– Когда желание связано с вами, Олимпия, толковать о пустяках не стоит труда.
– Что ж, в таком случае говорите.
– С чего мне, по-вашему, начать?
– С самого важного своего желания. Или же с того, которое всего труднее исполнить. Как говорится, берите быка за рога.
– Итак, Олимпия, дорогая моя, угодно ли вам сделать меня счастливейшим из смертных?
– Для меня нет ничего приятнее.
– Так оставьте театр. Олимпия вскинула голову.
В ее взгляде полыхнул такой потаенный огонь, что граф содрогнулся.
– Как? – вскричала она. – Вы приезжаете ко мне в Лион с разрешением на дебют, везете меня в Париж, чтобы я здесь дебютировала, и я дебютирую, притом с успехом, а вы в тот же вечер просите меня оставить сцену! Да я была бы безумной, если бы это сделала, и вы, если бы меня к этому принудили, были бы безумцем. Ведь, лишившись сцены, я бы и сама заскучала, и вам бы наскучила; поступить так значило бы погубить нас обоих. Не надо настаивать, поверьте мне: вы потеряете на этом слишком много, и я тоже.
Однако г-ну де Майи хотелось настоять.
– Но, милая Олимпия, – сказал он, – вы же сами знаете, мы не впервые заводим этот разговор…
– Именно так, я помню, что вы не в первый раз просите меня об этом, а следовательно, помню и то, что не впервые вам отказываю. Так вот, я прошу, дорогой граф, чтобы этот раз оказался последним.
– А все-таки…
– Ох, прекратим этот разговор! – воскликнула она. – Дальнейшие настояния, сударь, в этом случае были бы доказательством того, что у вас слишком мало уважения ко мне.
– Увы! Милая Олимпия, ведь в театре столько поводов…
– Поводов для чего?
– Ну, – пробормотал г-н де Майи, пораженный хладнокровием, с каким Олимпия задала этот странный вопрос, – ну, поводов внушать любовь и влюбляться.
– Полагаю, то, что вы сейчас сказали, не имеет отношения ко мне, граф. И она устремила на г-на да Майи взгляд, пугающая голубизна которого рассекала сердца, как неумолимая сталь клинка.
Милый граф и всегда-то был высокомерен, а в тот вечер у него было совсем скверно на душе!
К тому же его вела несчастливая звезда.
– Дорогая, – произнес он, – позвольте мне заметить, что вы напрасно принимаете столь внушительный вид.
– Это почему?
– А потому, что вам, к моему несчастью, уже случалось столкнуться с одним из подобных поводов.
– По-моему, вы теряете рассудок, господин граф, – сказала Олимпия. – Поводом вы именуете господина Баньера, не так ли?
– Именно его.
– Что ж, я действительно не отвергла этого повода, однако возник он по вашей вине.
– Так вот, мой милый друг, отныне я хотел бы оградить вас от подобного несчастья.
– Вы снова заблуждаетесь, господин граф: господин Баньер вовсе не приносил мне несчастья, это, напротив, я, несомненно, стала виновницей невзгод господина Баньера.
Тут граф осознал, что дело приняло такой оборот, при котором разговор становится похожим на поединок.
Он остановился, но было уже слишком поздно.
Обида, которую он успел нанести Олимпии, мало-помалу воспалялась, подобно осиному укусу на нежной коже.
– Так вы не хотите принести мне эту жертву? – отступал граф.
– Нет, сударь!
– А если я спрошу еще раз?
– Нет!
– А если бы я просил вас об этом, даже умолял?
– Все было бы бесполезно. Он вздохнул и продолжал так:
– Э, Боже мой! Я заверяю вас, что не испытываю ни малейшего беспокойства, ибо знаю: вы благороднейшая из женщин; но как ни возвышенна ваша душа, сердце ваше способно отзываться на впечатления.
– Несомненно.
При этом слове г-н де Майи затрепетал.
– Вот именно это и пугает меня, – сказал он.
– О, – произнесла она, – когда это случится, будьте покойны, я вас извещу.
Новый удар для несчастного любовника…
– Знаете, то, что вы мне сейчас пообещали, дорогая Олимпия, весьма честно, но и столь же малоприятно, – меняясь в лице, заметил г-н де Майи. – Ведь в конечном счете вы, стало быть, допускаете, что ваши чувства могут перемениться.
– Все следует допускать, – спокойно отвечала Олимпия.
– Как все? Даже перемену в ваших чувствах?
– А есть ли в этом мире что-нибудь неизменное?
– Предположим, вы правы. Вот я и говорю: досадно, что вы лишаете меня возможности бороться с кознями моей злой судьбы.
– Я предоставляю вам, сударь, все подобные возможности, – возразила Олимпия, – кроме той, о которой вы просите.
– Стало быть, – оживляясь, вскричал г-н де Майи, – вы отдаете на мое усмотрение все, кроме вашего театра?
– Все.
– Спасибо. Так я приступаю.
– Что вы делаете?
– Сгребаю в кучу ваши драгоценности, которые сейчас заберет ваша камеристка.
– Вот еще! Зачем?
– Я велю передать их моему лакею, который их отнесет…
– Куда?
– В мой особнячок на улице Гранж-Бательер.
– В ваш особнячок?
– Где я умоляю вас расположиться сегодня же вечером. Олимпия в изумлении широко раскрыла свои прекрасные глаза.
– А чем плохи апартаменты, которые я сняла?
– Скоро их наводнит толпа обожателей, которыми вы только что обзавелись, а вот для того, чтобы ввалиться ко мне, этим господам придется прежде хорошенько подумать.
– Значит, вы меня приговариваете к заточению?
– Почти.
С минуту она молчала.
– Вы колеблетесь! – воскликнул граф. – Ах, Олимпия!
– Проклятье! Это же тюрьма! – вырвалось у нее.
– Вы сами сказали, что отдаете мне на усмотрение все!
– Но тюрьма!
– Мы позолотим ее решетки, моя прекрасная узница; я постараюсь сделать так, чтобы свобода стала в ваших глазах благом, не стоящим сожалений.
– Свобода! – прошептала Олимпия, вздыхая.
– Можно подумать, что вы ею дорожите.
– Дорожу ли я ею?! – в жарком порыве вскричала она.
– Ну, сударыня, – промолвил граф, – бывают черные дни, и сегодняшний для меня именно таков.
– О чем это вы?
– Я говорю, что нынешний вечер принес мне несчастье, ведь я увидел в вас холодность, какой, пожалуй, был вправе не ожидать.
Олимпия, впавшая было в глубокое раздумье, казалось, внезапно вышла из него и сказала, покачав головой:
– Ну, не будем спорить, это меня утомляет. Вы требуете, чтобы я ушла из театра?
– О нет, нет, на это я не осмелюсь.
– По крайней мере вы хотите, чтобы я удалилась от света, не так ли?
– Я вас молю только последовать за мной в известный вам особняк и расположиться там со своими служанками.
– Что ж, договорились! – сказала Олимпия, вставая. – Еду туда.
– Все-таки сначала подумайте, – удержал ее граф.
– Подумать? Вы предлагаете мне подумать? Не давайте таких советов, граф. Я вам сказала: договорились, но при одном твердом условии – что я не буду этого обдумывать.
– Я не хочу захватить вас обманом врасплох, Олимпия. Если я прошу, чтобы вы туда переехали, то лишь затем, чтобы вас там спрятать.
– Согласна.
– И хочу сам выбирать тех, кого вы сможете там принимать.
– Согласна, на все согласна. Граф, вы хотите, чтобы я никогда оттуда не выходила? Граф, вам угодно, чтобы я ни с кем не виделась? Так говорите, приказывайте или, вернее, нет, не говорите ничего, я сумею все угадать без слов.
– Олимпия, вы пленяете и в то же время пугаете меня.
– Отлично! Превосходно! Вашу руку, граф, и едем. Вне себя от восторга, граф усадил Олимпию в экипаж, ждавший его у актерского подъезда, и приказал отвезти их в особнячок на Гранж-Бательер.
Больше Олимпия не произнесла ни слова; невидящими глазами она смотрела на окружающие ее дорогие предметы, которые, по словам г-на де Майи, с этой минуты становились ее собственностью, потом она села за стол, чтобы поужинать, но к ужину не притронулась, отвечала улыбкой на слова графа, но засмеяться не сумела ни разу. Пока г-н де Майи не распрощался с ней, она старалась изо всех сил, лишь бы сохранить видимость любезности.
А потом, оставшись, наконец, одна, она упала в кресло возле камина, пробормотав:
– О! Какая скука!
Ужасающее слово, все значение которого люди обыкновенно осознают не прежде, чем оно раскроет свою суть и обнаружит свои последствия.
Что касается г-на де Майи, то он возвратился к себе, торжествуя оттого, что сумел принудить Олимпию порвать с суетным светом. Несчастный и не думал о том смертельном враге, наедине с которым он оставил ее в стенах своего дома на улице Гранж-Бательер.
«В конце концов, – говорил он себе, – баталия была тяжелой, но победа осталась за мной, она у меня в руках. Король больше не увидит ее нигде, кроме как в театре, и к тому же, если он будет там любоваться ею слишком часто, я помешаю ей играть; мои друзья при дворе мне в этом помогут».
Злосчастный г-н де Майи! Он по колено увяз в той же любовной трясине, куда бедняга Баньер провалился по самую грудь.
LI. ГОСПОДИН ДЕ РИШЕЛЬЕ
В тот же вечер, когда король во время знаменательного представления уделил чрезвычайное внимание мадемуазель Олимпии, исполнявшей роль Юнии, свершилось важное событие, едва не испортившее для юного монарха весь блистательный эффект его появления во Французской комедии.
Событием этим было известие, которое произвело в переполненном зале впечатление разорвавшейся бомбы. Вот оно, это известие:
– Из Вены прибыл господин де Ришелье!
И верно, около шести часов вечера тяжело груженный экипаж, влекомый четверкой мощных коней, казалось, уже не способных передвигаться иначе как галопом, достиг заставы Ла-Виллет, доскакал до предместья Сен-Дени, проследовал по бульварам, выехал на улицу Ришелье и свернул во двор большого особняка, расположенного на улице Круа-де-Пти-Шан.
С одной стороны этого здания простирался двор, к другой примыкал сад.
На шум подъезжающей кареты выбежало несколько слуг с факелами. Одни столпились на крыльце, другие бросились к подножке кареты, открыли дверцу, и оттуда медленно выбрался облаченный в кунью шубу молодой человек; жестом руки поприветствовав обитателей дома, сбежавшихся навстречу ему, он окликнул лакея, прибывшего вместе с ним и вышедшего из экипажа первым:
– Раффе, меня нет дома ни для кого, кроме известной вам особы. Поручаю вам охранять мою персону.
С этими словами он переступил порог особняка и скрылся в глубине покоев, заранее протопленных: такая предусмотрительность доказывала, что путешественника ждали.
Этот путешественник, о чем легко узнать из сказанного выше, был не кто иной, как господин герцог де Ришелье, в первых числах ноября возвратившийся из своего посольства в Вене.
Да не прогневается читатель-эрудит, привыкший следить по хроникам XVIII века за всеми извивами придворных интриг, да не упрекнет он нас в многословии, если мы набросаем несколькими штрихами портрет герцога де Ришелье той поры, а также вкратце изобразим тех, что окружали его в 1728 году так тесно, что их лица казались не более чем рамой этого портрета.
Герцогу было тогда тридцать четыре года; он был самым красивым мужчиной Франции, подобно тому как Людовик XV в свои восемнадцать был ее самым прекрасным юношей. Ришелье был знаменит своими любовными похождениями с дочерью регента, с мадемуазель де Шароле, с г-жой де Гасе, с г-жой де Виллар и другими; знаменит своим троекратным заточением в Бастилии; знаменит своими безумствами; он стал и знаменитым послом – в Вену к императору Карлу VI его отправили затем, чтобы расторгнуть союз этого монарха с королевой Испании, которая подчеркнуто выражала претензии своего дома на французскую корону в случае смерти Людовика XV.
Это была задача не из легких: император Карл был человеком, исполненным энергии, переходящей в грубость, и осмотрительности, доходящей до дикарства.
Кроме того, австрийский двор был ужасным местом для человека, привыкшего к развлечениям Парижа, и политика этого двора была суровой школой для молодого человека, усвоившего легкомысленные обычаи Бычьего глаза.
Вена в глазах всей Европы имела два преимущества, каких никто у нее не оспаривал: ее генералы почти всегда побеждали наших генералов, ее дипломаты почти всегда обманывали наших дипломатов.
Герцог де Ришелье, способный на все, даже на добро, как отзывался о нем господин регент, другой государственный муж большого ума, чью истинную цену все осознали не раньше, чем на смену ему пришел герцог Бурбонский, – так вот, г-н де Ришелье, способный на все, счастливо покончил со своей миссией и вернулся из Вены в начале ноября 1728 года.
Сказать по правде, во всех дипломатических интригах ему очень помогала любовница принца Евгения: эта новая Ариадна дала ему путеводную нить, что выручала его в лабиринте Шёнбрунна.
Кто хоть немного знаком с галантными хрониками того времени, поймет, что, едва лишь весть об этом возвращении распространилась по городу, весь Париж устремился к новоприбывшему с визитами. Таким образом, герцог убедился, что если за эти два года о нем и успели забыть, то теперь даже самые забывчивые горят желанием освежить свою память.
Войдя в покои, он, как было сказано в начале этой главы, прежде всего велел своим людям никого к нему не пускать, и это указание соблюдалось с военной четкостью. Как известно, господин герцог де Ришелье был один из тех вельмож королевства, кому служили с особым рвением.
Поэтому легко себе представить, какое разочарование изображалось на физиономиях тех, кто, движимый любопытством или привязанностью, поспешил сюда, чтобы постучаться в большие парадные ворота или потайную дверцу, подойдя к дому с улицы или из переулка.
В этот день, спрятавшись за воротами, прильнув ухом к замочной скважине, а взор устремляя в щели в стене, оставленные около петель, доверенный лакей г-на де Ришелье подстерегал каждый звук, доносящийся с улицы или со стороны бокового входа.
Наконец, когда в подобном ожидании прошел час или около того, невдалеке от стены остановился наемный экипаж. Из него вышла закутанная женщина, лицо и фигуру которой невозможно было разглядеть, но по быстрому шагу, по своеобразному жесту, каким она отпустила возницу, слуга признал в ней ту самую особу, насчет которой он получил указания.
Уже темнело, падал снег, и в целом квартале не видно было больше ни единой живой души.
Лакей открыл ворота, которые он охранял, прежде чем в них постучались, молодая женщина проскользнула внутрь и направилась в глубь сада с уверенностью, говорящей о привычке находить здесь дорогу без посторонней помощи.
Пройдя через двор, она попала прямо в объятия герцога, ждавшего ее в бельэтаже у дверей, которые выходили в сад; он с нежностью поцеловал ее, воскликнув:
– Ах! Моя прекрасная принцесса! Я ждал вас с таким нетерпением, и вот вы пришли, а я уже не надеялся!
Эту женщину, которая, смеясь, целовала Ришелье и дружески хлопала его по ладоням своими маленькими ручками, звали мадемуазель де Шароле, а следовательно, она была не просто принцесса, но даже принцесса крови.
На изысканное приветствие герцога принцесса не дала иного ответа, кроме поцелуя, какой может подарить только любовница. Тогда он увлек ее за собой в просторную, пышно обставленную комнату, нагретую до температуры теплого весеннего дня и напоминавшую настоящий лес, благодаря цветам, которые ее украшали, и гобеленам с изображением деревьев, среди которых в позах более или менее лежачих резвилась толпа пастушков и пастушек.
Стол, сервированный у камина, два удобных кресла, поставец, заполненный прекрасным фарфором, роскошью, редкой в ту эпоху, когда вкусы Помпадур еще не пронизали наше общество насквозь, приглушенное сияние свечей – все внушало ощущение блаженства, усилившее ту бурную радость, которую только что проявила принцесса.
– Ну и ну! – сказала она. – Позвольте, герцог, прежде чем ужинать, мне хорошенько на вас поглядеть.
И она уселась прямо напротив Ришелье.
– Поглядеть на меня, принцесса? А зачем?
– Да чтобы снова привыкнуть к вам, конечно!
– Ах, принцесса, похоже, что ваша память слабее моей!
– Отчего же?
– Потому что я узнал вас с первого взгляда.
– А что, я не слишком подурнела?
– Вы по-прежнему самая прекрасная из всех принцесс, какие когда-либо рождались, и тех, какие родятся впредь.
– А что же вы не спрашиваете меня, каким я нахожу вас?
– О! Это бесполезно.
– Вот еще! Почему?
– Я больше не в счет, я австриец, варвар и привык, что меня видят одни лишь немки; дайте же мне, принцесса, время избавиться от этого облика, который я приобрел, это займет около недели, и, когда я вновь сделаюсь не только французом, но и парижанином, я рискну встать между вами и вашим зеркалом.
– Значит, вам кажется, что вы сильно переменились?
– Чрезвычайно сильно.
– Вы стали честолюбцем.
– Это правда, принцесса.
– Мне об этом говорили, но я не хотела верить.
– И все-таки это бесспорная истина.
– Не приступить ли нам к ужину? Вы когда-то уже объяснили мне, как к девушкам приходит любовь; за ужином вы мне растолкуете, как в мужчин вселяется честолюбие.
– Поверьте, я всегда счастлив научить вас чему-нибудь, однако сейчас, дорогая принцесса, как вы сами сказали, займемся ужином.
Принцесса села за стол.
– Знаете, – сказала она, – за эти два года у меня прибавился аппетит.
– Отчего же, принцесса?
– Увы!
– Какой тяжкий вздох.
– И чем же вы его объясняете?
– А чем объясняются женские вздохи?
– Вы хотите сказать – любовью?
– Проклятье!
– Что ж, в таком случае вы заблуждаетесь, дорогой герцог: в целом свете не найдешь женщины, менее влюбленной, чем я.
– Вы говорите это так, будто хотели бы еще быть влюбленной или вновь стать ею.
– Нет, слово чести!
– В самом деле?
– Можете верить мне или, если угодно, не верить, но за время вашего отсутствия…
– И что же?
– Что? Я простилась с любовью. Герцог расхохотался.
– Вы льстите мне, – продолжала она, – но вам неподвластно то, чего больше нет: вы не убедите меня, что покойники не мертвы.
– Ах, принцесса! Значит, вы не верите, что призраки былого посещают нас?
– Что толку в них верить? Ведь призраки лишь тени.
– Принцесса, иные призраки возвращаются из краев еще более дальних, чем тот свет, из Австрии к примеру, и я вам клянусь, они вполне телесны, а если вы в том сомневаетесь…
– Нет, я никогда не усомнюсь в том, что утверждаете вы, герцог.
– Но в таком случае…
– В таком случае мое решение остается неизменным. Я больше не полюблю, Арман.
– И кто же этот несчастный, отверженный землей и небесами, что это за мужчина, если он смог внушить вам подобное раскаяние?
– Мужчина? Да разве во Франции остались мужчины с тех пор, как вы, герцог, покинули ее?
– Благодарю, принцесса.
– Да нет же, право, я говорю то, что думаю.
– Так вы мне скажете, наконец, откуда у вас такое отвращение к горестям или к наслаждениям? Вы же сами знаете, настоящие любовники похожи на азартных игроков: кроме наслаждения выигрыша, им ведомо и наслаждение проигрыша.
– Герцог, для меня больше не существует ни горестей, ни наслаждений.
– Ну вот, я вернулся, потому что слишком там скучал, я творил чудеса дипломатии, чтобы получить право возвратиться во Францию, а вы мне говорите подобное! Теперь что, в Версале скучают?
– Смотрите, я стала толстухой.
И она протянула герцогу прекрасную руку, к которой он прильнул губами, смакуя долгий поцелуй…
Столь долгий, что герцог уже и сам не знал, как его прекратить, да и мадемуазель де Шароле ждала, любопытствуя, каким образом он выпутается.
– А король? – нашелся герцог, возвращая мадемуазель де Шароле побывавшую в плену руку.
Мадемуазель де Шароле взглянула на герцога, почти покраснев:
– Что? Король? О чем это вы?
– Я? Да ни о чем; я только хотел вас спросить, как он себя чувствует.
– Очень хорошо, – отвечала мадемуазель де Шароле, произнеся эти два слова несколько манерно.
– Ваше «очень хорошо» меня не удовлетворяет.
– Каким же, по-вашему, оно должно быть, герцог?
– Я бы желал, чтобы это звучало либо весело, либо грустно: в первом случае то были бы слова счастливой женщины, во втором – женщины ревнивой. Так что выбирайте, принцесса.
– Ревновать, мне? Но кого же?
– Да короля, разумеется!
– Ревновать короля! С какой стати вы мне говорите такие безрассудные вещи, герцог?
– Что ж! Но когда это случится, ибо я надеюсь, что он даст вам повод или для того, или для другого…
– Быть счастливой по милости короля или ревновать его, и это мне?
– Право, принцесса, можно подумать, будто я с вами говорю по-немецки!
– Вы и впрямь выражаетесь все невразумительнее, мой дорогой герцог; неужели вы за эти два года не получали вестей из Франции? Я себе представляла, что послы ведут
переписку, притом даже двух родов: переписку открытую и тайную, политическую и любовную.
– Принцесса, у меня не было двух родов переписки.
– Вероятно, у вас их было сто.
– Тут верно одно: все мне писали, кроме вас.
– Именно тогда вам и сообщили, что король…
– Да, что король красив.
– И также, что он благоразумен?
– Мне и об этом сообщали, но, поскольку я знаю, что господин де Фрежюс вскрывал всю мою корреспонденцию, я не верил ни единому слову из того, что мне писали.
– И вы ошибались.
– Неужели?
– Это истинная правда, герцог.
– Так король благоразумен? – Да.
– У короля нет возлюбленной?
– Нет.
– Это невообразимо. Ах! Отлично, принцесса, я все понял.
И герцог от души расхохотался.
– Что вы поняли? – спросила мадемуазель де Шароле.
– Проклятье! Вы не хотите изобличить себя сами, вы ждете, чтобы я привел доказательства.
– Так приведите их.
– Берегитесь!
– Дорогой герцог, за эти два года король на меня даже не взглянул.
– Извольте поклясться в этом.
– Клянусь нашей былой любовью, герцог!
– О, я вам верю, ведь вы меня любили почти так же сильно, как я вас, принцесса.
– Хорошие были времена!
– Увы! Как вы только что сказали, мы тогда были молодыми.
– Ах, Боже мой! Но теперь мы наводим друг на друга уныние, и в особенности вы на меня, герцог.
– Каким образом?
– Вы меня делаете старухой.
– Дорогая принцесса, мне пришла в голову одна мысль.
– Какая?
– Если у короля нет любовницы, при дворе должен царить ужасающий беспорядок.
– Мой друг, это просто-напросто хаос.
– По-видимому, так; ведь в конечном счете, если король не имеет любовницы, значит, Францией правит Флёри, и Франция стала семинарией.
– Среди семинарий, любезный герцог, попадаются такие веселенькие местечки, что их можно сравнить с Францией.
– И естественно, что, когда король благоразумен, все также стараются быть благоразумными.
– Герцог, от этого прямо в дрожь бросает.
– Вследствие этого двор превращается во вместилище добродетели, которая, переливаясь через край, грозит затопить народ.
– Все уже утонули в ней.
– А королева?
– Королева уже не просто добродетельна, она свирепа в своей добродетели.
– Мой Бог! Держу пари, что, коли так, она ударилась в политику. Бедная женщина!
– Ваша правда.
– Но с кем, ради всего святого?
– А с кем, по-вашему, ей заниматься политикой? Уж конечно, не с королем.
– Почему?
– Э, мой дорогой, она до того добродетельна, что боится взять в любовники даже собственного мужа.
– Вот оно что! Кто-то дает ей советы?
– Да.
– Стало быть, она завела себе политического любовника.
– Иначе говоря, сохранила того, какого имела.
– И это по-прежнему…
– … все тот же, кто сделал ее королевой Франции, ведь никто так не склонен хранить признательность, как поляки и в особенности полячки.
– Француженкам это несвойственно, не так ли, принцесса?
– Ода!
– Итак, она плетет интриги заодно с герцогом Бурбонским?
– Именно.
– Который по-прежнему крив на один глаз.
– Ну да, Боже мой!
– Он еще и горбат.
– Станом он скрючен, что правда, то правда. Уж не знаю, может, это с ним случилось под бременем государственных забот!
– Подумать только, эта тихоня де При обо всех этих делах ни словом не обмолвилась!
– Ах! Отлично! Значит, де При писала вам в Вену!
– Разумеется.
– В таком случае не понимаю, зачем вы меня расспрашиваете, герцог.
– Ну, чтобы знать.
– Как будто там, где прошла эта де При, может остаться еще что-либо непознанное.
– Ну, вот, дорогая принцесса, не угодно ли поверить, что…
– Ничему не поверю, предупреждаю заранее.
– Клянусь вам…
– Клятвы! Час от часу не легче.
– Клянусь, что мои отношения с маркизой так же невинны, как отношения короля с вами.
Мадемуазель де Шароле, смеясь, пожала плечами.
– Раз вы прибыли из Вены, вам кажется, что и я приехала из Лапландии? – сказала она.
– Продолжайте, дорогой друг, – промолвил герцог, видя, что превозмочь недоверчивость принцессы совершенно невозможно.
– Что вы хотите, чтобы я продолжала?
– То, что начали. Вы же сказали, что королева плетет интриги сообща с герцогом Бурбонским?
– Нуда.
– Чтобы свалить Флёри?
– Именно так.
– А почему она хочет его свалить?
– Потому что Флёри – старый скряга, из-за которого она испытывает недостаток в деньгах. Кстати, о деньгах: раз уж вы такой друг этой де При, скажите-ка ей, герцог, что она проявила прескверный вкус в выборе протеже.
– Какой протеже?
– Полячки, кого же еще?
– Ах, принцесса, пожалейте ее, эту бедную королеву; она заслуживает скорее сострадания, чем порицания.
– Да я ей сострадаю больше, чем вы сами, и особенно я ее жалею за то, что по вине этой интриганки маркизы она стала королевой Франции.
– По правде говоря, принцесса, меня удивляет, что вы говорите, будто скучали эти два года. Кто ненавидит так, как вы, всегда более или менее развлекается… Ну, оставьте же в покое эту маркизу хотя бы ради господина герцога.
– Нет, нет, нет, я нахожу отвратительным один поступок этой нахалки: она сделала королеву королевой.
– Это ее право, ведь она исполнила то, что было ей поручено.
– Да! А что она радела о приданом этой бедной принцессы, что пересчитывала ее белье, рубахи, юбки, словно кастелянша для новобрачной-провинциалки, это тоже ее право?
– Послушайте, принцесса, ведь маркиза была падчерицей Леблана.
– Ну, такая доброта примиряет меня с вами, и я возвращаюсь к господину де Фрежюсу.
– То есть к нашему скряге. :
– Последний, зная, что у королевы нет денег, допустил к себе Орри, генерального контролера, наделенного всеми полномочиями для ведения переговоров о займе на имя бедняжки Марии Лещинской, и тот засвидетельствовал перед господином Флёри, что бедная принцесса не в состоянии поддерживать образ жизни, какого требует ее положение; Флёри признал, что так оно и есть, посетовал вместе с генеральным контролером и вытащил из своей шкатулочки, поскольку у него, как у Гарпагона, имеется шкатулочка…
– Вытащил что?
– Угадайте!
– Проклятье! Вы изъясняетесь, как Гарпагон.
– Герцог, прикройте от стыда лицо: он вытащил сто луидоров! Нами управляет человек, дающий сто луидоров королеве! Вы, будучи в Вене, представляли там этого человека!
– Если бы я проведал об этом, клянусь вам, принцесса, я не остался бы там и на сутки. Что он должен был сказать, когда узнал, что, въезжая туда, я велел подковать лошадей моей свиты серебряными подковами, а моих собственных – золотыми?
– Да, и еще устроили так, чтобы они растеряли все подковы прежде, чем вы въехали в свой дворец.
– Вернемся к господину де Фрежюсу. Вы представить не можете, насколько мне интересно все, что вы говорите.
– Стало быть, он извлек из своей шкатулки сто луидоров для королевы. Орри покраснел как мак и вновь напомнил министру, что ее величество нуждается в деньгах.
Флёри тяжело вздохнул.
«Если она действительно стеснена в средствах, – сказал он, – придется сделать себе кровопускание». И он добавил еще пятьдесят луидоров.
– О! Это невозможно! – вскричал Ришелье. – Вы преувеличиваете, принцесса.
– Скажите, что это неправдоподобно, и я соглашусь с вами. Но, прощу вас, подождите конца.
– Так это еще не конец? Был другой?
– Орри, который сначала побагровел, стал бледнеть. Видя это, господин Флёри забеспокоился, как бы он опять не принялся жаловаться.
«Что ж, ладно! – промолвил министр, – добавлю еще двадцать пять луидоров, но уж пусть до будущего месяца ничего больше не просит».
И этими словами Гарпагон запер свою шкатулку.
– Сто семьдесят пять луидоров!
– На двадцать пять луидоров меньше, чем я давала вашему лакею, герцог, когда он первого января приносил мне от вас новогоднее поздравление.
Ришелье отвесил учтивый поклон.
– Принцесса, – сказал он, – признаю, что в мое отсутствие здесь происходили явления потусторонние. Значит, королева настроена против господина де Фрежюса, она в ярости?
– В отчаянии.
– Ладно! Но почему бы ей не заставить короля припугнуть его?
– Э, герцог! Вообразите, что это, напротив, господин фрежюс старается устроить так, чтобы король невзлюбил ее.
– Ба! Он, столь благочестивый епископ?..
– Говорю же вам, все это омерзительно!
– А впредь будет еще и весьма прискорбно, принцесса, и с нашей стороны было бы неосмотрительно в том сомневаться. Так, вероятно, все ропщут – и в верхах и в низах?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































