Текст книги "Олимпия Клевская"
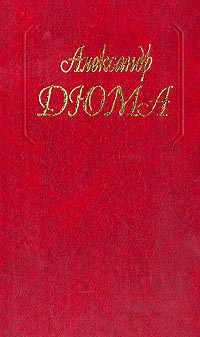
Автор книги: Александр Дюма
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 51 (всего у книги 66 страниц)
LXXXIX. БРАКОСОЧЕТАНИЕ
Как мы уже сказали, Олимпия покинула театр об руку с Баньером, пока г-н де Ришелье разговаривал под колоннадой с Майи.
У ворот они оба сели в фиакр: парикмахерша успела найти его для них.
Это Баньеру пришла на ум такая предосторожность. Сразу после объяснения с Олимпией, которое обернулось как нельзя лучше, он начал действовать, ибо принадлежал к тем, кто при необходимости способен обуздывать и ход событий, и необъезженных лошадей.
Возница фиакра заблаговременно получил нужные указания. Он повез их прямо к церкви Нотр– Дам-де-Лорет, расположенной возле почтовой станции Поршерон.
Однако между Нотр– Дам-де-Лорет 1730 года и 1851 года была немалая разница.
Эта маленькая церковь, находившаяся в ведении собора святого Евстафия, выходила фасадом на узкую площадь, образованную пересечением дороги на Монмартр, Поршеронской улицы и улицы Нотр– Дам-де-Лорет.
Когда любовники начинали свое паломничество, ночь, уже пройдя половину пути, набросила самое плотное из своих черных покрывал на кладбище святого Евстафия, что раскинулось в нескольких шагах от церкви, и всю прилегающую обширную местность между бульваром и Монмартром.
Улица Нотр– Дам-де-Лорет, ныне одна из самых очаровательных в столице, в ту пору не была еще застроена, да и дорога на Монмартр не была вымощена.
К тому же, поскольку городские власти не посчитали нужным поставить в этом квартале фонари, он являл собой пустырь, окутанный тьмой.
Кроме журчания грязной воды в большой сточной канаве да шелеста камыша и кустов ольхи на болоте, ни один звук не примешивался к скрипу колес фиакра, который насилу тащился по ухабистой, круто забирающей вверх дороге.
Слабый отблеск луны, что-то вроде заблудившегося лучика, проскользнувшего меж двух туч, серебрил маленькую паперть церквушки, озарял то и дело меркнущим сиянием облака, блуждающие по небу, и фасады двух жалких домишек, словно брошенных кем-то справа и слева от нее.
И все же за стеклом одного из окон дома священника, на первом этаже, горел свет – то было бледное пламя свечи, и в этом тусклом освещении Олимпия различила силуэт человека: он стоял за оконной шторой и ждал.
Фиакр остановился, дверца отворилась. Баньер первым спрыгнул на землю, принял Олимпию в свои объятия, поневоле затрепетал, ощутив на своем лице тепло ее дыхания, и повлек ее за собой, спеша постучаться в маленькую дверь под освещенным окошком домика.
Эта дверь тотчас открылась.
Человек, ждавший их, был Шанмеле.
Он впустил приехавших влюбленных, закрыл за ними дверь и по закрытому переходу провел их к алтарю маленькой церкви.
Там они вдруг оказались на свету.
Алтарь сиял, украшенный шестью большими зажженными свечами, а цветы, расставленные повсюду в вазах, придавали церкви праздничный вид.
По знаку Шанмеле Баньер с Олимпией сели на скамью против алтаря.
Бывший комедиант с минуту молча смотрел на эту молодую прекрасную женщину, бледную и трепещущую перед лицом Господа, представшую перед ним, надеясь оправдать свое сердце и томясь сожалениями о своих ошибках.
В странной фигуре Шанмеле было в этот миг нечто поэтическое, исполненное глубокого чувства, даже торжественное.
Олимпия и Баньер смотрели на него с ласковой улыбкой, но и не без почтительности.
– Сударыня, – обратился Шанмеле к Олимпии, – человек, который здесь присутствует, – и он указал на Баньера, – любит вас настолько, что готов погубить ради вас и свою душу, и всего себя. Увы! Как бы неопытен я ни был в качестве пастыря, я ведаю, сколь опустошительны бури, которые страсти могут производить в сердце человеческом. Мне также известно, как важно сохранить для Господа если не все свое сердце и все помыслы, что было бы трудно, то, по крайней мере, как можно большую часть и того и другого. И, чтобы Баньер мог перед Создателем жить свято, всецело отдавшись своей любви, я ныне явился сюда, пытаясь, как голубка из ковчега, принести вам обоим оливковую ветвь, дабы отныне он, когда будет молиться за себя, имел право в то же время молиться и за вас, и дабы каждая из этих молитв была благодарственной и в ней жила бы признательность за то, что я, как только мог, помогал ему в его попытках найти вас и соединиться с вами.
Что до вас, сударыня, подумайте только, до какой степени ваша жизнь, еще такая короткая, уже подвергалась треволнениям и превратностям.
Скажите, куда она идет, эта душа, которую потрясают невзгоды и страсти, так же как ветер и волны раскачивают утлое суденышко? Вы и сами не ведаете того, не так ли? Что ж, найдите тихую пристань, убежище в лоне Господнем, и тогда Небеса благословят вашу любовь. Будьте честной женщиной, смирите себя, подчинившись клятве, данной перед Богом, той единственной клятве, которую в этом мире женщинам не дано права нарушать.
Олимпия величественно поднялась с места; она была еще бледнее обычного.
– Сударь, – произнесла она таким нежным голосом, что даже своды церкви, словно обласканные трепетом струн арфы, ощутили дрожь, – сударь, вы поступаете правильно, налагая на меня цепи Божьего закона, чтобы возвратить меня мне самой. Я знаю, что мое призвание любить, но отныне я буду знать также, что не должна больше любить никого, кроме Баньера, и мое звание супруги станет для меня священным пределом, которого я клянусь никогда не переступать.
Но услуга, которую вы мне оказываете, значит еще больше по отношению к другим. Эти другие, сударь, видели во мне лишь женщину, покинутую людьми (о, я никого не упрекаю!) и, главное, покинутую самим Богом; они осуществляли надо мной власть, которую давало им их мирское могущество, да и мои собственные слабости, прискорбное следствие моего тщеславия. Отныне, видя, что у меня есть опора, что я защищена званием законной жены, они не будут больше для меня ни опасны, ни даже враждебны.
Итак, я благодарю вас, сударь, и прошу Господа принять мою клятву; никогда я не давала обещания столь сладостного, и сдержать его мне будет легко.
С этими словами Олимпия повернулась к Баньеру и, с невыразимой нежностью глядя на него, вложила в его ладони свою дрожащую, холодную руку. Вся ее кровь прихлынула к сердцу.
Пошатнувшись от счастья, Баньер ни слова не сказал достопочтенному Шанмеле. Он прижался губами ко лбу Олимпии и замер, онемевший, готовый лишиться чувств, как будто его сердце вот-вот откажется биться.
Тогда Шанмеле пошел будить мальчика-служку, который спал на деревянной скамье в находившейся рядом зале дома священника, и приступил к церемонии в ту самую минуту, когда настал новый день, иначе говоря, когда пробил час ночи.
Никогда еще церковный обряд не исполнялся с таким рвением, с такой верой. Новобрачные проливали слезы радости и любви и спрашивали, почему, если вечный союз так сладостен, злополучные смертные столь часто предпочитают ему свободу, причиняющую множество скорбей.
Шанмеле так расчувствовался, что не мог удержаться, чтобы не обнять Олимпию; при этом он ей сказал:
– Я понимаю, сударыня, что с таким талантом, какой у вас был, и с той красотой, что у вас есть, вам дорого стоил отказ от театра, но эта жертва – залог вашего вечного спасения.
Молодые люди с удивлением уставились на Шанмеле.
– Однако, – робко заметил Баньер, – вы забываете, мой дорогой аббат, что моя жена и я, мы оба бедны, а следовательно, нам не обойтись без театра.
– Э, Боже мой! – вскричал Шанмеле. – Разве на свете нет иных способов преуспеть?
– Вспомните, – с улыбкой заметила Олимпия, – что у него уже нет возможности, подобно вам, стать аббатом.
– Мне все-таки кажется, что можно быть актером и честным человеком, господин Шанмеле, – опять заговорил Баньер, – и вы сами, благодарение Создателю, живой тому пример.
– Я этого не отрицаю, – отвечал Шанмеле, – но послушайте меня, мой дорогой Баньер, и да простится мне, что в этом святом месте я позволю себе мирские речи, ибо я буду говорить с вами как простой человек, да что там, как человек, как комедиант, а не как пастырь.
– Говорите, мы вас слушаем, – откликнулся с улыбкой Баньер.
– Что ж! Если воля Господня не превратит театр в место вашей погибели, это случится из-за вас самих.
– Я вас не понимаю, – сказал Баньер, который, напротив, даже слишком хорошо понял, куда клонит аббат, и заранее содрогнулся, чувствуя, какую болезненную струну тот собирается задеть.
– Да, из-за вас самих, – продолжал Шанмеле, – потому что вам придется сверх меры страдать, видя, как вашу жену с ее талантом и очарованием без конца превозносят, как ей льстят, как ее домогаются… Олимпия встрепенулась.
– Э, Боже правый! – не унимался аббат. – Я вовсе не говорю, что добродетель и любовь госпожи Баньер, ее благородный характер не победят всех этих соблазнов, однако…
– Однако? – повторил, обеспокоившись, Баньер.
– Ну, договаривайте, мой дорогой аббат, – сказала Олимпия.
– О, вы и так все поняли, сударыня, – возразил Шанмеле, – мне нет нужды договаривать. Вы знаете, что те, кому не удается честными путями добиться милостей актрисы, подчас прибегают к силе и вероломству.
– Вы говорите о некоем знатном вельможе, не правда ли, мой милый аббат? – хмуря брови, спросил Баньер.
– Сударь, – произнесла Олимпия мягко, но тем не менее серьезно, – не судите об отсутствующих дурно.
– Увы! – вздохнул Баньер. – Когда задето тщеславие, и лучшим из людей случается поддаться злым побуждениям.
– Стало быть, я прав, – заметил Шанмеле. – Так вот, позвольте уж мне на минутку вмешаться в ваши дела, поспорить с вами о цифрах, доказать вам…
– Здесь? – улыбаясь, спросила Олимпия.
– Нет, давайте покинем это святилище, – предложил Шанмеле, потому что Олимпия уже взяла его за одну руку, а Баньер сжимал другую. – Пойдемте в маленькую залу дома священника и поблагодарим этого превосходного человека, который сегодня ночью согласился уступить мне свое место, чтобы дать мне право сделать вас счастливыми навеки.
– Подождите! – остановила его Олимпия. – Позвольте мне, прежде чем я уйду отсюда, бросить в кружку для сбора пожертвований этот дар вашим беднякам от нашего счастья.
– Одну минуту! – закричал Шанмеле, удерживая маленькую ручку, в которой блеснул двойной луидор.
– Почему? – удивилась Олимпия.
– Потому что бедняки беднякам рознь, – сказал Шанмеле. – Идемте в нижнюю залу, там и поговорим.
Он повел их за собой, отослав юного служку, которому сунул в ладонь монету; потом он запер за ними дверь, соединявшую дом с церковью, и, усадив молодую чету друг против друга на два дубовых, лоснящихся от времени табурета, взял новобрачных за руки.
– Ну вот, – промолвил он, – теперь, когда мы дома, я вам скажу кое-что, и поверьте, у меня есть причины, чтобы это вам сказать. Давайте сосчитаем ваши богатства. Это я предлагаю только вам, сударыня; что же касается богатств Баньера, то они мне известны.
– Да, это те самые десять экю, которые я вам должен, – подхватил Баньер, улыбаясь достойному комедианту.
– Потому-то я и говорю, – продолжал Шанмеле, – что обращаюсь только к мадемуазель де Клев.
– Сударь и дорогой друг, – сказала Олимпия, – у меня драгоценностей луидоров на сто и еще примерно на двести – нарядов, белья и мебели, которую можно продать.
– Вы продадите все это?
– Конечно.
– А зачем?
– Потому что мы, мой муж и я, не собираемся оставаться в Париже, здесь мы слишком на виду, это рискованно, да и жизнь здесь чересчур дорога.
– Стало быть, вы уезжаете…
– В Лион, где мое имя пользуется успехом; в Лион, возможности которого мне известны; в Лион, где я, если буду играть, смогу жить вполне прилично, не имея нужды быть актрисой нигде, кроме как на подмостках.
– Чтобы доехать до Лиона, вы истратите по десять луидоров каждый.
– Примерно так.
– Это уже двадцать луидоров.
– Да.
– Вот ваша казна уже и подтаяла. А это не все. Погодите. Как только вы приедете в Лион, вам придется месяца два ждать ангажемента, и это время надо прожить.
– Что ж! С двумя сотнями ливров в месяц, мой дорогой аббат, мы как-нибудь выкрутимся, – заявил Баньер.
– Ох, нет, госпоже Олимпии даже одной не прожить на такую сумму, – вздохнул Шанмеле. – Она и сама это подтвердит.
– Олимпия Клевская не смогла бы, – возразила молодая женщина, – но госпожа Баньер сумеет сделать многое из того, с чем не справлялась мадемуазель де Клев.
– Вот как раз этого необходимо избежать, – запротестовал Шанмеле. – Напротив, госпожа Баньер должна быть счастливее Олимпии Клевской, иначе наша общая цель не будет достигнута.
– Да, но мы ее достигнем, если оба станем играть на сцене, – сказал Баньер. – Олимпия может заработать шесть тысяч ливров, она ведь такая талантливая. Я буду зарабатывать от тысячи двухсот до тысячи пятисот. Знаю, что и это мне будут платить ради нее, но, в конце концов, заплатят же; с этой суммой мы будем счастливы, каждый сможет тратить столько, сколько получает: она – шесть тысяч ливров, я – тысячу пятьсот.
– В браке все поровну, – заметила Олимпия.
– Так вот, наперекор всем этим доводам, наперекор этой взаимной любви и обоюдной преданности я настоятельно прошу вас не возвращаться в театр.
– Тогда мы умрем с голоду, друг мой, – напомнила Олимпия, – и, позвольте вам заметить, Богу будет не так уж приятно видеть, как два существа, соединенные святыми узами, чтущие и прославляющие его самой своей любовью, которая ныне очищена браком, умирают голодной смертью, губя свою жизнь в этом мире, чтобы обеспечить себе спасение в том.
– Нет, – отвечал Шанмеле. – Именно потому, что Господу не будет приятно такое видеть, он – заметьте это, любезный друг, – всегда пошлет помощь тем, кто умирает или готовится умереть с голоду; Бог не отказывает в помощи, когда она заслужена, а часто и тогда, когда не заслужена.
– О! – с сомнением покачал головой Баньер.
– Господь очень добр, – с тем же выражением сказала Олимпия, – но ведь сказано: «Помоги себе сам, тогда и Бог тебе поможет».
– Но в конце концов, – вскричал Шанмеле, казалось, побежденный этой ссылкой на авторитет священной книги, – разве вы не возблагодарили бы Господа, если бы он послал вам средство спасти свои души, живя счастливо, бок о бок, рука в руке, как в эту минуту, и ожидая, когда Баньеру подвернется достойное место, которого не может не найти такой образованный человек, или пока не случится одно из тех событий, что изменяют лик судьбы?
– Дорогой господин де Шанмеле, – вздохнула молодая женщина, – мы и впрямь были бы счастливы, мы бы действительно возблагодарили Всевышнего, но где же такое средство? Поверьте мне: соединив, вот как сейчас, наши четыре руки и застыв в блаженной мечтательности, мы ни на шаг не приблизимся к тому обеспеченному существованию, что вы нам обещаете.
– Кто знает? – произнес Шанмеле.
– Ох, господин аббат, мне известно, что в любви Господней много сокровищ, но это сокровища не из числа бренных. Такие если где-нибудь и встречаются, то на земле. Можно найти жемчужину в устричной раковине, кошелек на большой дороге, наследство у нотариуса в ящике стола; но за пределами мира сего бедным влюбленным не найти материального пропитания, милый господин де Шанмеле, а если вы спросите Баньера, он вам скажет, что расположен прожить в материальном мире как можно дольше.
– Да уж, черт возьми, – сказал Баньер, – ведь я такой счастливый!
– Ну, хорошо, – не отставал Шанмеле, – а предположим на минуту, что всеблагой Господь, тронутый вашей доброй волей, соблаговолил бы ради вас сотворить одно из таких чудес: допустим, на своем пути вы бы наткнулись на одно из тех бренных сокровищ, которые, видимо, прельщают вас больше, чем сокровища небесного милосердия…
– Не будем предполагать ничего такого, дорогой господин де Шанмеле, – прервал его Баньер. – Ведь именно подобные предположения я некогда лелеял, причем там успех был более вероятен, чем сейчас.
– Когда же это было?
– Всякий раз, когда я брал деньги моей дорогой Олимпии и отправлялся играть. «Если бы Бог ради меня совершил чудо, – говорил я себе, – я бы выиграл целое состояние!..»
– И что же?
– Так вот, милейший аббат: я всегда проигрывал. Того, чего Господь не сделал для меня, когда я помогал себе сам, он тем более не сделает, если я стану ждать богатства, покоясь на нашем ложе, как советует господин де Лафонтен, собрат вашего деда. О, если бы сейчас у меня были все те деньги, которые я так безрассудно проиграл!..
– Вы их утратили, мой добрый друг, – сказал Шанмеле, которому, видимо, очень хотелось убедить Баньера, – потому что Бог не одобряет карточной игры.
– Однако, – рискнул возразить наш герой, – те, кто их у меня выиграл, тоже ей предавались.
– Быть может, выигрывая, они потеряли больше, чем вы. Ну же, признайте это мое допущение.
– Я был бы рад, если бы это можно было признать, – вздохнул Баньер. – Чего уж лучше? Освистанный Митри– Дат заставил меня забыть рукоплескания Ироду.
– Что ж, значит, я сделаю так, что вам придется признать это, маловер! – с улыбкой вскричал Шанмеле. – Сколько вам требуется в год на двоих, чтобы быть вполне счастливыми?
– Три тысячи шестьсот ливров, – уверенно произнесла Олимпия. – Каждый человек может прожить на такие деньги, ну, и я, как все. Мы поселимся на отшибе, не станем никого принимать, не будем путешествовать.
– Наконец-то, – сказал Баньер, влюбленно глядя на Олимпию, – мы были бы очень счастливы.
– Так вот, – продолжала Олимпия, – эта сумма у нас есть, на год хватит. В году для влюбленных те же триста шестьдесят пять дней, как и для всех прочих. Если хотите, мы можем взамен на услугу, которую вы нам оказали, пообещать вам, что триста шестьдесят пять дней будем ждать, не совершит ли Господь для нас чудо; мы подождем, но на триста шестьдесят шестой день все равно придется… Шанмеле в свою очередь покачал головой.
– Не надо так рассуждать, – сказал он. – Подобные мысли довели вас до нынешнего состояния и снова толкнут на расточительство. Это недуг, который дорого обходится и сокращает счастливую пору жизни.
– Да, разумеется, – подхватила Олимпия. – Нам бы два-три надежно обеспеченных года, потому что тогда бы…
Она примолкла, улыбаясь какой-то мысли, что пришла ей на ум.
– Я того же мнения, – согласился Баньер, – но мы имеем лишь то, что имеем. Еще раз – поймите, друг мой, что лишь театр заменит нам все эти сокровища с большой дороги, о которых мы только что говорили, причем с преимуществом постоянного дохода.
– Дайте мне слово, – потребовал Шанмеле, – что, будь у вас эти два-три обеспеченных года, вы не вернулись бы в театр.
– О, само собой разумеется, не вернулись бы! – воскликнул Баньер. – Не так ли, Олимпия?
– Так, – кивнула она. – Я знаю в Лионе один домик близ Соны; с одной стороны он выходит на бечевую дорогу; с того берега его не видно за деревьями; там не слышно иных звуков, кроме фырканья и топота лошадей, которые с трудом поднимаются по крутому береговому откосу: это гнездышко среди зелени, там все дышит свежестью и покоем. Снять этот домик мы сможем за пятьсот ливров в год. Чтобы обставить его по-королевски, хватит четвертой части той мебели, что у меня есть сейчас. Нам с Баньером останется три тысячи сто ливров в год. Мне больше не нужно тратиться на туалеты: мои кружева и платья не сносить и за десять таких жизней, как та, что будет у меня. Баньеру не потребуется ничего, кроме одного бархатного камзола для зимнего времени и двух шелковых на лето; пятьсот ливров уйдут на прачку и портного; остается две тысячи пятьсот ливров, из них тысячу двести мы бы тратили на наше пропитание и кухарку; выплатив им всем жалованье, мы будем иметь тысячу триста ливров на собственные карманные траты и непредвиденные расходы.
– О, какое блаженство! – вздохнул Баньер. – Три года такой жизни! После этого можно и умереть.
– Но мы не умрем, – сказала Олимпия.
– Значит, у вас имеются какие-то неведомые возможности, дорогая Олимпия? – спросил Баньер.
– Да, – отвечала она, – я вам о них расскажу, если у нас будут наши три обеспеченных года.
– Что ж! – заявил Шанмеле, который, кажется, только и ждал удобного момента, чтобы объясниться. – Вы мне обещаете немножко чаще помышлять о Господе?
– Мы будем вспоминать о нем всякий раз, когда подумаем о нашем счастье, – отозвалась Олимпия.
– Так вот, – продолжал Шанмеле дрожащим голосом, который выдавал все его опасения, причину всех его задержек и недомолвок, – у меня здесь, в этом кармане, кошелек и небольшой бумажник: там шесть тысяч ливров, которые я собирался раздать бедным во время своего служения. Я дал себе слово сделать это после того как наступит столь желанный для меня день, когда я впервые отслужу мессу. Ныне это свершилось. Эта месса, что стала для меня началом пути, в конце которого я обрету свое спасение, только что мною отслужена. Не хватает только бедных, или, вернее, здесь нет других бедняков, кроме вас. Не прерывайте меня. Вы поистине добрые бедняки, и я отдаю вам мои старые луидоры и эти два банковских билета.
– О! – вскричал Баньер. – Это невозможно! Немыслимо!
– Как невозможно? – вскричал и Шанмеле. – Вы понимаете, что говорите? Да вы хоть размышляли когда-нибудь о природе благодеяния, чтобы отвечать мне таким образом?
– Но с этими шестью тысячами ливров вы бы осчастливили тысячу неимущих.
– Да, осчастливил бы на миг, только и всего. Вам же я, напротив, дарю полное счастье на двухлетний срок.
– Ох, но мы не можем согласиться, – пробормотал Баньер, колеблясь и глядя на Олимпию в надежде почерпнуть в ее взгляде силы для согласия или отказа.
– Вы не примете того, что я предлагаю во имя моего служения Господу? – продолжал аббат. – Не позволите мне спасти две души?
– Господин де Шанмеле, – сказала Олимпия, – я соглашаюсь, ибо сознаю всю цену вашего подаяния. Вы правы: имея деньги, мы оба убережем нашу добродетель. Я согласна.
Глаза достойного аббата засияли от радости. Он взял руку Олимпии, вложил в нее кошелек и бумажник и поцеловал эту ручку с галантным видом, который при всех его благочестивых порывах напомнил, что еще недавно он был светским человеком.
Олимпия улыбнулась.
– А теперь, – объявила она, – я должна воздать вам в полной мере, наш досточтимый друг; мне следует открыть вам подлинное значение вашего великодушия, его истинный смысл. Без ваших шести тысяч ливров, дорогой мой господин де Шанмеле, мы бы уехали счастливыми, но без видов на будущее. Теперь же ничто не будет мешать нашему счастью. С тремя тысячами шестьюстами ливрами мы с трудом протянули бы год; с девятью тысячами шестьюстами мы проживем, по меньшей мере, года четыре, а в нашем возрасте четыре года – целая вечность. Я вам этого не говорила, Баньер, но вы, может быть, об этом знали: я происхожу из благородной семьи, так что, как бы я ни была обделена наследством, есть еще двое-трое старых дядюшек, каждый их которых способен дать мне по сотне тысяч ливров в тот день, когда я приду об руку с мужем, с ребенком на руках и назову его «дорогим дядюшкой». Что ж! Продержаться три года, ничего у них не прося, – это немало, а на четвертый год мы пустимся в это паломничество. Так вот, было бы поистине прискорбно, если бы среди этих двух-трех дядюшек не нашлось ни одного, кто сделал бы для меня то же, что было сделано для блудного сына: не отворил бы мне дверей, не заколол жирного тельца.
– Значит, я был прав! – воскликнул Шанмеле. – Стало быть, я удачно поместил эти деньги, которые мне самому совершенно не нужны.
– Но теперь, дорогой аббат, – вмешался Баньер, – запомните, что если мы соглашаемся взять ваши шесть тысяч ливров, то лишь в качестве займа, так же, как те ваши десять экю.
– Священники, быть может, раздают подаяние реже чем следовало бы, мой милый Баньер, но давать в долг им никогда не подобает.
– Но, – осмелилась сказать Олимпия, – у вас ведь тоже есть семья.
– Отнюдь, да я и не желал бы иметь иной семьи, кроме Христовой.
– А все же позвольте сказать вам одну вещь, – робко, но и вкрадчиво, как змий, шепнул ему Баньер. – По-моему, вы породнились с дурной ветвью семьи Христовой. Иезуиты привиты на католический, но не слишком христианский побег.
– Ну-ну, не говорите о них дурного, – с улыбкой упрекнул его Шанмеле. – Ведь, не будь их, вы бы со мной не познакомились, а не будь меня, вам бы не видать ни роли Ирода а Авиньоне, ни роли Митридата в Париже.
– Ну, за нашим благодетелем всегда будет последнее слово, – засмеялась Олимпия. – Однако уже поздно или, точнее, рано. Мы его обобрали до нитки: теперь, когда ему нечего больше нам дать, поступим как светские прихлебатели или вольные птички: хлеб раскрошен и склеван, упорхнем же.
– Ступайте, – отвечал Шанмеле, – да не забудьте священного брачного напутствия.
– Какого? – спросила Олимпия.
– Crescite et multiplicemini note 56Note56
Плодитесь и размножайтесь (лат.)
[Закрыть].
– А что это означает?
– Это церковная латынь, сударыня, а объяснить, в чем ее смысл, вам может только супруг.
И тут друзья, такие добрые, такие радостные, сердечно обнялись. Баньер во что бы то ни стало хотел проводить Шанмеле, но тот отказался: его ждала постель в доме викария церкви Нотр– Дам-де-Лорет.
И, напротив, он сам проводил своих подопечных до фиакра, который повез их к дому Олимпии.
А затем, умиротворенный мыслью о добром деле, так успешно завершенном, он вернулся в дом священника и уснул сном праведника.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































