Текст книги "Люблю"
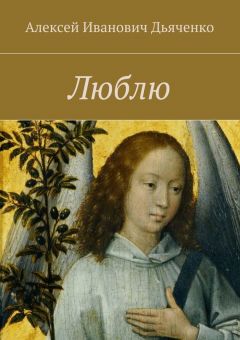
Автор книги: Алексей Дьяченко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц)
– Не может, – согласился Фёдор, сообразив, наконец, что нельзя говорить так, как он говорил. Тем более, что сам так и не думал.
– Это что, всё на самом деле было? – Немного успокоившись и вытерев платком слёзы, спросила Анна.
– Нет. Это плохой рассказ, плод больного воображения. Вот этой не умной головой от страха выдумал, – сказал Фёдор, постучав по своей голове костяшками согнутых пальцев. – Не хотел напугать. Не хотел, что бы вы плакали. Поверьте, что вы первая и последняя, кому я этот ужас… Его не будет. Его уже нет. Забудьте, как неприятный сон!
– Забуду, – согласилась Анна. – Только скажите. Это вы о себе? Ведь вы тоже писатель?
– Нет. Я не писатель. Скажем так, не считаю себя за такового. Это слишком высокое звание на русской земле. Думаю, что только законченные идиоты могут позволить себе так называться. Я, конечно, тоже идиот, большой, законченный, но всего лишь навсего пробующий писать. Очень надеюсь, что до конца жизни таковым и останусь. Хотя, возможно, когда-нибудь, быть может, это произойдёт гораздо раньше, чем сам теперь могу предположить, я потеряю стыд, честь, совесть, память безвозвратно оставит меня, забуду, что есть Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов, и буду тоже называть себя писателем и требовать от всех, чтобы и они меня именно так называли. А пока вы смело можете называть меня идиотом, но прошу, не называйте писателем. А, что касается рассказа… Нет, это не обо мне, и единственное совпадение в том, что меня, так же не по своей воле вынуждают ехать к печнику, из-за чего собственно, рассказ и сочинился. Хотя, надо сознаться, что положение бабушкиного внука очень схоже с моим. Моя мама тоже до конца не понимает, как можно в обход Литературного института о чём-то писать, и до сих пор не простила мне, что я бросил завод. И действительно, если смотреть на всё это посторонним холодным взглядом, то я кругом виноват. Тунеядец, иждивенец, и прочее, прочее. Но, тут у меня лично даже выбора не было. Деньги я на заводе зарабатывал, мама их категорически не брала. «Ты взрослый человек, они все тебе пригодятся». А то, что я их стеснялся, этих денег, считал их не своими, это никого не волновало. Наступил такой период в моей жизни, когда передо мной открылись две дороги – мучиться на постылой работе, получать деньги, которые заработанными не считаешь, пропивать их, или же, прекращая заниматься не своим делом, уходить с завода и делать то, что нравится, в ущерб общественному мнению. Выбрал вторую. Не обошлось без сложностей. Матушкины подруги, узнав, что я бросил завод и сел за письменный стол, советовали ей сдать меня на время в сумасшедший дом, чтобы мог я там подлечиться и снова вернуться на завод. Поверьте, советовали, чистосердечно желая добра и ей и мне. И я их всех знаю, все они, как и мама моя, не злые, а напротив – очень добрые, порядочные люди. Люди своего времени, своих представлений о жизни. Когда же я маме объяснил, что такое их добро является злом для меня, она мне не поверила, ведь за ней стояла вся её прожитая жизнь, а подругам своим стала лгать, говорить, что я и без сумасшедшего дома одумался, пришёл в себя и вернулся на старое место. Встречаюсь с её подругами на улице, и они видят меня трезвым, чего не было, когда работал в цеху. В их головы закрадывается сомнение, и они спрашивают, действительно ли я вернулся на завод? Я, не желая, да и не умея обманывать, говорю, не вернулся, сижу дома и пишу. Они звонят маме: «Как так?». А она своё: «Он работает на старом месте». Вот вам и ещё один рассказ. Мне легче так, ей эдак. Но, только не подумайте, Анна, что я жалуюсь. Мне жаловаться грех. Я вот ругал коммунальные квартиры и соседей, но вот сижу же по ночам на кухне, жгу свет, и никто за это не бранит. Хотя, быть может, не ругают оттого, что за свет платим мы, а клеенку, которая способна выгорать, соседка на столе не держит. Да, и стол свой на кухню не выставляет. С соседкой живём мы мирно. Мусор мы ей в чайник не кидаем, и не потому, что чайника у неё нет, и сырую воду она предпочитает кипяченой, а потому, что всё это смешно и недостойно человека. Впрочем, и она не кидает, потому что с момента вселения ничего не мела и не мыла. Так что условия для работы у меня самые благоприятные. Временами, правда, я дуюсь на родных, надуваю щёки, но это больше от того, что сам не совершенен и глуп. Условия для работы самые превосходные. Это я, не кривя душой, говорю.
– Вы всё-таки поедете к печнику? – Вдруг спросила Анна.
– Да. Два-три дня меня в городе не будет. Не бойтесь за меня, ничего со мной не случится.
– Правда?
– Правда. Я, когда буду ложиться спать, глаза закрывать не буду. Стану за печником следить на всякий случай, что бы вы здесь совершенно были спокойны. Да?
– Да, – рассеяно сказала Анна и, что-то припомнив, добавила. – Как вы страшно всё это рассказали. Так перед глазами печник и стоит. Пьяный, огромный, с блестящим топором в руке. Не ездите к нему, пожалуйста. А, то… – не договорив, она снова расплакалась.
– Ну, вот, – добродушно сказал Фёдор и рассмеялся. – Я же пообещал. Всё будет хорошо. Не верите?
Анна издала губами писклявый звук, который должен был означать слово «верю».
– Вот. Я же вас не обманывал?
– Нет, – произнесла Анна более отчётливо.
– И на этот раз не обману. Успокойтесь. Никуда по возможности отсюда не уходите. В любом случае дождитесь меня. А ещё я вам оставлю свой адрес и телефон.
Анна и Фёдор, решили вдруг прогуляться. Вышли на улицу, стояла тихая ночь.
– Посмотрите! – Восторженно сказала Анна, показывая на небо. – Какое светлое!
Фёдор поднял глаза и согласился с Анной. Небо действительно было необычным. Светло-голубое, не ночное. С множеством звёзд и без единого облачка.
Не сговариваясь, они взялись за руки и тихо пошли по безлюдной московской улице на восток, навстречу новому дню.
* * *
Придя в четверг, восемнадцатого, вместе с Фёдором к Черногузу, Степан и всю пятницу провёл у Корнея Кондратьевича.
Двадцатого, прямо от дяди, он собирался ехать в Цихисдзири, а оттуда в Батуми. Степан любил Кавказ, Черноморское побережье.
В четверг, когда Фёдор, очнувшись в одиночестве за столом, вошёл в комнату с роялем и увидел Черногуза плачущим, он нисколько не сомневался в том, что Корнея Кондратьевича растрогала музыка. Но он ошибся. Черногуз плакал не от звуков, издаваемых роялем, а от рассказа племянника.
Степан рассказал дяде о том, как после поминок Петра Петровича, поехал с Галиной Макеевой, на такси отвозить домой её институтскую подругу. Как та подруга, боясь темноты в подъезде, попросила проводить её до квартиры. Галя осталась ждать в такси.
Выйдя из подъезда через пять минут, совершенно забыв о Макеевой, он расплатился с таксистом и сказал: «Езжай, шеф, я остаюсь».
И только когда машина с Галиной уехала, Степан вспомнил, что был не один. Поймав тут же частника, поехал следом, и даже обогнав такси, был первым в её дворе, но подойти к ней в тот день, а точнее сказать, в ту ночь, не решился. Не хватило мужества объясниться и на следующий день.
Смелости хватило только на то, чтобы рассказать обо всём случившемся дяде, что и вызвало у Корнея Кондратьевича обильные и крупные слёзы. Но, девятнадцатого, в пятницу, Степан всё же подстерёг сестру Фёдора, в своём бывшем дворе. Встретив её у подъезда и коротко поговорив с ней, понял, что это последний их разговор.
Вечером, крепко выпив вдвоём с дядей в знакомом читателю кабинете, на Козловке, он рассказывал Корнею Кондратьевичу об этой встрече:
– Она сказала: «Ты мне нравился, и я думала, что со временем узнаю тебя лучше, и смогу полюбить. Но, узнав тебя лучше, я поняла, что любить тебя нельзя. Поэтому прощай». Сосед у неё объявился, молодой парень, инвалид в коляске. Но, тут дело даже не в нём. Не в том, что появился новый объект внимания, который, если бы даже и захотел, не смог бы грешить. Дело не в том, что она так же, как он, чиста, а я грязен. Дело в том, дядя Корней, что сам я, как ни хотел бы любить её и быть с ней рядом, не могу. Не могу! А отсюда и все эти мои выходки с подругами её и прочее.
На самом же деле, разговор у Степана с Галиной был не таким лирическим, а скорее резким. Галина сразу, как только он к ней подошёл, дала понять, что между ними всё кончено. В качестве доказательства поведала о молодом и красивом соседе и о её якобы чувстве к нему.
– Зачем ты хочешь меня обмануть? – Говорил, Степан. – Я же знаю от Фёдора, что он инвалид. У него, считай, ног нет. Он не человек.
– Ног нет, да совесть есть, – спокойно отвечала Галина, внутренне радуясь, что задела Степана и заставила поверить в свою выдумку.
– Красиво рассуждаешь. Значит, если есть совесть, то есть уже и человек. Более ничего и не надо?
– А, по-твоему, человек только тот, у кого есть ноги?
Тут Степан совершенно перестал следить за собой и стал позволять себе грубости.
– Галь, а ты, оказывается, умная. Ты кстати, знаешь, что ум для женщины – её недостаток?
– Если ты так говоришь, – заражаясь непочтением, отвечала Галина, – то, наверное, осведомлен и о том, что отсутствие ума у мужчины тоже достоинством никогда не считалось. И ещё знай, что умного мужчину женский ум никогда не раздражает.
– Благодари Бога, что ты женщина, – скрипя зубами, сказал Степан.
– Ты что, испугался, что я вместе с умом поставлю под сомнение твою силу и смелость? Не бойся. Я знаю, что для того, что бы ударить женщину, хватит у тебя и силы и смелости. Тем более меня. Ты знаешь, сдачи я давать не умею.
– Я на этом с тобой не прощаюсь, – стал грозить Степан, собираясь уходить, боясь, что на самом деле может не сдержаться и ударить.
– А я прощаюсь, – сказала Галина. – Спасибо за всё, что было. Прости мою грубость и постарайся понять.
Растроганный рассказами племянника, Черногуз открыл ему и свою тайну:
– Позавчарась, ты помнишь? Тож не курва, Стэфан, була. Тож була моя жинка. Обженився я, а спытай зачем, я и сам не знаю. За Хвилиппом погнався. В него три жинки було, а в мени ни едной. Дай, думаю, хочь на старости лет семейную жизнь спытаю. Но, ты худо не думай. Хочь я древний, а вона юная, то пустяк. Вона любит меня, боится и обмануть не сможет.
Выпив ещё по стаканчику с дядей, в Степане вдруг проснулся зверь. Он стал просить у Корнея Кондратьича револьвер для того, что бы пойти застрелить инвалида, разлучившего его с Галиной. Когда тот ему револьвера не дал, а вместо этого подробно расспросил, где инвалид живёт, Степан стал обзывать дядю трепачом и колоть ему глаза невыполненными обещаниями относительно Богдана.
На Корнея Кондратьевича всё это мало действовало, желанного Степану скандала не получилось. Тогда Удовиченко взял чемодан и сказал, что едет ночевать домой. Вот тут Корней Кондратьич, припомнив что-то услышанное от Степана, встрепенулся.
– Не надо домой, – сказал он. – Не хочешь в мени ночевать, на ключи. То пустая квартира на Кутузовском. А завтра езжай к морю. Купайся, отдыхай и не за шо не переживай. Знай, шо дядя Корней тебя любит. Миколу Шафтина ты часом не знаешь? Тем лучше. Ну, когда уж собрался, так ступай.
На таксомоторе добравшись до дома на Кутузовском и открыв полученным от дяди ключом дверь, Степан увидел перед собой Милену. Великолепная, блестящая, полная жизненных сил и желаний, одетая в вечернее дорогое платье, она была похожа на королеву. Он видел её в городе и прежде, ещё до встречи у дяди, видел два раза, и оба раза зимой. В первый раз она попалась ему на глаза в длинной шубе из серебристой лисы, а в другой раз – в такой же длинной шубе из норки. И оба раза видел садящейся в машину. Не только он – все тогда на неё смотрели. Она была в блеске и машины были хороши, какие-то заморские, очень дорогие.
«Но отчего же в душе к ней так ничего и нет? – Думал Степан, стоя в дверях и глядя на Милену. – Как же это так быстро всё влеченье прошло. То ли дело Марина батьковна. Почему бы мне не извиниться? Не вернуться? В сущности, сам во всём не прав, во всём виноват. А ведь из-за этого-то я на неё и зол. И что это за гордость такая непонятная, ненужная. И откуда она только берётся? Заведётся она и человек мучается. Живёт с гордостью вместо того, что бы жить с супругой».
– Ну, входи же. Что ты не входишь? – Сказала Милена, волнуясь.
Она отошла, уступая дорогу.
– Так ты знала, что я сюда приеду? – Спросил Степан, проходя.
– Я не только знала, но и сама просила Корнея Кондратьевича о возможности встретиться с тобой наедине. Ты, думаешь, чья это квартира? Моя.
– А, зачем ты дядьку об этом просила? – Удивился Степан.
– Ну, как? – Смутилась Милена. – Я влюбилась. Зачем женщину тянет к мужчине, а мужчину к женщине? Этого не объяснишь. Так Бог устроил.
– Ты проститутка? – Поинтересовался Степан.
– Нет, – закрывая лицо руками, ответила Милена. – Не обижай меня. Если хочешь знать, то я ещё девственница.
– Ты так об этом запросто. Так нельзя. Так говорить не хорошо.
– Почему? Я же говорю правду. Что неприличного в том, что я тебя люблю и в том, что я девственница? Что берегла себя, зная, зачем и зная для кого?
– А, действительно. Зачем? И, для кого?
– Для любви. Для любимого, – убеждённо сказала Милена и, не выдержав тона отчуждённости, заговорила, еле сдерживая слёзы. – Не говори со мной так. Мне неприятно. Я не обманываю тебя. Почему ты мне не веришь? Помнишь, Корней Кондратьевич спрашивал меня: «Нравится тебе Степан?». Я сказала – нравится. Сказала правду. Хоть и знала, что ему это будет неприятно. Сказала при тебе. И я видела в глазах твоих радость, ответное чувство. А, сегодня ты другой, не похожий на себя, с чемоданом. Там что?
– Вещи, – смягчаясь, ответил Степан. – Я завтра поездом на Кавказ ехать собрался, а сегодня… Сегодня хотел спокойно поспать, выспаться. Скажи, если останусь, ты мне не будешь мешать? То есть я хотел сказать, тебе не помешаю, если переночую?
– Нет, дорогой. Не помешаешь.
– Милена, послушай. Не хорошо так говорить. Ты такая вся… И такие речи. С чего это ты дорогим меня стала звать? Я что, жених тебе?
– А, разве нет?
– Нет.
– Не сердись. Только не сердись. – Заволновалась Милена. – Я всё буду говорить и делать, как ты захочешь. Что тебе нравится я буду говорить, а что не нравится не буду. Я богата, здорова, у нас будет много красивых детей. Мы их вместе будем наряжать, воспитывать. Тебя они будут называть папой, а меня мамой. Видишь, я уже всё обдумала. И ты не смотри на то, что я так бесстрастно обо всём говорю. Я страстная, даже очень. Я, хоть и девственница, но я всё знаю, всё умею.
Степан приставил к её губам палец, прося тишины, посмотрел, щурясь, на лампу в плафоне, под которой стоял и, поставив на пол чемодан, который всё это время держал в руке, прошёл на кухню, где не было такого яркого света, как в коридоре. Милена, последовав за ним, обошла его, села на край мягкого, обтянутого кожей табурета, и стала смотреть на Степана, как бы приглашая: «И ты рядом садись».
– Поеду к себе, – сказал Степан, глядя на Милену.
– Корней Кондратьевич домой тебя велели не пускать, – робко возразила она.
– Я поеду к себе домой! – Повернувшись к Милене спиной, повторил Степан и, не услышав возражения, медленно направился к выходу. Покорившаяся хозяйка, вскочила с табурета и побежала его провожать.
– А как же чемодан? – Спросила она у гостя, когда тот уже вышел из квартиры. Степан вместо ответа махнул рукой. Поймав в его взгляде какое-то страшное и непонятное для себя решение, Милена испугалась и бессвязно заговорила:
– Куда же? Как же? А я?
Степан остановился, взглянул на неё, и уже близок был к тому, чтобы отменить решение, остаться, как вдруг на лестничной площадке появилось новое лицо. Молодая, совсем юная девушка, что называется первоцвет, одарённая броской привлекательностью.
Остановившись прямо перед прощающимися, она стала громко смеяться и хлопать в ладоши, стараясь привлечь к себе внимание. Посмотрев на добивающуюся внимания и догадавшись о мотивах такого её поведения, Милена нервным голосом сказала:
– Познакомься, Степан, моя двоюродная сестра Лариса.
– Не Лариса, а Лара, – капризно поправила Милену сестра, и, картинно улыбнувшись, сказала. – Очень приятно познакомиться.
Бесстыдно уставясь на Степана, пожирая его глазами, Лариса стала рассказывать о себе.
– Я этажом выше живу, а сейчас к другу с ночёвкой еду.
– Не рано ли с ночёвками? – Попробовала пристыдить сестру Милена.
– Не рано, – бойко ответила Лариса, не отрывая глаз от Степана, и тут же предложила свои услуги. – Хотите, подвезу? Вы ведь домой, а я на машине.
– Да. То есть, нет. Спасибо. Действительно еду домой, но вот только подвозить не надо. Как-нибудь доберусь, – запротивился Степан.
– Почему? Я с радостью. У меня машина хорошая, – упрашивала Лариса.
Решив, что уважительной причины для отказа не придумать, Степан согласился и мельком, в качестве прощания, взглянув ещё раз на Милену, стал спускаться по лестнице.
Идущая за ним следом Лариса, повернувшись к сестре, показала язык. Милена, нахмурив брови, погрозила пальцем. Кончилось всё это тем, что Лариса рассмеялась. Погружённый в свои мысли Степан, её смеха не услышал.
Москва спала. В тихом дворике листья шептались о том, как сладок ночной воздух. Бродячий пёс, войдя во двор и увидев кошку, ничего не смог придумать лучше, как взять да и погнаться за ней. Кошка, убегая от преследователя, спряталась под машину, стоявшую у подъезда, а затем, улучив момент, перебежала в кусты, где и скрылась. Пёс же, упустив из виду последний её манёвр, долго ещё бегал вокруг автомобиля. Но, вспомнив о неотложных собачьих делах, чихнул, и тоже исчез.
Машина, стоявшая у подъезда, под которой скрывалась кошка, и вокруг которой бегал пёс, принадлежала Ларисе, а двор, дом и сам подъезд, у которого стояла машина, Степану. Они всё ещё сидели в машине. Лариса курила тонкие длинные сигареты и без умолку говорила, временами поглядывая на свою не по годам развитую, выпиравшую из майки грудь, удивляясь, что собеседник её не замечает. А тот, к кому были обращены эти страстные речи, был погружён в глубокое раздумье.
«Какая странная штука жизнь, – думал Степан. – Милена гордится тем, что до зрелых лет сохранила девственность, сестра её тем, что с измальства потеряла. Все чем-нибудь, да горды. А, как было бы хорошо, когда бы стыдились. Были бы хороши. А может, и не были бы хороши. Так хоть счастливы в своей гордости до поры до времени. Широка жизнь, дорог много, а как свою отыскать? Будешь всю жизнь плутать, мучиться, так и не сыщешь».
Степан вспомнил слепого, жившего в их дворе, и его карманные часы без стекла. Когда тому нужно было узнать время, а человек он был ужасно занятой, ему зачем-то постоянно нужно было знать время, он брал в руки часы, открывал крышку, и поглаживая пальцами стрелки, на ощупь определяя, который час.
«И жил счастливо, все во дворе ему завидовали. Ездил в библиотеку для слепых, читал толстенные книги. Знал наизусть Онегина, умел свистеть соловьём, водил к себе красивых женщин. И почему он, слепой, мог быть счастливым, а я не могу? Я всю жизнь торопился, старался успеть, а получилось так, что всё равно опоздал. Опоздал в чём-то главном, вроде всегда и во всём был первым, а всё равно опоздал. Вон Фёдор, и не спешил, и не торопился, а успел. И на заводе работал, откуда, казалось бы, и вырваться нельзя (завод в понимании Степана был равен тюрьме строгого режима) а он вот ушёл. Сумел писать, покой душевный обрёл и образ свой. И не только я, всякий, кто посмотрит, увидит, что не ломается, не притворяется человек, не заботится тем, что бы морочить других и себя. Живёт себе, именно живёт, спокоен и даже счастлив. Какая-то тихая радость поселилась в нём. Почему не во мне? Нет, пусть и в нём, но пусть и во мне тоже. Ан, нет. А почему?».
Очнувшись от дум, Степан понял, что всё ещё находится в салоне автомобиля. Незаметно посмотрев на часы, высчитал, что с тех пор, как въехали во двор и остановились, прошло около часа. Вспомнил, как всё это время Лариса неустанно что-то ему говорила, с явно выраженной целью обольстить. Он поморщился. Придя окончательно в себя, услышал мелодию, что прежде маячила еле уловимо, соперничая с обольстительными речами. Это была лёгкая, лирическая музыка, смешанная с чувственным французским шёпотом и таким же французским прерывистым дыханием, грубо обозначающим любовную страсть. Шёпот временами заглушался гавайской гитарой, а временами, оттесняя гитару на второй план, шёпот снова брал своё. Эта музыка была заведена всё для тех же, особо нескрываемых целей. Посмотрев на Ларису, сидевшую почти вплотную, на огонёк её сигареты, Степан подумал: «Почему я не ухожу? Неужели боюсь?». Лариса тем временем, почувствовав оживление происшедшее с собеседником, как боец перед атакой, затянувшись два раза подряд, затушила сигарету и, выпуская дым из носа и рта, повела свою длинную речь к финалу.
– Я бы массаж сделала, кофе заварила, петушком бы ходил, – говорила она и вдруг, повысив голос, спросила. – Любишь по-турецки?
– Кофе? Нет. Я чай люблю, – ответил Степан, соображая на ходу.
Обрадовавшись, что с ней заговорили, Лариса чуть было не запела от радости. Перестав ходить вокруг да около и решив, что уже начались те самые, высокие отношения, в которых всякие обходные пути только вредят, заговорила открыто:
– И долго мы будем здесь томится? Давно бы уже заварила тебе твой чай. Такой, знаешь, крепкий-крепкий, что весь сон сразу уйдёт!
Сказав последние слова, она лукаво прищурила глазки и улыбнулась так же картинно, как при знакомстве. Что, по её мнению, должно было окончательно очаровать молчуна. Степану стало невыносимо противно.
– Спасибо. Прости. Задержал, – кидал он слова, как кирпичи, выходя из машины. – Жених твой, должно быть, заждался.
Лариса замолчала и, по-детски надув губы, глядя в спину уходящему, стала разбираться в том, что было сказано не так и от чего получился прокол.
Войдя к себе в квартиру, Степан не стал зажигать свет. Пройдя на кухню, посмотрел в окно. Машина стояла у подъезда.
– Припрётся. Придумает предлог и позвонит, – сделал вывод он из увиденного.
Из неплотно закрытого крана громко капала вода. Подойдя к раковине, он завернул кран. Постоял с минуту в раздумье, а затем открыл холодную воду, склонился, и, подставив под струю ладонь, стал пить с руки. Вдруг ему показалось, что у входной двери послышались чьи-то шаги. Поспешно завернув кран, он прошёл в коридор и, подойдя к двери, прислушался. За дверью было тихо.
– Не кстати-то как, – сказал он вслух и прошёл в большую комнату.
Большая комната по праву называлась большой. Длина, ширина, высота – всё отвечало данному статусу. Обстановка в ней была аристократическая с уклоном в аскетизм. Кроме стола, растянувшегося во всю длину комнаты и двух дюжин стульев с высокими резными спинками, его окружавшими, в ней ничего не было. И стол, и стулья при ярком свете луны были хорошо видны, как и то, что люстра была разбита и лежит на полу, а на её месте, на добротном, в палец толщиной, железном крюке, висит кривая верёвочная петля.
Войдя в комнату, Степан остановился, поднял голову и посмотрел на неё. Взор был спокоен. Он смотрел на петлю так, как смотрел бы на человека, с которым предстоит сделать одно общее дело. Насмотревшись, принялся прохаживаться вокруг стола, погрузившись в глубокую задумчивость. Под подошвами хрустели осколки разбитой люстры, задеваемые при неосторожной ходьбе стулья огрызались неприятным визгом. Всё это тянулось и, казалось, не будет ходьбе конца, когда, наконец, один стул, вышел из строя и преградив дорогу, заставил Степана остановиться.
«Стало быть, время», – решил Степан, ставя стул на стол.
Вытерев со лба вдруг выступивший пот, он вышел на кухню. Забыв про осторожность, включил свет, подошёл к кухонному столику и, оторвав от лежащей на нём газеты клочок, стал что-то писать валявшимся подле простым карандашом. Желая перечесть написанное, взял клочок в свободную от карандаша руку и поднёс его близко к глазам, до конца не привыкшим к свету и от этого щурившимся. Не удовлетворившись написанным, он, скомкав, бросил клочок на пол и, не забыв выключить свет, вернулся в комнату.
Энергично взобравшись на стол, затем на стул, Степан выпрямился в полный рост и сунул голову в петлю. Простояв с головою в петле полминуты, он так же энергично высвободил голову, слез со стула и побежал на кухню попить воды. Напившись и взяв с собою до краёв наполненный стакан, он вернулся к верёвке. Закрыв форточку, чтобы не слышать шороха листьев и отпив из принесённого стакана половину, он снова залез в петлю. Не успела вода в стакане успокоиться, как случилось нечто непредвиденное, ноги судорожно заходили ходуном, рискуя опрокинуть стул раньше времени. Руки, испугавшись, что это произойдёт, в ту же секунду схватились за верёвку над головой. Но всё обошлось благополучно, судорога исчезла так же внезапно, как и появились. Вслед за этим Степан почувствовал, как по спине и по груди, как бы сами собой, побежали многочисленные струйки пота. Лицо вдруг в одно мгновение вспотело настолько, что с бровей, подбородка и кончика носа стали падать крупные капли, а лоб и щёки, казалось, покрылись толстым слоем масла.
Он часто задышал и вдруг, так же неожиданно, как дрожь в ногах, а за ней обильный пот, обнаружилась внезапная нехватка воздуха. С каждой секундой ощущалась всё сильней, и это несмотря на то, что он всеми силами старался захватить его как можно больше, загоняя воздух в лёгкие резкими вдохами. Дыхание сделалось прерывистым, сбивалось кашлем и походило на спазмы. Тошнота, так же неожиданно появившаяся в верхней части живота, подкатывала комом к горлу. Рвота казалась неизбежной и должна была наступить вот-вот. Веки стали свинцовыми и смежились с такой силой, что было ясно, больше не разомкнутся, глаза словно провалились в глубокую, тёмную, горячую яму. Ноги онемели, стали ватными и совершенно не ощущались, было непонятно на чём он стоит. Руки, обессилев, безвольно пали. Шея, единственно сохранившая чувствительность, ощущала на себе что-то прочное и холодное.
– Верёвка, – подсказал чей-то голос со стороны.
– Верёвка, – повторил Степан мысленно, шевеля при этом сухими губами.
– Это просто. За тобой только шаг, – снова сказал голос со стороны. – Всё остальное мы сделаем сами.
– Кто вы? – Спросили его губы.
Голос не ответил, а спокойно и твёрдо повторял своё:
– Шагай, мы ждём, – и, почувствовав покорство, стал даже приказывать. – Ну, же! Шаго-ом марш!
Губы Степана задрожали, и, прилипая одна к другой, как два безжизненных осенних листа, повинуясь, ответили:
– Я скоро, сейчас, подождите.
И действительно, словно получив приказ, ноги из ватных превратились в каменные и, не сгибаясь, поползли к краю стула.
– Сейчас, подождите, я скоро, – шептали губы, с болью соприкасаясь, и этим шёпотом двигая ноги.
На каждое слово делался шаг, даже не шаг, шажок. Делался, делался, делался. Всё ближе и ближе пододвигая тело к краю. И вдруг, в бесчувственную голову Степана молотком ударила и молоком разлилась какая-то удивительно красивая, до боли знакомая музыка. Она звучала громко, отчётливо, с той особенной обострённой ясностью, с которой он никогда ничего не слышал. Это показалось ему странным, и помешало тотчас вспомнить и определить, откуда она. А вспомнить почему-то было необходимо, и он стал напряжённо вспоминать и думать о том, что это могла быть за музыка, и где он прежде мог её слышать. Но вместо мыслей в голове, как на экране, он увидел слепящую взор синеву, и было непонятно, что это? Море ли это, небо, цветущее поле, или быть может всё вместе взятое, слившееся в его воображении и представшее внутреннему взору в единстве своём. Вдруг он вздрогнул, озноб молнией прошиб его тело. Всё исчезло.
«Так вот почему мне нужно было вспомнить эту музыку», – подумал Степан, легко раскрывая глаза.
Он вспомнил. Музыкой было не что иное, как приветствие, придуманное болельщиками для поддержки своей команды, а исполнялось оно в данный момент посредством многократных нажатий на его звонок. А иначе говоря, кто-то давно домогался, чтобы его впустили.
– А кто же, как не Лариса? Она, да с ночевкой, – сказал голос со стороны, как бы продолжая ещё не оформившуюся в голове Степана мысль.
– Дзынь-дзынь… дзынь-дзынь-дзынь… дзынь-дзынь-дзынь-дзынь… дзынь-дзынь! – В очередной раз зазвенело в его ушах и, не успев закончиться, тут же повторилось.
– Она, – подтвердил голос со стороны и, забравшись Степану в голову, загудел в ней колоколом, – Она! На! На!
До боли в горле захотелось пить. На подоконнике, в стакане, заманчиво блестела вода. Ослабив петелечку и высунув из неё голову, Степан осторожно погладил шею и, совершенно убедившись в том, что он свободен от петли, стал слезать со стула. Для чего присел, снял сначала одну ногу и хотел её поставить на стол, что бы оперевшись на неё, снять затем со стула вторую. Но, сняв первую, понял, что оставшаяся нетвёрдо стоит и попытался снятую ногу вернуть на место, из-за чего только окончательно потерял равновесие и всем телом, вместе с непослушными ногами, кубарем полетел вниз, ударившись головой и об стол и об пол.
Сняв с подоконника дрожащими руками стакан и глотая, ставшую сладкой, воду, он с удивлением заметил, что сидит на усыпанном осколками полу, и впервые видит, как это красиво. В лунном свете осколки блестели и походили на звёзды, горстями рассыпанные по небосклону.
– Сейчас, сейчас, – думал Степан про себя, стуча зубами о стеклянную стенку стакана, слушая неумолкающие звонки. – Ты у меня заваришь крепкий.
Всклокоченный, злой, оглушённый звонками, готовый с порога гнать взашей, Степан распахнул входную дверь и вместо предполагаемой Ларисы, увидел нечто неожиданное. Композицию, состоящую из трёх самостоятельных фигур. Центральная, самая несовершенная, похожая на живого человека, увидев его, стала тыкать ему в грудь пальцем и громко смеяться. Перестав тыкать и не переставая смеяться, она взяла в руки две другие фигуры, напоминавшие авоськи с бутылками пива и пошла прямо на него. Степан посторонился.
– А я у генерала сидел! – Донеслось с кухни. – Пришлось с ним водочку выпить. Мы слышали, как ты пришёл, да неудобно было сразу же из-за стола бежать. Ты только не грусти. – Он снова засмеялся. – Я сейчас тебе стол накрою, не хуже генеральского!
С этими словами пришедший открыл холодильник и стал в него ставить бутылки из авосек.
– А я поначалу думал – ехать к тебе или не ехать? Вон тут у тебя, как раз по теме, селёдочка. Сейчас запируем!
Он снова засмеялся и, достав из холодильника круглую, плоскую, жестяную банку, приладил к ней нож и стал открывать.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































