Текст книги "Люблю"
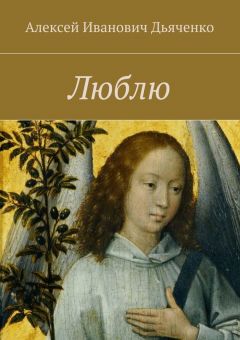
Автор книги: Алексей Дьяченко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 31 страниц)
– Это, что такое? А? Что, это такое?
Соседей в квартире действительно, было много и казалось, им не сиделось в комнатах, всех тянуло в коридор и на кухню. С кухни доносился звон кастрюль, женское и мужское многоголосье, по коридору то и дело сновали люди. В тот момент, когда Геннадий отпирал свою комнатную дверь, мимо стоящего в ожидании Фёдора прошёлся мужчина лет сорока, одетый в одни трусы.
– Видал? – Зашептал Леденцов, кивая на него головой. – Кандидат наук. Преподаёт в Университете. Жену с грудным ребёнком на улицу выгнал. Живёт с соседкой, она тоже уже на сносях, вот-вот родить должна. По образованию философ, защитил диссертацию на тему: «Социальная справедливость».
Из соседней приоткрытой двери, через щель, на Фёдора смотрел чей-то любопытный, зелёный глаз.
– Входи, – сказал Леденцов, отперев, наконец, непослушный замок и открыв высокую белую дверь, первую в коридоре.
Фёдор вошёл и увидел просторную, светлую комнату в три окна.
– Да. Вот, ещё одна, тоже наша, – сказал Геннадий, пройдясь по комнате и толкнув дверь в стене. – Тут у нас спальня.
– И что, вам сутки здесь было тесно?
– Подожди, – стал оправдываться Леденцов. – Дело даже не в площади. Понимаешь, две хозяйки в доме. Оно уже зрело. Ты вспомни, как Лилька с ней…
– Нормально.
– Ну, да, нормально. Это ты думаешь, что нормально. Нормально мы с тобой можем жить или другие мужики, а бабы – нет. Бабы не могут. У них постоянная война идёт, скрытая. А тут хороший предлог, переезд. Да, ну, – он махнул рукой, как бы не желая и говорить об этом.
Этот жест, мимика так были схожи с жестом и мимикой хозяина поросят, который в автобусе отмахнулся от женщины, что Фёдор невольно подумал о том, что по своему человеческому типу Геннадий похож на того старичка и в преклонные годы станет точь– в-точь таким, возможно, даже будет носить летом ушанку, переселится в деревню и заведёт поросят.
– Адрес-то дай, – напоминая, зачем пришли, сказал Фёдор и, обратив внимание на третью дверь, находящуюся в комнате, спросил между прочим, – А эта?
– Эта забита, – тут же ухватившись за второстепенное, стал отвечать Леденцов. – Есть другой вход, а этот забит. Там сосед живёт. Хороший парень, правда, чуть-чуть того, слегка тронутый. Эстраду отечественную любит, с утра до вечера песенки крутит.
Он поворошил бумаги, аккуратно сложенные на Лилином письменном столе и сказал:
– Так я и знал. Давай завтра.
– Что – завтра? – Не понял Фёдор.
– Завтра, – стал объяснять своё предложение Леденцов. – Я поеду с тобой и покажу где. Вместе зайдём в квартиру. А адрес… Я помню месторасположение. А так – название улицы, номер дома, квартиры – не помню. А бумажку, на которой всё было написано, я, по-моему, Анюте отдал. Точно, ей отдал.
– Поехали сегодня, – предложил Фёдор.
– Сегодня? – Переспросил Леденцов, придумывая, как бы отказаться, и помявшись, почесав затылок, ответил. – Нет. Сегодня не могу. Да, и поздно. Пока доедем, люди спать лягут. Давай, завтра?
– Ты уверен, что она там?
– А где же? Там, успокойся, – уверенно отвечал Леденцов.
Чувствуя к себе недоверие со стороны Макеева, он вдруг кинулся с улыбкой обнимать его и снова принялся упрашивать отложить всё до завтра.
– Ладно, – согласился Фёдор, понимая, что бессилен что-либо предпринять без Леденцова, а тот юлит. – До завтра, так до завтра.
Придя домой, Фёдор получил тетрадный лист с записанным сестрою номером телефона, под которым значилось имя Анна. Последняя цифра записанного номера была несколько раз исправлена и переписана. Походила одновременно на тройку, четвёрку, пятёрку, семёрку и девятку. А могла быть так же единицей или шестёркой.
– Какую же цифру, всё-таки, набирать? – Спросил он сестру.
– Не помню, – ответила Галина и дала совет. – Попробуй все возможные варианты.
Фёдор стал пробовать и в это время пришёл с улицы Максим. Стоя в коридоре, с трубкой в руке, и набрав уже половину номера, можно сказать на ходу, Фёдор спросил у брата, знаком ли он с Миленой. Увидев в глазах Максима недоумение и вопрос, что невозможно было бы подделать, он решил, что рассказ Жанкиля действительно, выдумка, на этом успокоился и продолжил крутить диск.
Взявшись за «пробы», Фёдор не предполагал, во что это всё выльется. В какую словесную эпопею всё это обернётся.
Начать с того, что звонить ему пришлось не только по тем цифрам, на которую исправленная была похожа, а по всем десяти, включая двойку, восьмёрку и ноль, так как во всех предыдущих вариантах на его трепетную просьбу, позвать к телефону Анну, отвечали: «Не балуй», «Таких нет», «Ещё раз позвонишь, выясню на станции твой номер и уши оборву». Но и двойка, восьмёрка, ноль, никаких положительных результатов не дали. Ни в одном из десяти номеров не оказалось даже тёзки, везде отвечали отказом. Это был какой-то заколдованный круг.
«Да, что ж это такое? – Разламывалась у Фёдора голова. – Почему нет? Должна быть».
И он снова звонил туда, где уже не ждал ничего, надеясь на чудо. Надеясь на то, что говоривший ему «Таких нет», какой-нибудь пьяный сосед, который просто не знает, что Анна есть, что живёт она в соседней комнате и ждёт его звонка. Но чуда не произошло, «пробы» пришлось оставить и самому остаться ни с чем.
Положив трубку и отойдя от телефона, потирая руками виски и лоб, Фёдор напряжённо размышлял, искал причину неудачи. Каких предположений только не делал, но он конечно, и представить себе не мог, что его сестра, невнимательно слушая, записала неправильно ещё и первую цифру. Написала вместо четвёрки тройку. И хотя она несколько раз переспрашивала Анну, чтобы убедиться в правильности написанных цифр, находясь в состоянии рассеянности, слишком сильно её занимали в тот момент свои собственные мысли и беседы с Карлом, так и не обратила внимание на явную ошибку. Фёдор об этом и подумать не мог. Оставалось идти к Леденцову со всеми своими недоумениями.
* * *
В понедельник Анна, как и предполагала, пошла к сестре, чтобы успокоить её насчёт своей устроенности и узнать, не может ли она чем-нибудь быть Рите полезна. Рита встретила её с прохладцей, но так, как будто ничего между ними не было и о встрече они условились заранее.
Пройдя на кухню и готовя там кофе, себе и Анне, Рита сказала:
– Могла бы и раньше придти. Я из-за тебя, каждый день на вокзал моталась, людям головы морочила, говорила, цыгане ограбили.
– Зачем говорила, что цыгане ограбили? – Не поняла Анна.
– А как объяснить своё там присутствие? Не скажешь, – сестру караулю, которая убежала.
– Ты бы просто не ездила на вокзал.
– Ну, да, не ездила. Тогда же я ещё не знала, что Пистолет в больницу слегла. Думала, придет, спросит о тебе, а что я отвечу? Вот и моталась, прогуливаясь вдоль вагонов, как помешанная.
– А что с Зинаидой Кононовной? Её проведать надо.
– Не надо. Была у неё, привет от тебя передала, сказала, что ты домой на недельку… В общем, у неё всё хорошо, скоро выпишут.
На самом же деле всё было не так. Зинаида Кононовна находилась дома, а про больницу сама просила Риту солгать. Произошла с ней, такая история.
В тот злополучный вечер, когда Рита вернулась домой с гостями, вследствие чего произошла известная ссора с Анной, Пистолет тоже находилась во хмелю и отличилась не в лучшую сторону. Подралась с соседом по коммуналке, который, ударив её кулаком по переносице, что называется, «подсветил» одним ударом сразу два глаза. Вид после драки у Зинаиды Кононовны был отвратительный. «Окончательно теперь на алкоголичку похожа», – говорила она, глядя на себя в зеркало.
Она стеснялась в таком виде показаться перед Анной, стыдилась происшедшего. Особенно мучило её то, что деньги, взятые под «небольшие трудности», как бы на хлеб и воду, были тут же, лихо и с треском (платила музыкантам, швыряла на чай), спущены в ресторане. Вот и была придумана больница и слово «слегла».
Рита плохо выглядела, много курила, рассказала подробно о том, как сестрину сотню Пистолет пускала по ветру, как познакомилась в ресторане с Жмуровыми.
– Я их не выгоняла, – созналась она после известия об их избиении и заверении сестры, что она и не сомневалась в Рите. – Они сами ушли. Когда вернулась, прямо всё и выложила, что ты ушла и не вернёшься, что я осталась одна. Сказала, что готова с ними провести ночь, но предупредила, что не Магдалина и эта ночь с мужчинами у меня первая, так что деньги вперёд и поболее. Они выслушали, между собой потявкали, обозвали и ушли. Вот, как всё было, а совсем не так, как ты себе придумала.
Но тебе, прежде чем осуждать меня, надо знать, как жила я всё это время, до этой ночи. Я же не летом, как ты, зимой в Москву приехала. Год сразу же упустила. Приехала, снег хлопьями валит, люди ёлки в руках несут, никогда не забуду этого дня. Все куда-то торопятся, спешат, а я стою, мне торопиться некуда.
Поехала на Банный, там бюро по обмену, заодно и квартиры сдают. Познакомилась там с Жанкой. Деньги были, сняли на двоих квартиру, стали вместе с ней по театральным институтам ходить. Эх, Жанночка, повезло же тебе, живёшь теперь со своим стариком, как за каменной стеной, жизнью наслаждаешься. А тут… Ну, я отвлеклась. С Пистолетом познакомились. Стала Зинаида Кононовна к экзамену меня готовить, Жанка от услуг её отказалась. Прослушала она меня и убедила, что всё плохо. Плохо, но она знает, как сделать хорошо. Попросила денег вперёд, устроила мне за три дня занятий несмыкание связок и скрылась. Права Жанка была, что отказалась. Три дня к ряду, по четыре часа заставляла меня орать. Так занимались. Ну, и добилась своего. Прописки у меня нет, обратиться не к кому, поехала в платные поликлиники, на Арбат, на Разина – не принимают. В регистратуре говорят, что в Москве специалистов нет. Пошла на авось в районную поликлинику, к главврачу, рассказала обо всём, поплакала у неё там, она мне помогла. Дала записку к профессору в Боткинскую больницу. Поехала я туда. Профессор посмотрел моё горлышко, сказал то же самое, что и главврач: «несмыкание связок». Стал приёмы к себе назначать. Я раз пришла, другой – не лечит. Дал дыхательные упражнения, кричи себе дома: «кряк», «крэк», «крок», – и всё тебе лечение. Да, журналы ещё медицинские мне показывать стал, где глотки, больные и здоровые, в увеличенных размерах нарисованы. А, в третий раз пришла – говорит, снимите юбку, хочу посмотреть на то, как вы дышите. Каким образом у вас живот двигается. Ну, тут я сразу поняла, что на уме у профессора, говорю: у меня живот не болит, болит горло. Ушла и больше к нему не показывалась. Рассказала об этом Пистолету, смеётся, говорит: я думала узлы у тебя на связках, приехала уговаривать операцию делать.
Она тебе не говорила, что берёт деньги только с тех, кто поступает? Говорила? Ну, вот и мне тоже говорила, а потом на попятный двор. Кричала: «я с тобой занималась», часы какие-то складывала, раскладывала. В общем, я ей ещё и должна осталась. Она не верила в меня.
Поступила я своими силами, своим трудом. Выходит, что кроме вреда, Пистолет мне ничего и не сделала.
– Зачем же ты мне её рекомендовала, если так плохо о ней отзываешься?
– А я её и без тебя к себе приглашала, – стала оправдываться Рита. – Хотела, чтобы подсказала мне кое-что, в самостоятельной работе. Ну, а уж ты, как бы заодно.
А если честно, не знаю зачем. Может, из зависти, из злобы. Я злая стала. Давно уже злая и ничего с собой поделать не могу. У меня на первом курсе был ухажёр, выпускник, с бородкой, симпатичный. Он поначалу мне много чего рассказывал, смешил, дарил цветы. И много разных мелких подарков преподносил. А потом его словно подменили. Стал спрашивать: курю я или нет, верю ли в Бога? А потом и вовсе пропал. А больше никого у меня и не было. Да и тот ни разу меня даже не поцеловал. Знаешь, почему он меня бросил? Потому что один из педагогов сказал ему обо мне плохие слова. Он сказал ему, увидев нас вместе – бездарную актрису может любить только бездарный режиссер. Да. Так при мне и сказал. И он, ухажёр мой, симпатичный с бородкой, ему поверил.
Рассказывая о себе, Рита подняла юбку и заглянула под неё.
– Похудела, – грустно сказала она. – Ноги стали худые, как глисты вонючие. Ну, разве это ноги? А были точёные. И вот, представь моё состояние. Молода, красива и никому не нужна. Когда ты просто никому не нужна, это обидно, но жить с этим можно. Но когда тебе каждый встречный говорит, что ты красива, называют царицей, а ты всё равно никого не интересуешь, это уже страшно. Так страшно, что словами не передать. Испытываешь кожный зуд и постоянное ощущение гибельности.
Кто-то мне в ответ на мои жалобы сказал, что это может быть от переизбытка жизненных сил. Не знаю, не думаю, чтобы от переизбытка. Думаю – от того, что просто жизни нет никакой. Понимаешь? Жизнь моя, она ни горькая, ни плохая, она никакая. Быть никакой хуже всего на свете, уж лучше не быть никакой. Помнишь, я Ольге говорила, что одна девочка грозилась отравиться, если её бросят? Ну, о той, у которой гордости совсем нет? Помнишь, как я это говорила? Помнишь, как я над ней смеялась? Так вот, это была я. Меня бросили, так-то. Брошенка! Слово-то, какое обидное, матерное.
Да, я плакала при всех. И я травилась. Травилась на самом деле. Хорошо в общежитии тогда жила, вовремя откачали. Наелась таблеток, еле спасли. Ведь ты не знаешь, сколько нервов я потратила, сколько крови мне попортили. Ведь и меня, как Жанку из «Щуки», тоже со второго курса выгнать хотели. Готовила я специально отрывок, собирались педагоги, мастера, все наши ребята-студенты. Собирались для того, чтобы посмотреть и сказать «спасибо, вы свободны». Мне просто чудом повезло, что среди наших был один посторонний. Мастер хотел его выпроводить, хотел в своём кругу со мной покончить, но за него попросили, оставили, и он меня спас. Чужой оказался самым родным. Правда, он не совсем чужой, сестра его со мной учится. Запомни, Фёдор Макеев, может, книгу напишет, писателем себя считает.
– Он себя не считает писателем, – возразила Анна, внимательно слушавшая сестру.
– Ты что, знаешь его? – Как-то растерянно спросила Рита, не умея скрыть своего недовольства.
– Да, – спокойно сказала Анна.
– Имей в виду, – чуть ли не грозить стала старшая. – Писатель – это не мужчина, это человек без пола. А во-вторых, москвичи на приезжих не женятся.
Анна покраснела и опустила глаза. Покраснела оттого, что сестра говорила о Фёдоре так, как она не могла и помыслить, то есть, считать его женихом.
– Потом болела я много, – продолжала Рита свою скорбную повесть. – Всё никак привыкнуть к городу не могла. К его домам, улицам, людям. Ненавидела этот город, боялась его. Я и теперь его боюсь и ненавижу. Единственное средство, как мне тогда казалось, которое могло бы защитить, были деньги. Да, да, обыкновенные деньги. Тогда мне казалось, что в них всё, – и сила, и власть. Имея деньги, казалось, я смогу жить и учиться спокойно, и злой город, со своими злыми людьми, перестанет давить на меня, перестанет пугать. Встал вопрос, где их взять. И, тут я увидела, как на моих глазах, легко и просто, богатеют такие же девчонки, как я. И я тоже решила попробовать, но не учла одного, что эта лёгкость и простота кажущиеся. Тут ведь одной красоты не достаточно, надо ещё личностью быть. Я видела много красивых девчонок. Красивых, но, к сожалению, пустых. Кому они нужны? Тут надо понравиться. Надо именно суметь подать себя так, как надо. Надо уметь поддержать разговор и потом не каждая ещё так, как Ольга, может взять и сразу лечь в постель с незнакомым мужиком. – Рита хохотнула и добавила. – Да к тому же с таким, у которого на теле нет ни единого волоса!
– Так она, выходит… – сказала Анна, разинув рот.
– Проститутка, – договорила за неё сестра. – Ну и что здесь такого? Чего ты так глаза вытаращила? Ты сама её видела. Нормальная тётя, с руками, ногами. Воспитанная, не дура какая-нибудь. Правда, когда она мне об этом сказала, я тоже обалдела. У меня тоже челюсть сразу отвисла. Сижу, не знаю, куда глаза девать. А она мне говорит: «как хочешь ко мне теперь относись, но это так!» И чего ты вся покраснела, как дура? Чего покраснела? На, вот зеркальце, взгляни на себя. Какая ты стала смешная, прямо малиновая вся. – Рита притворно засмеялась. – Да, такая вот знакомая у меня. Постой! – Как бы внезапно о чём-то догадавшись, сказала Рита. – Ты мне всё же не поверила, что с Жмуровыми была первая попытка? Ты думаешь, что и я вместе с Ольгой этим занималась? Угадала? Да? Нет. Что ты, дурёха. Нет. Клянусь, что нет. Если лгу, то чтобы ни отца, ни матери, ни дома родного мне больше не увидеть.
Рита была сильно возбуждена и придумала бы теперь с десяток клятв, если бы её не успокоила Анна.
– Я тебе верю. Что ты?
Рита успокоилась и стала продолжать свой рассказ.
– Просто Ольга настоящая подруга, – говорила Рита. – Она добрая, она мне много помогала. Квартирой, деньгами, советом. Нет, я этим не занималась. Я, как выяснилось, на это не способна. Других можно обмануть, но себя не обманешь. Я же говорила тебе, что это не просто. Тут нужно в себе что-то особенное иметь. У меня этого нет.
– Ты так говоришь, – сказала Анна, дрожащим от волнения голосом, – будто хвалишь. Получается, что ты и хотела бы такой стать, но не достойна.
– А, ведь так и есть, – согласилась Рита. – И, знаешь, что получилось? Я жила, уже смирившись с тем, что не могу, что недостойна, как ты говоришь, и вдруг приехала ты. Сестра, родная душа, и всё как-то одно к одному складывалось. Пистолет меня ведёт в ресторан, там Жмуровы. Мне показалось, что вдвоём перешагнуть этот барьер будет не страшно, возможно. А там, за барьером – широкая жизнь. И вот я решилась, сделала первую и, видимо, последнюю серьёзную попытку. Ну, а что из этого вышло, сама знаешь. Сестра моя пошла ночью в дождь, неизвестно куда, а гостям, по твоим словам, скулы своротили. Одним словом, ничего не вышло.
– И, слава Богу, сестрёночка, – взволнованно говорила Анна. – Что же ты губишь себя? Зачем над собой издеваешься? Пусть Жанна и Ольга живут богато и счастливо, не завидуй им. Деньги? Тебе нужны деньги? Деньги я тебе буду зарабатывать. Устроюсь уборщицей, посудомойкой, с детьми в свободное время буду сидеть. Мне ведь деньги совсем не нужны. Честное слово. Всё, до последней копеечки, буду тебе приносить. Только не мучай ты себя, не делай ты больше этого.
– Чего – этого? – Спросила Рита. – Дурочка. Маленькая дурочка. Какая же ты ещё глупенькая. Ты лучше давай, расскажи, где ты всё это время была.
Анна стала рассказывать. Рассказала о беседке, о Фёдоре, о семье Леденцовых и о том, где и как живёт теперь.
– Знаю и Генку, и Вадима, – говорила Рита. – Как, говоришь, хозяйку звать? Медведица? Чего только не придумают. Если хочешь, оставайся. Живи у меня.
– Зачем? Мне там хорошо. Спасибо, – ответила Анна, заметив по голосу, что сестра не хочет жить вместе. – Вот, я тебе адрес свой, на конверте написала. На всякий случай. Если время будет, заходи.
Оставив конверт с адресом на кухонном столе и поблагодарив сестру за кофе, к которому так и не притронулась, Анна ушла.
Рассказав о своей московской жизни, Рита не стала ближе, она по-прежнему не подпускала к себе, и, казалось, этой исповедью обрывала последние нити их связывавшие.
Уходя, Анна взяла с собой клетку с волнистым попугаем. Сделала это по настоятельной просьбе сестры, которая от болтовни пернатого друга, в особенности от вопроса «Как поживаете?», приходила в бешенство. Боялась, что как-нибудь не выдержит и за чрезмерное любопытство окатит попугая кипятком.
Как впоследствии выяснилось, Рита отдала попугая вовремя, так как через несколько дней её с сильным нервным расстройством увезли в больницу и попугай, оставшись без присмотра, просто умер бы с голоду.
* * *
Степан проснулся рано утром. Спал он на своей узкой, сетчатой, блестящей никелем кровати, под пологом. Кровать была ему тесновата. Не то, что в детстве, когда лёжа посередине, вытягивая руки и ноги, он не мог дотянуться до прутьев спинки. Приходилось подгибать ноги в коленях, что конечно, не могло испортить хорошего настроения и помешать тому новому, блаженному состоянию, в котором он находился все прошедшие сутки.
Полог из марли, защищавший от комаров и мух, мама сшила в те далёкие времена, когда он, будучи уже городским жителем приехал к ней на лето.
То лето запомнилось ему на всю жизнь. А воспоминания о нём способствовали тому, что на долгие годы он забыл дорогу к дому, в котором жила мама. Вначале всё складывалось хорошо. Вместе с Илюшкой Игнатьевым удили рыбу, ходили за грибами, пасли колхозное стадо, помогая Дмитрию Варламовичу, Илюшкиному отцу. В их распоряжении были кнуты с хлопушками, высокие сапоги. Собаки их слушались, и было весело. Как только быть пастухами надоедало, шли купаться на пруд. Тогда на берегу пруда росло огромное, по их детским меркам, дерево, к массивной ветке которого была привязана тарзанка. Держась за неё руками, раскачиваясь над водной гладью, можно было отпуститься и лететь, как птица и тут же, погружаясь в воду, из птицы превращаясь в рыбу, плыть. Накупавшись всласть и позагорав на солнце, они шли дёргать редиску на колхозное поле или лазили по чужим садам. Хотя свои сады были ничем не хуже. Солнцу и веселью казалось, не будет конца, но конец всему этому празднику лета пришёл очень быстро. Беды, одна за другой, стали наваливаться на Степана.
А начались они хмурым утром, когда сквозь сон услышал переполох, встал с кровати и никого дома не обнаружил. Он покричал, не ответили. Накинув телогрейку и надев на босые ноги сапоги, вышел в сад, общий с Игнатьевыми. Стоял густой туман, было много народа. Люди стояли неподвижно и молча смотрели в одну сторону. На него никто не обращал внимания. Находясь в полудрёме, Степан протиснулся между ними и увидел впереди, на расстоянии пяти шагов, мужчину. Как-то очень криво он стоял под деревом. Так криво, что даже было непонятно, почему не падает, находясь в таком положении. К нему, как Степан понял, и боялись подходить. Что-то пугающее исходило от него, от непонятной позы, от неподвижности в которой он прибывал. Степан тоже остановился и стал смотреть на криво стоящего под деревом мужчину, ближе не подходя. Появилась Илюшкина тётка, сестра отца, за которой, как впоследствии стало ясно, послали. Она подошла к этому криво стоящему близко и, заглянув ему в лицо, вскинув руками, только и смогла сказать: «Да, это же наш Митька». После чего, отвернувшись, закрывая лицо рукой, как-то тихо и жалко заплакала.
В тот же день в пруд были спущены нечистоты со скотного двора и отравлена в нём вода. Ни коров пасти, из-за трагической смерти Дмитрия Варламовича, повесившегося на проволоке, ни в пруду купаться теперь было нельзя. Да, и погода испортилась. Всю неделю шли проливные дожди, солнце не показывалось.
В один из этих дождливых дней, кто-то, он уже не помнил кто, принёс из леса малину. Степан съел целую кружку и отравился. Одни говорили, вместе с ягодой проглотил червяка, другие, что малина и сама по себе сильная ягода и её нельзя есть много. Тем более ребёнку. Все эти споры Степану облегчения не приносили, ему было настолько плохо, что он мысленно несколько раз прощался с жизнью. Ни есть, ни пить не мог. Рвало зеленью. И всему этому ужасу не видно было конца. Спас отец, который приехал и увёз из страшной деревни в город, где очень скоро он выздоровел и встал на ноги.
С тех давних пор полог не использовался. Лежал в сундуке и сохранился отлично, будто сшит был не пятнадцать лет назад, а только вчера.
Оставаясь в постели, через марлю полога, как сквозь дымку, Степан наблюдал за матушкой, сидевшей у окна с раскрытыми шторами. В комнате шторы были раскрыты только у одного окна, остальные оставались закрытыми, чтобы Степан спокойно мог спать, не потревоженный дневным светом. Очень тихо, из невидимого приёмника, о существовании которого Степан и не подозревал, звучала известная мелодия, какой-то горе-музыкант исполнял на рояле полонез Огинского. За окнами набирало силу солнце, утро обещало в течение всего дня прекрасную погоду.
Степану приятно было лежать под пологом и сквозь дымку марли смотреть на синие занавески, закрывавшие дорогу свету. На свет входящий в комнату, через одно окно, отчего и матушка, и вся комната выглядели как-то непривычно, по-особенному торжественно и в то же время таинственно. И эта мелодия, с детских лет знакомая, в таком нелепом, бездушном исполнении.
«Я бы так не сыграл», – с иронией мастера заметил про себя Степан.
Он смотрел на матушку через полог и думал о том, что она у него всё ещё молодая и красивая. Удивлялся тому, что мог жить и этого не замечать.
Как-то ночью, в августе, выйдя на балкон, он увидел падающую звезду и даже бровью не повёл, не загадал желания. Потому что не знал, чего пожелать. Теперь бы знал. Он загадал бы одно-единственное желание, чтобы эта женщина, сидящая на стуле, жила как можно дольше. Дольше его, дурака. Хотя ей самой, быть может, этого и не захотелось бы.
«Ещё бы, какое горе – пережить родного сына…», – сказал про себя Степан и вдруг, вздрогнув, задумался.
Только теперь он по-настоящему понял, какое горе мог принести ей своим самовольным уходом из жизни.
«Какая мать, чьё материнское сердце, способно это вынести?», – спрашивал он, прозревший, себя, того, уставшего и слепого.
Спрашивал, и ответом ему была тишина.
«И как же это я, заблудившийся и пропащий, сумел избежать неизбежного, сумел не погибнуть и спасся? Как могло случиться, что я, тот, кто фактически был уже покойником, остался жить? – Снова спрашивал он себя и снова не в силах был на это ответить.
«Уж не её ли молитвами?», – тихо, шёпотом произнёс он, глядя на мать так же пристально и с таким же подобострастием, с каким вчера вечером смотрел на икону.
Но живой человек не икона. Ирина Кондратьевна тут же расстроила высокий ход его мыслей своими действиями. Она как-то бездумно стала ловить рукою мух на лету, что здорово у неё получалось, кидать их, слегка помяв, на пол и придавливать ногой.
– Ну, вот! – Громко и раздражённо произнёс Степан.
Он поднял край полога, выбрался из-под него и, встав босыми ногами на вязаный из кусков материи кругленький коврик, лежащий перед кроватью, барским тоном сказал:
– Есть хочу.
Плотно и с аппетитом позавтракав, Степан устроил Кояну баню. Не в переносном, а в прямом и естественном понимании этого слова.
Подогрел воду, поставил собачьего сына всеми четырьмя лапами в таз и хорошенько намылив, стал смывать пену и расчёсывать слипшуюся шерсть. Кояну всё это не нравилось, временами он поскуливал и с неприязнью смотрел на мучителя. Когда же помывка закончилась, и пёс сообразил, что мучили его не зря и что теперь он чист и красив. Он стал прохаживаться по двору такой пижонистой походкой, которая вызвала смех не только у Степана, но даже и у Ирины Кондратьевны, которая поначалу была категорически против купания собаки.
Конечно, мыл и скоблил Степан Кояна не для собачьего форса и не для собственного удовольствия. Делал это, памятуя о том, что сегодня в гости должна прийти Лена, перед которой хвастаться грязной собакой было бы стыдно.
Таня сдержала слово и под свою ответственность, во время тихого часа, отпустила Лену со Степаном. Отпустила, взяв при этом с последнего слово, что он вернёт девочку ровно через два часа (столько длился дневной сон), а вечером, после отбоя, придет в лагерь и будет с ней, с Таней, гулять. Степан ей пообещал, хотя обещая прийти вечером, знал почти наверно, что этого не будет. Взаимоотношения с Таней его мало интересовали, ибо этот развратный, ещё не достигший пика своей формы, женский тип ему был не интересен. Другое дело Лена с такой поэтической фамилией, Солнышко. Она была похожа на ангела, спустившегося с неба, она свидетельствовала собой о том, что существует женская, чистая душа, в существование которой Степан до встречи на лужайке не верил, но о которой в детские свои годы, ещё до того, как его развратили, много мечтал.
«Какой она интересно будет, когда вырастет? – Спрашивал он себя, пробуя представить. – И кому такое сокровище достанется?».
Он показал Лене Кояна, дом, в котором родился и жил, деревню и окрестности. Сам ходил с ней рядом, вспоминал, и всё снова заново переживал. Они подошли к дубку, росшему за деревней, на который Степан в детстве лазил за желудями. Дубок теперь казался очень маленьким.
Подошли они и к двум осинам, росшим рядом, к которым отец когда-то приделал трубу, соорудив тем самым что-то похожее на турник. Отец подсаживал, заставлял хвататься руками за трубу и говорил: «Тянись, подтягивайся, а то упадёшь и разобьёшься». Степан боялся упасть и разбиться, этот турник ему казался очень высоким, отец делал его для себя. И он тянулся, подтягивался изо всех сил, а когда силы иссякали, висел сосиской до тех пор, пока онемевшие пальцы сами собой не соскальзывали с железной трубы. Отец, стоявший за спиной, всегда ловил его, но всякий раз перед очередным подходом говорил, что ловить не будет и что если он отпустит «железку», то переломает себе ноги. Не скоро, но Степан научился подтягиваться и даже делать «выход силы». Выходя над перекладиной, он садился на турник и смотрел вниз на смеющегося отца и с тех пор перестал бояться высоты, стал спрыгивать с турника сам, отвергая заботливые отцовские руки. Помощь отца была уже не нужна, разве только затем, чтобы до турника дотянуться. Но в отсутствии отца он залезал по одному из деревьев и перебирался на турник сам. С тех пор много воды утекло и труба, когда-то державшаяся на гвоздях, теперь полностью вросла в плоть разросшихся деревьев. Теперь турник казался низким, а ведь когда-то он висел на нём и боялся отпустить руки.
Подойдя с Леной к пруду, Степан в подробностях вспомнил о том, как нырял он с тарзанки, как с пузырями входило его тело в прохладную воду, как всё это было хорошо и необыкновенно. Он очень любил купаться, временами ему даже казалось, что он не вечно будет человеком. Поживёт немного, а потом по собственной воле станет рыбой и будет плавать в воде днём и ночью. Огромного дерева с тарзанкой на берегу давно уже не было. Не видно было ни пня, ни просто места, где оно росло, весь берег был покрыт ровной зелёной травой. Да, и того чистого пруда, в котором ему хотелось плавать днём и ночью в виде рыбы, тоже давно не существовало. Всё это были неприятные перемены, но они не угнетали его так, как в день приезда.
За мыслями и воспоминаниями Степан не заметил, как опоздал к обещанному сроку. Тихий час длился в лагере два часа, а они, как оказалось, прогуляли два с половиной. Торопясь и переживая за Лену, Степан взял у Ильи велосипед и повёз на нём девочку в лагерь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































