Текст книги "Люблю"
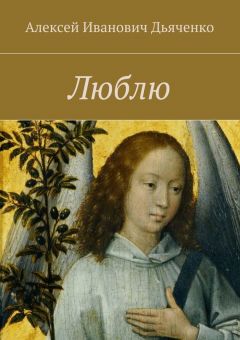
Автор книги: Алексей Дьяченко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 31 страниц)
– Ох, и влетит нам с тобой, – говорил он, крутя педали.
Оставшись у калитки, Илья тем временем разговорился с Ириной Кондратьевной.
– Как, тётя Рин, познакомилась с внучкой?
– Господь с тобой, Илюша. Да, разве это внучка?
– А кто же? С чужими детьми так не нянчатся. Да и со своими теперь… А ты, тётя Рин, думала, он на нас с тобой поглядеть приехал? Нет. Тут у него свой интерес. Я и мать её видел, хорошая девка. Он с ней в лагере под ручку ходил, а к тебе не привёл чегой-то.
Степан привёз Лену к корпусу как раз в тот момент, когда отряд её вернулся с полдника. Ощупав неприятным, завистливым взглядом сияющую девочку и раскрасневшегося от быстрой езды, запыхавшегося, но счастливого её спутника, Таня подошла к Степану и строго напомнила ему о его обещании явиться после отбоя. При этом зачем-то сказала о том, что возьмёт с собой одеяло и что им придётся гулять всю ночь. Степан подтвердил свои, сказанные ранее слова, но тут же, чуть ли не при Тане, стал смеяться над своей неспособностью отказать, сказать «нет», а также над её излишним доверием к этим ненадёжным обещаниям. Приходить к ней вечером он не собирался.
Вечером, сидя дома, слушая равномерное тиканье ходиков, Степан вспомнил слова Лены:
«Мне до восемнадцати недолго ждать осталось, всего десять лет. А когда восемнадцать исполниться, мы с тобой поженимся, и я буду тебе доброй женой».
Он улыбнулся и стал мечтать. Ему представилась разрушенная коммунистами церковь, восставшей из руин, новой, отстроенной, белой с золотыми куполами. При большом скоплении народа в этой церкви идёт торжественная служба венчания. Под венцом он, с посеребрёнными от времени висками, в тёмном костюме, а рядом с ним – Лена, стройная, восемнадцатилетняя, в белом, красивом платье с фатой. Благочестивый священник, в праздничном облачении, благословляя, провозглашает соединяющие слова, а где-то высоко на хорах, подобно ангелам, звучат голоса певчих.
Погружённый целиком и полностью в свои раздумья, сидя с блаженным от этих сладких мечтаний лицом, Степан не заметил, как в комнату вошла матушка и подошла к нему.
– Сынок, скажи, или это внучка моя была? – Спросила Ирина Кондратьевна, как раз в тот момент, когда сына ангельские голоса певчих уносили в поднебесье. Степан вздрогнул.
– Какая, к чёрту лысому, внучка? Вечно ты скажешь, так скажешь, – грубо ответил он и тут же об этом пожалел, так как мать от грубых его слов заплакала.
– Ну, а с чего ж ты тогда в дом её приводил? Я подумала… – всхлипывая, говорила мать.
– В гости! В гости приводил! Собаку показать.
– Ну, в гости, пусть в гости, – недоверчиво шептала Ирина Кондратьевна, с трудом соглашаясь с сыновьими доводами. – Только странно это – чужого ребёнка и в гости.
– Ничего не странно. Всё так, как должно. Хорошо, что напомнила, надо Илье велосипед вернуть.
– Ему он теперь не нужен.
– Это почему?
– Ты, как уехал, пришли за ним из милиции и увели.
– Да, как же… Когда? Что ты?
– Вот я тебе и говорю. Как ты девочку повёз, за ним и пришли.
– За, что же его? За тунеядство?
– Да, говорят, будто сбил он шайку из малолетних, и эта шайка, по его наказу, забралась в магазин. Они же, те, что в шайке были, на него и доказали.
После такого неожиданного известия, Степану почему-то представилось, что всех не работающих, то есть, официально не числящихся работающими, вдруг стали хватать и вешать на них чужие дела. Так он был совершенно уверен, что в Москве арестован и Фёдор.
– Я еду в Москву прямо сейчас, – сказал Степан и стал собираться. Впрочем, кроме мыслей, собирать ему было нечего, и, подумав о Лене, он пожалел, что не попрощался с ней, а подумав о матери, вспомнил про шерстяные носки, которые она обещала связать.
– Носки не забудешь, свяжешь? – Напомнил он Ирине Кондратьевне, настроение у которой, после внезапного сыновнего заявления, заметно ухудшилось. – Не забудешь? – повторил Степан, не дождавшись ответа, глядя в грустные глаза матери. – Ты же говорила: «легко»?
– На словах легко, – с плохо скрываемым недовольством заговорила матушка. – Легко говорить «свяжи». А шерсть? Своей нет, надо покупать, да потом еще, сколько с ней мороки. Её и перебирать надо, и прясть, и стирать. Работы знаешь, сколько? Мне уже не по силам.
– Ну, ладно. Не надо тогда никаких носков, – сказал Степан с обидой в голосе, и вдруг его осенило. – Ты, что, сердишься из-за того, что я в Москву собираюсь?
– Ну, а кому это понравится, – более мягким, примирительным голосом заговорила Ирина Кондратьевна. – Завтра вся деревня начнёт об этом трещать.
– О чём? – Не понял Степан.
– О том. Скажут, Аринин сын, как вор, на ночь глядя, удрал. Видать, с Илюшкой за одно, испугался аресту.
– Да ну, брось мам, придумаешь.
– То-то и есть, брось. Ты приехал и уехал, а мне с людьми жить. Мне неприятно, когда обо мне плохо думают.
– Ну, и когда мне ехать, что бы не заподозрили?
– Не смейся. Подумай, кто на ночь глядя срывается. И мне каково, буду не спать, думать, что в электричке на тебя напали хулиганы. Решился, езжай утром, как все нормальные люди.
– Ну, завтра так завтра, – согласился Степан и стал смотреть в окно, на огромный, уродливый трактор «Кировец», на котором неизвестный ему парень заехал за другом.
Заинтересовало Степана не чудо технической мысли, а то, как друг, за которым заехали, в этот трактор садился. Он залез на колесо, затем на крыло и, взобравшись на прямоугольную морду чудовища, пройдясь по ней, через выбитое переднее стекло, пробрался в кабину. «А что же не через дверцу?», – мелькнуло в голове у Степана, и он стал присматриваться и искать, что могло быть этому помехой. И очень скоро высмотрел. Ступени у лесенки, по которой можно было бы добраться до дверки, все до одной были сломаны, да и сама дверка не имела ручки, и, казалось, что её как-то раз и навсегда заклинило, такой она имела вид. «Ну, и стоило из-за этого стекло выбивать? Вышел бы водитель, пропустил», – хотел было обвинить Степан ребят, но тут «Кировец» развернулся и показал обвинителю, с другой стороны такую же обломанную лесенку, такое же отсутствие ручки на дверке и в дополнение к этому грубый сварочный шов, коим дверку намертво приварили к корпусу. Увидев всё это, обвинитель только и смог сказать в сердцах: «Ишь, какие находчивые, всё приспособят на свой манер», – а в дополнение подумал. – «Живи я здесь, каким бы вырос? Быть может, ездил бы точно так же на уродливом „Кировце“ за водкой, ходил бы холуём у дачников и имел бы такие же вкусы, как у Игнатьева».
Ночь была душная, Степану не спалось, одевшись, он вышел погулять. Ветер, тёплый и ласковый, дул со стороны скотного двора, в воздухе стоял запах коровьего навоза. Было тихо, лишь где-то далеко, на краю деревни, лениво, вполголоса, лаяла собака. На крыльце, как-то не по-собачьи вольготно устроившись, спал Коян. Проснувшись и увидев перед собой кормильца, он и не подумал о том, чтобы встать, а всего лишь перевернулся на спину, подставляя брюхо для почёсывания. Степан почесал ему грудь и, оставив косматого льстеца лежать на крыльце, сам спустился по скрипучим ступеням и подошёл к калитке. Деревня спала, нигде в домах не теплилось даже подобие огонька.
– Сони, – прошептал Степан. – Проспали такую ночь. Какой сладкий воздух, как легко, как приятно дышится. Наконец-то запахло, как в детстве, настоящей деревней.
Теперь, когда он окончательно примирился с тем, что остался ночевать и не сердился более на мать, его к этому принудившую, вдохновлённый к тому же тёплой ночью и ощущением собственной лёгкости, он уже и к деревне относился не так отрицательно и категорично, как тогда, когда говорил о холуйстве перед дачниками и о своих возможно испорченных вкусах, в том случае, если бы остался здесь жить, теперь он думал и чувствовал иначе.
«В деревне всё умиротворением дышит, – рассуждал он. – А в городе шум, злоба и разврат. Город со всех сторон подстерегает прелюбодейными взглядами. Жил бы я в деревне, был бы совсем другим человеком. Был бы спокойным, уверенным в себе, не суетился бы, не дёргался, не надо было бы торопиться, спешить. Сохранил бы нервы, здоровье, занялся бы спортом, возможно, стал бы чемпионом. Сейчас бы тренировал мальчишек, да возил по заграницам. И чего отец потащил в город? Чего я там хорошего увидел? Ничего. Всё моё хорошее осталось здесь».
Незаметно от мыслей о деревне Степан перешёл к мыслям о друге, за которого вечером так переживал. Теперь, когда волна беспричинного страха схлынула, и Степан понимал, что Игнатьев арестован, скорее всего, именно за то, что сбил шайку, которая, по словам матушки, «забралась в магазин» и бояться за Фёдора нет оснований, он стал думать о друге более спокойно, как о хворавшем человеке, пошедшем на поправку.
Степан поражался тому, как Фёдор бросил завод и умудрялся сидеть дома, писать. Ему его работа тоже не нравилась. Но он и представить себе не мог, как это взять и уйти с работы. Это было выше его сил. Степан считал Фёдора человеком замечательным, геройским, но простодушным и во многом наивным.
Когда спрашивал, узнавал ли тот: как печататься, кто возьмётся, сколько за это заплатят? Фёдор отмахивался, говоря: «Об этом ещё думать. Мне бы написать, а там пусть и не печатают». Это Степан не принимал как ответ и относил сказанное к Фединому недопониманию сути дела. Или же просто считал, что друг до поры до времени от него что-то скрывает. Во-первых, зачем писать, если тебя не смогут прочесть? А, во-вторых, и это главное, – если не уверен, что кто-то возьмётся печатать, то зачем зря писать, тратить время и силы, заниматься тем, за что, возможно, и не заплатят? Впрочем, глядя на друга, Степан тоже брался писать, но у него не получилось. Занятие оказалось неблагодарным и невподъём тяжёлым.
Так что, попробовав, бросил писанину и дал себе слово никогда более к бумаге и перу не прикасаться.
Часть седьмая
Вторник. Двадцать третье июня
Не добившись в понедельник от Геннадия вразумительного объяснения, не дозвонившись до Анны, Фёдор шёл со всеми своими недоумениями снова к Леденцовым. Разрешила недоумения Лиля, открывшая ему дверь.
Будучи всегда с ней откровенным, Фёдор спросил прямо с порога:
– Ты скажи, что случилось? Как вы Анну выгнали?
Они прошли в комнату, сели за стол, и Лиля начала свой рассказ:
– Устала я. День душный был, тучи висели. В общем, прилегла. Сквозь сон слышу, муж со Стасом пришёл. Леденцов ко мне в комнату заходить не стал, погорланил, покричал, я, находясь в полудрёме, на крики его не ответила. Лежу, уже основательно засыпаю, вдруг резанули такие его слова: « Значит, дома никого нет». Ну, и на это я ноль внимания, дрёма всё сильней меня объемлет. А потом просыпаюсь от крика, может всего и проспала минут пять, не более. Слышу – кричит. Да, успокойся ты, не Анюта кричит, а Леденцов. Слышу, значит, кричит. Я сначала и не поняла, что это такое. А, потом села на кровать, прислушалась, стала разбирать. Поняла, что это он Анюте на меня жалуется. А она, бедная, к подобным сценам непривычная, защищает меня, перед ним оправдывает. А он своё – моё имя в обнимку с матерщиною, и доказывает, что он прав. Ну, думаю, если его не остановить, то он может такое наговорить, что потом и дороги назад не будет. Пошла я в твою комнату, Леденцов, как есть пьяненький, тут же Стасик стоит со своей ухмылочкой и Анюта, бедная, не знает куда деться, что ещё сказать им в мою защиту. Увидели меня, все трое рты разинули, немая сцена. Особенно Анюта перепугалась. Она-то, бедная, не знает, что бредни пьяные для Леденцова норма. Заплакала. Ну, и чтобы всё это разом прекратить, ложь мужнину не слушать, я ему сразу объявила, что нас переселяют, дескать, не стой столбом, собирай вещи и таскай на новую квартиру. А Анюту я не гнала, мы с ней долго вдвоём разговаривали. Я ей говорила, что есть и кровать для неё и место, и что ты нам велел её не отпускать, но ты сам понимаешь, для чистой души, после всего что произошло. Она помогала, цветы в эту квартиру носила, мыла окна, пол, но ни за что не захотела остаться. Она сама так решила. Сама ушла. Она конечно, кроткая, тихая, безответная, но если такая уж что решит, то будь уверен. Сама. Сама ушла. Это единственная правда, которую тебе Леденцов сказал. А на него не дуйся, он всего этого тебе рассказать не мог. Он боялся, что ты не так поймёшь, приревнуешь. Ведь ты его знаешь. Он и теперь спрятался. С утра ушёл и пока ты здесь, домой не придёт. Где-нибудь за кустами сейчас сидит, дрожит, как зайка серенький, всех и всего боится. Да, чуть не забыла, Вадим просил передать, чтобы ты к Ватракшину съездил. Ведь он же тебя на дачу звал?
– Ну?
– Марина твоя тебя разыскивала. Звонила Вадиму, он с ней за тебя договорился. Завтра, в девять часов утра у подъезда Ватракшина, они тебя будут ждать.
– Только из-за этого мне и нужно было сегодня придти?
– Ну, не сердись, Федя. Мы конечно, виноваты, за Анюту. Ну, что теперь поделаешь? Бери нож, режь меня.
– А что с адресом? Выдумка?
– Нет, что ты.
– Дай его мне.
– Ой, Федя, дура я, дура! Адреса-то я и не знаю. Бумажка, он не солгал, была, её Анюте и отдали. А сами не знаем. И Леденцов врал, он тоже адреса не знает. Но, Анюта, я просила её, она обязательно придёт. Не переживай. Я тут бесспорно, преступница, но ты прости меня и Леденцова прости.
Выйдя на улицу и направляясь домой, Фёдор стал себя спрашивать:
«Зачем в ту дождливую ночь, от своего подъезда, от дома, с окраины, я повёз её куда-то в центр, в квартиру к чужим людям? Не хотел ли я уже тогда, интуитивно, подсознательно, оградить себя от неё, избавиться? Нет. Вроде нет, – отвечал он себе. – Ну, хорошо. А теперь? Зачем искать её теперь, когда надо работать. Но, нет же. Работа не пойдёт, пока душа не будет спокойна. А, для этого нужно найти Анну».
На вопрос – почему увёз её от дома, ответа так и не нашлось. Размышляя об Анне, Фёдор думал ещё и о том, что находится сейчас в таком положении, в котором о женщине нельзя и помышлять. Которое можно выразить словами «от одного ушёл, к другому не пришёл». «Да и какую жизнь, какие перспективы я могу ей предложить? – Думал он. – Смогу ли сделать её жизнь счастливой? Имею ли право любить её и возбуждать в ней надежды? Да и она, совсем ещё ребёнок и не имеет, должно быть, никакого представления о тех чувствах, которые испытывает мужчина к женщине и женщина к мужчине».
Приехав домой, он открыл почтовый ящик, чего никогда ранее не делал, и к своему удивлению, нашёл в нём пустой конверт, на котором был написан адрес Анны. Рита постаралась, перед больницей.
Радости не было предела, тем более, что дом, указанный на конверте, находился совсем рядом.
Фёдор сразу же побежал по адресу. Подошёл к дому, вошёл в подъезд и, поднявшись на второй этаж, позвонил в дверь. И после этого радость в душе вдруг стала угасать, а на смену ей пришла тревога и необъяснимый страх. Когда же, после первого и второго звонка, ему никто не открыл, угасшая радость вернулась с удесятерённой силой. Да так, что он даже возликовал.
Убегая от двери с чувством выполненного долга, будучи теперь совершенно уверенным в том, что Анна пристроена, он всё же называл себя подлецом, ругал за двоедушие, но в то же время не забывал и гордиться собой, тем, что пересилил влечение, соблазн, уводящий от работы.
В этот момент в душе много было неясного, волнующего, того, что он не мог или не хотел осмыслить, оставляя всё на потом.
Одновременно и ругал, и хвалил себя. Испытывал радость от того, что нашёл Анну и радовался тому, что дома её не оказалось. Радовался, что есть на свете такой человек, тому, что он её любит. И в то же время, тому, что не может её любить и не может быть рядом с ней.
«Работа, работа, работа, работа!», – твердил он себе под нос, как заклинание и тут же улыбался, вспоминая удивительной красоты мир, открывавшийся ему в глазах Анны.
«Нет. Любовь – это такая болезнь, которая подомнёт под себя всё», – доказывал он себе необходимость забыть Анну и тут же думал о том, как беден был бы человек, не испытывай, хоть иногда, того, что испытывает влюблённый.
* * *
Поутру, распрощавшись с матушкой, Степан решил забежать в лес и проститься с Леной. На озере он её не нашёл.
«Возможно, ещё рано и они завтракают», – думал он, шагая к поляне. Но на поляне бегали дети. Услышав, что к женщине, сидящей на верблюжьем одеяле, обращаются, называя её Александрой Тихоновной, он подошёл к ней и спросил о Лене.
– Солнышко? С вожатой, в лагере задержалась. Мы отрядом в лес пошли, а они в столовую. Воду в чайники нальют и сейчас подойдут. Присаживайтесь, – сказала Александра Тихоновна, у которой на переносице лежал приклеенный слюной лист подорожника.
Не обратив должного внимания на предложение воспитательницы, Степан сначала пошёл быстрыми шагами, а затем побежал в сторону лагеря. Перемахнув через забор, он очень скоро отыскал столовую. То место, где, по словам воспитательницы, должна была находиться Лена.
Решив, что в чайники наливают кипячёную воду, он прошёл в зал, а затем в варочный цех. Но ни в варочном, ни в зале ни одной живой души не обрящил.
«Наверное, разминулись», – решил Степан и, окинув грустным взглядом стоящие ровными рядами квадратные столики, пошёл на выход.
Он уже вышел из столовой, как вдруг, услышав голос Тани, неистово кричавшей на кого-то, вернулся и зашёл в умывальник.
Это было довольно просторное помещение, облицованное кафелем, где в несколько рядов, плотно прижимаясь друг к другу, были размещены маленькие раковины, а при входе на стене висели аппараты для сушки рук и вафельные полотенца, сшитые концами таким образом, что могли вертеться как угодно, но упасть не могли.
Из двух раскрытых кранов под большим напором и с шумом в раковины хлестала вода. Рядом с кранами, держа одну руку на вентиле, а в другой пустой чайник, стояла Таня и теперь уже не кричала, а на повышенных тонах разговаривала с Леной. О чём-то спрашивала её, на что та отвечала молчанием. В тот момент, когда Степан вошёл, Таня, выйдя из себя, швырнула на пол алюминиевый чайник, который держала, и замахнулась для того, чтобы ударить Лену. Степан кинулся к ней и схватил за руку.
– Ты, что делаешь? С ума сошла? – Сказал он, развернув Таню к себе, и в тот же миг получил такую затрещину, что из глаз брызнули слёзы, а в носу защипало так сильно, словно туда засыпали целую горсть молотого перца. И тут же, той рукой, которую держал, но после оплеухи выпустил, Таня ударила его по другой щеке, но уже не так больно и не так неожиданно, как в первый раз.
– Мы ещё узнаем, кто сумасшедший! – Кричала багровая от гнева Таня. – Я ещё к гинекологу её отведу! Вот тогда выясним, кто из нас сумасшедший! – Вопила она, не помня себя.
Схватив Лену за руку, она силком потащила её за собой.
После столь громкой и бурной сцены в умывальнике вдруг наступила неестественная, нехорошая тишина.
Поражённый Степан стоял в оцепенении, удивляясь этой тишине, смотрел на хлещущую из кранов воду, а шума падающей воды не слышал. Он одновременно существовал как бы в двух лицах, его естество разделилось. Одна его часть, один Степан, совершал физические действия; ходил, нагибался, поднимал с пола чайник, наливал в него воду, закручивал краны. Другой Степан, сконцентрировавшись на чём-то большом, пытался себе на что-то ответить, разрешить какую-то страшную загадку, снять с себя какое-то жуткое, гадкое и нелепое обвинение.
Прежде всего, необходимо было вспомнить и понять, в чём именно он обвинялся. И на это требовалось особенное усилие и время. Мозг его напряжённо работал, жадно пытался добраться до сути, разобраться, и, наконец, всё разом понял. В одно мгновение настолько остро ощутил и прочувствовал то, в чём его обвиняли, что продлись это мгновение еще чуть-чуть – он оказался бы уже за пределами возврата в нормальное сознание, в нормальную жизнь.
Надо заметить, что даже после отгадки, после того, как всё разом понял и не переступил, возврат был нелёгким. Помогла его первая часть, занимавшаяся всё это время не контролируемыми физическими действиями.
Склонившись над раковиной, он стал поливать голову водой из чайника, вследствие чего из раздвоенного состояния пришёл в цельное, вернулся с небес на землю. Возвращение это происходило тоже не одним махом – постепенно. Как бы по ступеням.
Сначала увидел застрявший в сетке раковины розовый обмылок, на который падала вода, отчего тот блестел и шевелился, как живой. Затем услышал шум падающей ему на голову воды, ощутил лбом холодный камень раковины, на которую, оказывается, опирался. Почувствовал, что вода залилась в ухо, за шиворот и струйками бежит по груди и спине.
Не думая ни о Лене, ни о Тане, боясь касаться мыслями того, что совсем недавно с ним произошло, Степан пригладил мокрые волосы и, осторожно ступая, глядя под ноги, медленно пошёл на выход. Чайник, который машинально нёс с собой в руке, он оставил на обшарпанном столе, при выходе из столовой.
По дороге к станции, которая шла вдоль железнодорожного полотна, Степану стало легче. Он пришёл в себя, но ступал всё ещё не твёрдо, так как каждый шаг отдавался болью в затылке. Когда мимо, совсем рядом, проходили товарные поезда, он останавливался, брался руками за голову и стоял, пережидая, пока поезда пройдут. Лежавшие под ногами камни, летевшие на тропинку с железнодорожной насыпи, оказались для него не меньшими врагами, чем проходящие товарняки. Стоило наступить на какой-нибудь камень, как тотчас кто-то невидимый вбивал ему молотком в затылок гвоздь, а так как из-за их многочисленности не наступать на них было невозможно, то это вбивание повторялось бесконечно. Это раздражало, но, в конце концов, он к этому привык. А после того, как взял один из этих камней в руку, то они и вовсе перестали его донимать.
Шагая по тропинке, он этот камень сжимал в кулаке, а придя на станцию, бросил на перрон, к себе под ноги, и стал футболить. Вспомнился следующий, после похорон Петра Петровича, день. Тот момент обеденного перерыва, когда сидя с Фёдором в кафе, они ели курицу.
«Приеду, куплю, зажарю в духовке и съем вместе с костями», – думал он, сглатывая слюну.
– Сделаю с перцем, с подливой, как люблю, – сказал он вслух.
Сказал негромко, но тут же смутился и лишь когда, оглядевшись, понял, что никто его не слышал, позволил себе улыбнуться.
Постоял, помечтал о курице. О том, как станет её жарить и вдруг с курицы перескочил совершенно на другое, подумал о Лене.
«Ну что я за человек? – Размышлял он. – Даже тем, кто жизнь спасает, приношу одни неприятности. Может, кто сглазил? Может, и впрямь походить в церковь, как Федя учил? Хуже не будет. Да, да. Обязательно. Сегодня же и пойду».
Дорога к дому не оставила следа в его памяти, запомнился лишь разговор двух женщин, который услышал не то в электричке, не то в вагоне Московского метрополитена.
– Какое сегодня число? – Спрашивала одна из них.
– Кажись, двадцать третье. Точно, двадцать третье, – отвечала другая. – Знаешь, почему? Вчера молоко покупала, на нём было проставлено двадцать четвёртое число, так продавщица говорила – берите, мол, свежее. Видите, на два дня вперёд нумеровано. Значит, сегодня двадцать третье.
Добравшись до московской квартиры, Степан забыл и о церкви, в которую собирался идти, и о курице. Даже не позвонил Фёдору, о судьбе которого накануне так беспокоился. Не раздеваясь, не разуваясь, свалился лицом вниз на постель и проспал в таком положении, не просыпаясь и не поворачиваясь, весь остаток дня и всю следующую за днём ночь.
* * *
Максим с того момента, как расстался с Жанной, не переставал думать о ней, о её муже и о том положении, в котором сам оказался. Искал для всех приемлемый выход и, наконец, нашёл. Решил, что Жанна должна развестись с мужем и выйти замуж за него. «А иначе припугну, – думал он. – Скажу, что встречаться не буду, брошу». Этого «иначе», по его мнению, быть не могло, так как он полностью был уверен в своей власти над Жанной, в том, что она его любит.
План «припугнуть», как безотказно действующий, являлся в его предстоящих уговорах главным и единственным козырем. Но козырь так и не был пущен в ход, по причине изменившейся ситуации. А она изменилась настолько, что ему, вместо того чтобы пугать, пришлось самому быть напуганным.
Придя к Жанне, он нашёл её в слезах, и разговор, произошедший между ними, был полон нелепостей. Жанна откровенно врала, говорила, что полюбила другого, при этом плакала. Максим не мог понять, зачем ей это нужно и в основном помалкивал. Помалкивал до тех пор, пока она не заявила о том, что им нужно расстаться. Тогда Максим не выдержал и сказал ей о том, что она говорит не то, что думает, и ему это слишком заметно, вот только непонятно одно – зачем она это делает?
– Я плохая, – стала говорить Жанна. – И я тебя обманывала. Ольга пригласила меня к себе за бананами, у неё знакомства в овощном, и сказала, что есть хорошенький мальчик на ночь. Сказала, что сама давно в хорошеньких, но не подходящих не влюбляется и если бы ты, в ту, первую ночь остался, то я бы тебе заплатила. Понял, какая я.? Какую ты любишь?
– Мне всё равно, говори что угодно, – ответил Максим. – Я тебя не разлюблю и не брошу. И потом, неизвестно ещё кто из нас хуже. Ведь я знал, куда и зачем еду, мне обещали деньги. Так что не ты плохая, а я плохой. Ты святая, только сама этого не знаешь.
– Святая? Ах, да. Ты же веришь в рай, в Бога. Ведь веришь?
Максим промолчал.
– Веришь, – ответила за него Жанна. – Ты и в любовь веришь. А я верю в страсть, а в любовь не верю. Поэтому, наверное, не верю и в Бога! Мне так нравится земная жизнь, что точно знаю – ни в каком раю мне лучше не будет. И ты, Максим, привык бы ко мне, страсть твоя иссякла бы, а с нею вместе исчезло б и то, что называешь любовью.
– Не говори так. Мне неприятно, – сказал Максим, вглядываясь в бледное, зарёванное лицо любимой, на котором от слёз и бессонной ночи вокруг глаз залегли глубокие тени. – Мне неприятно, – повторил он. – И тебе самой, я же вижу, тоже неприятно. Ни думать, ни говорить так. Вон, опять плачешь.
Максим разглядывал её лицо с каким-то особенным интересом, пристально всматривался в каждую пору, в каждую ресничку. Лицо было чистое, кожа нежная. Он любовно погладил её лицо. Погладил потому, что очень захотелось погладить. Жанна закрыла глаза и сказала:
– Ещё.
Максим медлил. Ему ужасно хотелось погладить ещё раз дорогое его сердцу лицо, ещё раз прикоснуться к нему, но он почему-то опустил руку.
– Что во мне ты нашёл, – заговорила Жанна шёпотом, не открывая глаз. – Столько других, более красивых, более достойных?
– Они мне не нужны, – еле слышно сказал Максим. – Я люблю тебя.
Жанна открыла глаза, о чём-то задумалась и после непродолжительной паузы спросила:
– Скажи, ты чувствовал когда-нибудь себя одиноким?
– Нет, – подумав, ответил Максим.
– Я так и знала. Мне кажется, что ты, даже когда долгое время находишься один, одиноким себя не ощущаешь. Правильно?
– Правильно, – согласился Максим.
– Счастливчик. А я, как мне кажется, с детства была одинока, и чувство одиночества ни на секунду с тех пор не оставляло меня. Ты нежный, внимательный, с тобой я забывала об одиночестве, но поверь, нам нужно расстаться. Мне нужно быть одной. Ах, если бы родители не ругались каждый день, не делали бы меня, постоянно, по каждому пустяку, судьёй. Быть может, многого плохого, того, что в жизни моей было, удалось бы избежать. Может быть, и брака этого дурацкого, не было бы. Как хорошо, что мы с тобой встретились, но как жалко, что мы встретились поздно.
– Всё можно поправить.
– Разве можно поправить то, что было?
– Можно, – неуверенно сказал Максим.
Жанна хмыкнула в ответ и, как-то многозначительно взглянув на него, грустно улыбнулась.
– Я, может, и хотела бы быть с тобой, но не могу.
– Почему?
– Потому, что люблю тебя.
– Разве так можно?
– Так нужно. Поверь.
Жанна молча плакала, слёзы катились по щекам, Максим целовал её слёзы и плакал вместе с ней.
Запретив Максиму идти за собой, Жанна поехала к Косте «Марселю». В автобусе и в метро он не подходил к ней, и они ехали, как чужие, но оставить её, как того просила Жанна, Максим не мог и как хвостик, доплёлся до подъезда, известного читателю, как подъезд Жанкиля.
Костя был пьян, сидел за плохоньким столом, в своей комнате с подтёками на потолке. Он пил один с четырёх утра и к приходу Жанны, которого никак не ожидал, уже порядочно нагрузился. На столе стояла вторая бутылка, отпитая наполовину и пустой стакан. Первая, пустая, валялась под столом.
Из закуски остался хлеб, который был даже не чёрствый, а совершенно сухой, такой, какой не брался зубами. Закусывать им было нельзя, можно было только занюхивать.
Костя сидел за столом, наливал себе водку в стакан, выпивал её, а заодно с этим, главным для него занятием, вёл беседу с Жанной, которая стояла у двери, ломая руки и кусая губы.
– Он не узнает, – говорила Жанна Косте, имея в виду мужа. – Не заметит нас вместе.
– Я же заметил, – безжалостно рубил Жанкиль.
– Поверь, – расплакавшись вдруг, запричитала Жанна. – Ни кого я так не любила. Ни с кем ничего подобного не испытывала. Стоит ему приблизиться, обнять – я лишаюсь чувств!
– Это от осознания невозможности долгого счастья. От предчувствия скорого конца. А если ты его действительно любишь, то хуже для тебя. Тяжелее будет сказать ему, чтобы тебя оставил.
– А может, всё-таки не надо говорить? – Взмолилась Жанна.
– Хочешь, чтобы его убили?
– Да, да, хорошо. Я скажу. Скажу ему. Вот только не знаю, как. Не знаю, как это получится. Ведь надо сказать, чтобы поверил, а я ему так сказать не смогу.
Узнав, что Максим у подъезда, Костя вызвался помочь и уговорил Жанну прогуляться с ним под ручку у влюблённого на виду, что должно было, по его мнению, заменить все объяснения и поставить в отношениях точку.
Перед тем, как выйти, Жанкиль надел свой парадный кожаный наряд, модные тёмные очки, повязал на голову пиратскую косынку цвета морской волны, то есть, оделся точно так же, каким видели его Степан и Фёдор в доме у Черногуза.
Максим ходил по улице Семашко, поглядывал на подъезд и ждал Жанну. Ждал, как ему казалось, долго.
Мимо него, тем временем, проходила замечательная в своём роде процессия. Первым шёл, пожилой, сильно пьяный мужчина. Следом за ним, на безопасном, по их мнению, расстоянии, шагала ватага мальчиков и девочек общей численностью человек до двадцати, в возрасте от десяти до двух лет. Мужчина шёл неровно, то и дело спотыкался и падал. Вставая же, всякий раз, поворачивался к детям и грозил им кулаком, что в группе сопровождения вызывало бурную реакцию, выражавшуюся в крике, гиканье и смехе.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































