Текст книги "Люблю"
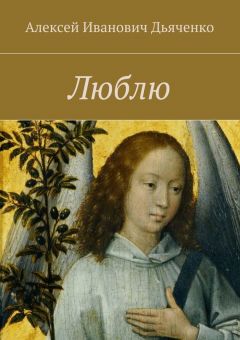
Автор книги: Алексей Дьяченко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 31 страниц)
Дети шли осторожно, в любой момент ожидая броска в свою сторону. Держали в руках прутья, палки, земляные комья и камни. Глаза у всех, даже у самых маленьких, горели кровожадным огнём, хищно поблескивали. Они с каким-то недетским азартом преследовали свою жертву.
Всё это Максиму не нравилось и напоминало травлю смертельно раненого зверя охотниками. Глядя на всё это, при других обстоятельствах, в другом расположении духа, он, возможно, только бы улыбнулся, но в тот момент вид детей, агрессивно настроенных, сбившихся в шайку, грозящих пьяному дядьке палками, его чрезвычайно расстроил.
И вот подъездная дверь открылась и из неё вышла Жанна в обнимку с незнакомым мужчиной. На мужчину Максим не смотрел, он смотрел на Жанну, которая, увидев его, сделала движение губами. Ему показалось, что она хотела с ним заговорить, что-то сказать ему, но почему-то не решилась.
Жанна и незнакомый мужчина прошли мимо него и слегка качаясь, направились в сторону Калининского проспекта. А качались они потому, что Жанкиль, подобно тому пьяному, за которым шли дети, плохо держался на ногах и увлекал за собой Жанну, которую вместо того, чтобы как договаривались, взять под ручку, по своей инициативе, что впрочем, не нарушало их плана, обнимал за талию.
«Я люблю её, – думал Максим, глядя на Жанну, которой было неловко идти в обнимку с незнакомым мужчиной. – Люблю и за хорошее и за плохое». О плохом сказал для красного словца, ничего дурного он в ней не замечал.
«И даже хорошо, что оно так вышло и правильно, – уговаривал он себя. – Я просто не подумал, где бы мы жили теперь и на что. И даже лучше, что немного поживёт у старика, всё равно она его не любит. Всё равно живёт только мыслями обо мне, как и я о ней. Пусть на время всё останется так, как есть».
Он говорил о старике-муже, словно незнакомого мужчины, так бесцеремонно обнимавшего его любимую, не существовало, и он не видел их, идущими вместе.
* * *
В то время, когда Фёдор звонил в квартиру, Анна с хозяйкой была в соседнем подъезде. Дочь Медведицы, Тося, там скандалила с пьяным мужем, Глухарёвым.
Скандал вышел из-за того, что Глухарёв записался непонятно куда на круглосуточное дежурство и, несмотря на то, что принёс много денег и обещал принести ещё больше, она его не отпускала. Слушать ничего не хотела, читать увещевательное письмо, написанное рукой Пацканя, не желала.
Тося супруга своего «за мужика» не считала и как с мужем, с ним давно не жила, но не переставала ревновать его к мифическим, ею же придуманным бабам. И на этот раз, совершенно была уверена в том, что «дежурство», не что иное, как ширма. А, на деле её муж, со своим двоюродным братом, развратничает и проводит время с женщинами. Принесённые деньги её в этом только убеждали.
Принимая участие в семейном разбирательстве, Медведица взялась держать сторону зятя и стала кричать на дочь благим матом, разжигая тем самым, и без того полыхавшее пламя раздора. Скандал, сопровождавшийся взаимными оскорблениями и угрозами, набирал обороты и готовился перейти в потасовку. Тосины дети: мальчик Аркадий четырёх лет и трёхлетняя девочка Олеся, плакали, на них никто не обращал внимания.
Анна, которая пошла с Медведицей по настоятельной просьбе последней, взяла их за руки, вывела из комнаты, в которой готовилось сражение и, стирая слёзы с детских щёк, сказала, что они сейчас пойдут в гости к бабушке, а когда мама с папой помирятся, тогда придет время вернуться домой.
Замечательно то, что дети, услышав о походе в гости, тотчас перестали плакать и проявили завидную быстроту и практичность в сборах. В считанные минуты оделись, обулись, предусмотрительно захватили книгу сказок, которую, по их уговору, «тётенька» должна была им читать и взяли с собой стеклянную банку с хомяком, которому без них будет скучно.
Приведя детей в квартиру к Медведице, Анна остановилась на пороге и на мгновение растерялась. Дело в том, что она намеревалась пригласить детей в свою комнату, но не знала, как к этому отнесётся Матрёна Васильевна, вести же их в комнату, где стояла и пенилась брага в трёхсотлитровой бочке ей казалось противоестественным.
Дети, как выяснилось, бывавшие в этой квартире не раз, сами выбрали место своего пребывания. Они без особого приглашения, зашагали по коридору и вошли в комнату, сплошь уставленную тазами, чугунами и кастрюльками, где пенилась брага, где дневала и ночевала Медведица. Анна следом за детьми не последовала, прошла на кухню и взялась полоскать и отжимать бельё, плававшее в ванне.
Когда она вошла в комнату, где дети пробыли наедине не более пяти минут, увидела такую картину. Аркадий и Олеся сидели на кастрюлях у шкафа, а вокруг лежали открытые коробки с сахаром и распечатанные пакеты с сахарным песком. Кусков восемь сахара, обсосав, они положили на кастрюлю, стоявшую на полу кверху дном (не забыли бросить рафинад и хомяку в банку) и пробовали теперь сахарный песок. А делали это так: облизав пальцы, опускали их в пакеты, песок прилипал, они его слизывали, и всё повторялось снова. Увидев всё это, Анна беспомощно рассмеялась.
– Зачем вы все открыли? – Спросила она, не ожидая ответа. Но ей ответили, и в детском ответе был свой резон.
– Искали, где слаще, – сказал Аркадий.
– Он везде одинаковый, – умоляюще зашептала Анна, закупоривая пакеты и укладывая их назад, на дно шкафа.
– Неодинаковый, – наперебой закричали дети, – здесь слаще!
– Вот и ешьте из этого пакета, остальные я уберу.
– Не убирай, – сказал Аркадий. – Может, будет ещё слаще.
– Но вы же сказали, что самый сладкий в этом пакете?
– А мы ещё не знаем точно, – сказала Олеся, поддерживая брата и посмотрела на Анну уставшими, не по-детски грустными, глазами.
Спор грозил затянуться, но в этот момент в комнату вошла Медведица и накричала на детей.
– Куда не спрячь, везде найдут! – Приговаривала она в отчаянии.
Медведица отняла у внука и внучки обсосанные куски, не поленилась, достала сахар даже у хомяка из банки, бросила всё это добро в бочку с брагой и только после этого успокоилась.
Напрасно Анна просила этого не делать, обещая купить сахар, её не слушали. Дети снова стали плакать, насилу Анне их удалось отвлечь и успокоить. Она стала делать им из бумаги кораблики, пароходы с трубами, журавликов и лишь только заметила, что они клонят головы и хотят спать, повела их в другую комнату и уложила в свою постель.
Увидев это, старуха, прокашлявшись, возроптала.
– Что делаешь? Сама-то где спать будешь? Они же писуны. Их за это в детский сад не взяли. Смотри, напрудонят целое море.
– Постираю, – ответила Анна. – А, спать мне всё равно где, я и на полу хорошо высплюсь.
– Ишь, расхозяйничалась. А что, как прогоню?
– Вы, Матрёна Васильевна, не пугайте, не боюсь. Если ещё раз так скажете, сама уйду.
– Что ты, что ты, Нюра, я пошутить хотела, – испуганно заговорила старуха. – Да, и куда пойдёшь? Тебе ж идти некуда?
– Пойду куда-нибудь. Не пропаду. Мир не без добрых людей.
– Так ты, как проснуться, и кормить их будешь?
– Конечно, буду, не голодом же морить.
– Да, Нюра, я-то знаю, что такое голод. Брат у меня в тридцать втором годе от голода на руках умер. Всё стонал до последней минуты: «хлебушка, хлебушка, дайте хлебушка».
Матрёна Васильевна встала, подошла к росшему на подоконнике лимонному деревцу, отрезала собственноручно, единственный жёлтый лимон и подарила его Анне.
– С чаем пей, – сказала она. – Медведице не давай. Хотя, пожалуй, как знаешь. На меня сердца не держи, я уже старая, из ума выжила, молодых не понимаю. Бывает, скажу, что не так, ты за это прости.
– И вы меня простите, Матрёна Васильевна, если что не так. И не стесняйтесь, если что не так, говорите.
– Перестань, – прослезилась старуха, – всё хорошо, всё так. – Она вытерла слёзы и спросила. – Зачем пугала, что уйдёшь?
– Не буду больше, – пообещала Анна, но старуха не успокаивалась.
– Тебе разве плохо? – Интересовалась она. – Если Медведица обижает, только скажи. Позову участкового… В один миг за ней двери закроем.
– Да, что вы, Матрёна Васильевна, успокойтесь. Мне у вас хорошо, никто не обижает. Не думайте об этом, давайте чай с лимоном пить.
После этих слов старуха успокоилась. Анна заварила свежий чай и, разрезав лимон пополам, отрезав от середины дольку, бросила её в стакан Матрёны Васильевны.
На полу Анне спать не пришлось, прибежала Тося, посмотрела на спящих детей, умилялась, принесла раскладушку с матрасом, подушку и свежее бельё.
После того, как Тося ушла, а старуха уснула, Медведица, сидя на кухне, попивая чай без лимона, боялась отравиться, шёпотом рассказывала Анне те причины, из-за которых в минувшем споре держала сторону Глухарёва, выступая против дочери.
– Ты её не знаешь, она сама хороша, – говорила Медведица о дочери. – Другой бы убил давно, а Глухарь притерпелся к её изменам и сдался. Она, когда крутила хвостом, прямо в глаза ему говорила: знаю, что меня убить надо и если бы убил, в обиде не была. Ну, а когда убить не можешь, тогда фокусы мои терпи. И он терпел и до сих пор терпит. Вся беда оттого, что она, подлая, страх потеряла, а с ним и совесть. А, зять у меня хороший, он, когда пивом в палатке торговал, Тоська была, как шёлковая. Да, и то сказать – в белом халате ходил, как доктор-врач какой-нибудь. Мне нравилось, когда он был в белом халате. Белый халат, он, знаешь, человеку представительность даёт. Глухарь мне много рассказывал тогда, о своей работе. Одному пива не долил, тот в амбицию, чуть ли уже с кулаками не лезет, но прежде, всё же интересуется: «Ты чего не долил-то?». А, зять ему: «Зато не разбавляю». Тот сразу и заткнулся. Но, перед тем ещё сказал: «Это, точно, пиво неразбавленное». А, Глухарь мне так говорил: «зачем я, мам, буду людей травить, доливать чего-то? Я с шофёром договорюсь, норма триста литров, а он мне триста пятьдесят зальёт и я уже в наваре. Зачем мне людям здоровье гробить? А, шофёру я дам, сколько надо и он доволен». А емкостей свободных у него там, в палатке, много, было, куда лишнее пиво залить. И поверишь, в последнее время, как в палатке работал, он совсем не пил, стоял у него под прилавком ящичек с минеральной водой вот и всё. Ну, а потом, как поругался с начальником, выгнали, с тех пор и запил. И для моей заразы сразу немилым стал. Сучка, нет ей другого слова, а муж у неё золотой. Да, у него такая тяжёлая судьба, детство какое трудное было, всё же это надо понять. Его мать родила и кормить отказалась, поступила хуже свирепой волчицы, та и то дитё своё не бросает. Бабка-мать её научила, сказала: «не корми его, пусть умрёт». Не хотели они ребёнка. Мать бросила Глухаря на печку, так он там и лежал. Кинет ему солёный мякиш из чёрного хлеба, в тряпку обёрнутый, он сосёт его, тем и жив. Шерсть собачья от такой еды всё его тело покрыла, даже маленький хвостик вырос. Ну и когда обнаружили родственники его на печи, развернули тряпки-то, в которые он был обёрнут, смотрят – а он весь в шерсти и с хвостом. Взяли они его к себе, стали кормить. Жиденькую кашку сварят на молочке, киселёк. Ну, и шерсть постепенно пропала, парень выровнялся, стал расти и хвостик сам, постепенно, рассосался. Ты сама видела, тридцати пяти лет, а всё мальчишкой выглядит, да какой больной весь, что только не болит. И желудок, и печёнка, и голова. Прибежит, бывало ко мне, плачет, говорит, Медведица, дай ты мне хоть какие-нибудь таблеточки. Страдает от этого, от болей, ну и пьёт. Простить ему всё это надо.
Медведица постоянно бранила дочь и постоянно вспоминала сына, говоря: «Вот он бы всё делал так, как надо, и не страдала бы, не мучилась я так, как с этой».
Анна представляла себе сына Медведицы добрым, порядочным, любящим и очень удивилась, когда Матрёна Васильевна впоследствии сказала ей, что сын этот грабил мать, больно бил её, хотел зарезать, а главное – что Медведица сама посадила его в тюрьму.
Часть восьмая
Среда. Двадцать четвёртое июня
Утром, ровно в девять часов, Фёдор был у подъезда Ватракшина. В «Мерседесе» Ильи Сельверстовича, стоявшем чуть поодаль, уже сидела Марина. Несмотря на утро, выглядела она по-вечернему томно. Только глаза оживлённо блестели, контрастируя с её медлительными и осторожными движениями. С первого взгляда становилось ясно, что говорить она ни с кем не расположена и возможно, несмотря на открытые глаза, спит.
Фёдор решил не лезть к Марине с приветствиями, стал дожидаться хозяина авто.
Вскоре появился Ватракшин. Поздоровался с Фёдором за руку и молча, жестом, пригласил его в машину. Сам уселся за руль и «Мерседес» отправился в путь.
– Вчера не смотрели по телевизору программу? – Сразу заговорил Илья Сельверстович. – Трое молодых людей, как бы это помягче сказать, отмудохали попа, так тому и надо. И, как вы думаете – за что? За несоответствие. Вы видели эту передачу, Фёдор Лексеич?
– Не видел, – сказал Фёдор.
– Тогда спокойно можно врать, – хохотнул Ватракшин. – Так вот. Серьёзно. Пострадавший оказался не священником, а таким же шалопаем, как и те, кто его мудохал. В Храме Божьем, в котором служил, девчонкам подмигивал, в доме у себя держал магнитофон с кассетами модными, а возможно, и журналы неприличные листал в свободное от работы время. Половина из сказанного – чистейшая правда, половину домыслил я, сколько смог, про подмаргивания, про журналы с картинками. Вот те трое увидели всё это несоответствие и подстерегли плутоватого, в ход пустили кулаки. Это несоответствие формы и содержания, оно природу человеческую более всего задевает. Я это знаю по себе. В одних случаях всё кончается смехом. Ну, а в других – мордобоем, что в данном случае и произошло. Мне этот попович тоже не понравился. Вы, спросите – как я определил, что он не соответствует сану? Отвечу. Ну, во-первых, по внешнему виду определил, а во-вторых, он на вопрос журналиста: «Верите ли вы в то, что когда-нибудь все люди на земле уверуют в Бога?». – Ответил: «Нет». И так мотивировал: «Сам Христос ходил, проповедовал, и тому не поверили». Или нет, подождите, он не так, не точно так выразился, он сказал: «Сам Христос ходил, проповедовал и то не уверовали». Вот так сказал, а затем добавил – куда ж, дескать, нам-то, со свиным рылом да в калашный ряд. Что с нас-то спрашиваете? Я, как это услышал, так даже на месте подскочил. Как же, думаю, ты, подлец, молишься, как же просишь ты тогда у Бога своего, чтобы царство его с небес сошло на землю? Просишь, молишься, и в то же время сам тому не веришь? Читаю, дескать, молитву назубок, как стишок школьный: «Чижик-пыжик, где ты был? На базаре водку пил», и плевать на остальное. Как говорится, деньги платят, да и ладно. А главное – у прохвоста на лице всё это написано. Ну, то есть, что он неверующий. Вот ребята за это его и поколотили. Убеждён, что только за это и ни за что другое. Ведь вспомните, Фёдор Лексеич, ходил же Флоренский Павел в рясе, соблазнённым математику и физику читать. Страну, тогда уже крыло поганое накрыло, вороны кремлёвские крови просили, ан не посмели, не тронули. А ведь он не только в Университете, он и по улицам в облачении свободно ходил, в то-то время бесовское, когда зло кипело в сердцах и жизнь человеческая ничего не стоила. Когда ношение рясы было уже смертельным преступлением. Вот я смотрел вчера передачу, вспоминал Флоренского и мысленно у этого попа избиенного спрашивал: «Как же так? Как же это ты, шалопут, стал православным священником и не веришь в Бога? Заметьте, будь он католик или протестант, я бы и слова ему не сказал, те все воры и лицедеи, то нам известно, но вот представитель русской веры, веры отцов и дедов, веры правой и славной – и не верит, что Царство Божие воцарится на земле, не верит в то, что все уверуют! Мне, мне, Илье Ватракшину, можно было бы так говорить и то страшно, и то подсудно, а кто знает, вдруг взыщется, что же, думаю, ты, называющийся пастырем, не боишься слова такие говорить, позволяешь себе такое? Ты тот, кто не имеет права сомневаться в том, что проповедуешь. А иначе – что же получается? Получается, что мы такие же протестанты-католики. Сплошное лицемерие получается!
– А мне кажется, Флоренского потому не трогали, – взволнованно заговорила Марина, которая от эмоционального многословия Ватракшина, спать расхотела, – что в народе тогда сильна была вера, и зло в их сердца, корней ещё не пустило. Они только дышали прокажённым воздухом, но проказой не болели. А теперь избили как раз беспричинно злые, безнадёжно больные проказой коммунизма. Мне кажется, что наше время намного страшнее, чем то, послереволюционное. На днях, тоже по телевизору, выступал кинорежиссёр Абдрашитов и сказал, что гений и злодейство стали совместимы. Куда же дальше идти после этого? По-моему, приехали. Я после этих слов его всю ночь не спала, да и не одну ночь, если говорить откровенно. Я, думала-думала и согласилась с ним. А ведь действительно, так! Всё теперь настолько перемешалось, так соединилось и переплелось, что не поймёшь, где добро, а где зло.
– Значит, близится конец света, грядёт Антихрист в силе и славе своей? – Как-то весело, нараспев, спросил Ватракшин у Марины, при этом многозначительно посмотрев через зеркальце на Фёдора, сидевшего и отмалчивавшегося, как бы адресуя вопрос и к нему.
– Выходит так, – подтвердила Марина. – Где-то пишут, что конец света будет через год. Где-то, что через пять лет. Год, пять лет, какая разница? Я сама лично не знаю когда, но чувствую, что скоро. Не я одна это чувствую, все чувствуют, что конец света не за горами. Спросите, об этом вам скажет даже ребёнок. А насчёт того, что гений и злодейство стали совместимы, мне ещё передавали одно подтверждение. В ГИТИСе совсем недавно была беседа, на которую приходил священник, и он говорил то же самое, слово в слово, как Абдрашитов. А священник непростой, он до Семинарии Университет закончил, по образованию филолог, очень знаменитый, известный и даже, я бы сказала, модный. Отец Арсений.
– А-а, этот сладкоголосый козлик. Теле-радио-звезда? Ненавижу, – сказал Ватракшин, скрипя зубами. – Очень хорошо его знаю. Вот кому нужно было бы морду набить.
Фёдор, ехавший молча и в полемику не вступавший, в отличие от Ватракшина, отца Арсения очень любил. Отец Арсений, как и всякий живой человек, имел недостатки, страдал словолюбием, временами приводившим к словоблудию, к путанице в словах и понятиях. Сердце же отец Арсений имел чистое, за что Фёдором, несмотря на все свои недостатки, и был любим. Фёдор вспомнил ту беседу в ГИТИСе, он присутствовал на ней. Отец Арсений действительно сказал там много лишнего, в числе чего и о гениях-злодеях. Фёдор, после беседы, которая строилась в форме урока-монолога, подошёл к батюшке и сказал: «Вы меня своими словами смутили». Узнав, какими именно, отец Арсений тут же поправился и извинился. Но, сболтнул-то (как выражались тогда же о нём многие) он всем, а о его поправке было известно только Фёдору. Поэтому, когда выйдя из класса, Фёдор услышал: «Заговорился святой отец, договорился до того, что сказал: Бога нет», – ему стало грустно. Вот и Марине не передали его опровержение собственным словам, хотя Фёдор объявил о нём и жарко спорил, доказывая, что именно это истинная мысль, которую хотел донести священник. «Духовенству, – думал он теперь, – надо строго следить за своими словами. Священников слушают по-особенному».
– Вы чего, Фёдор Лексеич, всё молчите? – Поинтересовался Ватракшин, обращаясь напрямую. – А впрочем, это хорошо. Молчание ценное качество, а иначе пришлось бы молчать нам. Я признаться, тоже не охотник болтать, вот только сегодня что-то разговорился. Как вы считаете, Фёдор Лексеич, близок конец света?
– Нет. Считаю, не близок. Человечество ещё молодо, кого Антихристу соблазнять? Оно должно пройти длинный путь своего развития, устроиться единым миром, избавиться от голода и болезней, зажить счастливо, пресытиться доброделанием, если можно так выразиться, зажировать. Вот тогда может быть. А теперь-то что? Куда Антихристу приходить? Некуда.
– Очень интересное замечание, – сказал Ватракшин и, кинув мгновенный взгляд на Фёдора, через зеркальце, тут же спросил. – Бьюсь об заклад, что вы со словами о злых гениях не согласны?
– Не согласен, – подтвердил Фёдор. – Для меня слова пушкинского Моцарта очень дороги и изменениям не подлежат. Могу объяснить, как я это понимаю.
– Сделайте одолжение, – хохотнул Ватракшин.
– Гений, человек избранный для утверждения добра. Он на обдуманное зло, коим злодейство, бесспорно, является, конечно, не способен. Так было, есть и будет всегда. Признаюсь, считаю, что и вы, Илья Сель… – Фёдор запнулся.
– Сельверст. Сельверст, русское имя. Не Сельвестр, а Сельверст, Сельверстович, – тут же подсказал и объяснил Ватракшин.
– Да, спасибо, – продолжал Фёдор. – Считаю, что и вы, Илья Сельверстович, точно такого же мнения.
– Да. Такого же. А почему? С чего это вы так узнали?
– Потому, что вы достаточно умны для того, чтобы разбираться в простейшем.
Фёдор намеренно грубил, мстил Ватракшину за то, что, когда об отце Арсении тот говорил «ненавижу», не сказал вовремя своё «люблю».
– Достаточно? – Хихикнул Ватракшин. – Ну, что ж, спасибо и за это.
Всю оставшуюся дорогу провели в молчании. Подъезжая к месту, свернули на специальную дорогу, проехали мимо автодорожного знака с изображением кирпича и, въехав за забор, отделявший дачный посёлок от внешнего мира, очень скоро оказались у дома Ильи Сельверстовича.
Дом был большой, в два этажа. Построенный из белого кирпича, имел четырёхскатную медную крышу и множество окон, балконов и труб.
Из-за того, что все эти окна балконы и трубы были расположены на разных уровнях и разнились в размерах, создавалось впечатление, что дом изломан и перекошен.
Фёдор ещё не знал, как дом устроен внутри, но снаружи вид у него был непривлекательный, можно сказать – нелепый.
О своих замечаниях он никому ничего не сказал, впрочем, его и не спрашивали. Хозяину, как казалось, было всё равно, какое впечатление его жилище произвело на гостей, а проснувшаяся в машине Марина, снова ходила томная, ничего не замечала и похоже, опять с открытыми глазами спала.
Сразу по приезду Илья Сельверстович повёл Фёдора и Марину к небольшим хозяйственным постройкам, прятавшимся за домом. Показал зверей и птиц из «живого уголка» своей дочери, Ядвиги. Карликового петушка, двух серых гусынь, одного белого гуся и крольчиху с крольчатами.
– Я взял её покрытую, – стал Ватракшин рассказывать о крольчихе. – Обещали, что четырнадцать штук принесёт, а она вот только шестерых. И тех поначалу прятала, нельзя на них было даже взглянуть, сразу бы загрызла. Это всё дочь моя, Ядвига, знает. Она за ними следит.
Он открыл крышку у ящика и стал доставать оттуда крольчат.
– Держите, – говорил он, протягивая кроликов Марине и Фёдору. – Теперь можно. Вы их за уши берите, их надо за уши держать.
Фёдор взял крольчонка за уши, как учили, но крольчонку это явно не нравилось, он весь дёргался, стараясь вырваться. Лишь после того, как Фёдор подставил ему под задние лапы ладонь и усадил его на неё, крольчонок успокоился и затих.
– Видали, какие? – Говорил Илья Сельверстович, разглядывая крольчат. – Смотрите. Видите, у них ушки чёрные, хвостики чёрные и носы чёрные, это они в папашу. Мать у них белая, без единого пятнышка.
Ватракшин рассказал о том, какая крольчиха заботливая мать, затем сказал много лестного о карликовом петушке, особенно отметив тот факт, что петушок кричит «кукареку» ровно через час и не просто так, как взбредёт ему в голову, а именно в шесть, семь, восемь, девять и так далее. То есть, является фактически живыми часами. Рассказал о том, что гуси очень умные и любят слушать разговоры. Что гусак одну гусыню любит, а другую щипает, житья не даёт.
Гуси и впрямь смотрели на Илью Сельверстовича так, что казалось, они его слушают и понимают.
После зверинца хозяин пригласил в дом, на лёгкий завтрак. Завтрак, на самом деле, был лёгкий, символический – чай и варенье. Даже хлеба к варенью не подали.
Служанка, которую в своё первое посещение Ватракшина, Фёдор видел на московской квартире, жила и хозяйничала теперь на даче. Завтракали втроём, сидя за круглым столом, на просторном балконе второго этажа. Выпив чашку чая одним махом и нервно поковыряв чайной ложкой варенье, положенное в блюдце, Ватракшин вдруг без всяких видимых причин заговорил о народе. Заговорил так, словно Фёдор и Марина до этого без умолку болтали, не давая ему вставить слова и только теперь, наконец, пришла его очередь. То есть заговорил с необыкновенным жаром:
– Для всякого народа, – говорил Ватракшин, – есть только два исторических пути: языческий путь самодовольства, костнения и смерти и христианский путь самосознания, совершенствования и жизни. Только для абсолютного существа, для Бога, самосознание есть самодовольство, и неизменность есть жизнь. Для всякого же ограниченного бытия, следовательно, и для народа, самосознание есть самоосуждение, и жизнь есть изменение. Если бы я был Генеральным Секретарём, отменил бы нравственность. Разрешил бы жить с кем угодно. Да, да, кому угодно и с кем угодно, без предрассудков. Дал бы всем свободу и эту свободу пропагандировал бы и защищал юридически, то есть законами. Скотоложство, мужеложство? Пожалуйста! Есть тяга спать с малолетними детьми? Тоже не возбраняется. Скажете – растление, а я скажу – развитие и образование. Кто прав? Кто скажет, что я не прав? Я раскрепостил бы людей, снял бы с них путы, отомкнул бы все их тайные замки и засовы. Дал бы стимул к жизни, этим бы и оправдался перед Богом, если Он есть. Любишь мальчиков? Люби, мы не осудим. Любишь овечку, овечка жена твоя? Пожалуйста, не надо краснеть, ты нам не мерзок. На земле наступило бы истинное царство любви, и не было бы зависти, ненависти. Общество, открытое для любви, исцелилось бы от болезней и бедности, как вы, Фёдор Лексеич, справедливо давеча заметили. Как? Согласны с моим рецептом спасения? Чего ж вы молчите? – Ватракшин как-то болезненно оживился. – А хотите, дам вам совет, как писать? Сделайте главным героем подлость, низость, мерзость, что угодно на выбор, и пишите. Это и общество шокирует и на весь мир прогремит, а главное, всеми примется. Спросите – почему? Отвечу. Потому что подлость, низость и мерзость, всем одинаково понятны и близки!
Глаза у Ватракшина блестели, сам он весь побелел, за столом воцарилась напряжённая тишина. Выдержав паузу, Илья Сельверстович захохотал болезненным, деревянным смехом, как сумасшедший. Отсмеявшись, вытерев носовым платком с лица, вдруг выступивший пот, он налил себе в чашку чая и стал разоблачать сказанное.
– Это я пошутил, – говорил он. – Проверку вам, а заодно и себе устроил. Какой из меня Генеральный Секретарь? Какой из меня советчик? Достало б ума разобраться в простейшем.
– Я так и знал, что обидитесь, – сказал Фёдор. – Извините. Бес попутал.
– Извиняю, – с кривой двусмысленной улыбкой, сказал Ватракшин и, вдруг, убрав улыбку, серьёзно добавил. – Хотя, если желаете, действительно скажу, как писать.
– Скажите, – согласился Фёдор, не находя, о чём ещё можно было бы говорить.
– Рекомендации простые. Найдите самого жалкого, бесправного, обойдённого судьбой человека и попробуйте его защитить, оправдать. И всё описывайте не торопясь, с любовью и болью. К светлому концу ведите через страдания, чтобы вызвать в читателях сострадание. Ибо, и это ни для кого не секрет, всё, как вы это говорили, стояло, стоит и будет стоять на сострадании. Собственно – весь секрет. Хотя, повторяю, секрета никакого в этом нет. Все это знают, да вот беда, написать не могут. Слабосильны, так сказать, не способны. А скажите, Фёдор Лексеич, у вас были какие-нибудь скрытые пороки? Вы боролись с ними, изживали их? Преодолевали когда-нибудь великие соблазны? Ведь знаете, неискушённый человек – он не искусен. Не испытав, не изведав – ничего хорошего не напишешь. А если хорошо не писать, то лучше совсем не писать. Так? Так или не так? Впрочем, можете не отвечать, это я к слову. Вы, наверное, не знаете, а ведь я в молодости тоже пробовал перо. «Рука к перу, перо к бумаге». Да, да. С женой своей Ниной познакомился, как начинающий писатель. Отцу её, маститому и обласканному, приносил свои опыты на суд. Как теперь всё помню. Он, тесть мой, был скользкий старикан. Знаете, что он тогда, в первый приход мой сказал, после прочтения опытов? Я слово в слово запомнил. Вот послушайте: «Что, Илья, сказать о твоём творчестве? Пока что ничего. Видишь ли, голубчик, я ещё не разобрался. Моё состояние можно сравнить с состоянием человека, вошедшего в подъезд и слышащего шаги. Понимаешь? Шаги-то слышны, но понять сразу трудно, куда они направлены, вверх или вниз. Подожди, дай мне время прислушаться. Трудно, Илья, сразу определить, а, не определив, что могу сказать? Но шаги – да. Шаги слышны. А для начинающего в твоём возрасте это немало. Давай, Илья, шагай. Шагай, и если даже идёшь вниз, шагая, сможешь исправиться. Главное – не останавливайся и сам всякую минуту прислушивайся, спрашивай себя: куда я иду, спускаюсь или поднимаюсь? И, если научишься к себе прислушиваться, спрашивать, а что важнее всего, по совести себе отвечать, то всё Илья, у тебя будет хорошо». Вы, наверное, решили, что я ему огромный роман приносил или повесть? Полстранички, два четверостишья.
Коммунистическая партия страны
В работе стать тебя достойным,
Я в вашу попрошусь семью,
Как только стану… Э-э-э…
– Забыл.
Смотри вперёд, открыв глаза, и руки погрузи в работу,
Знай и живи одной заботой о светлом дне своей страны
О том, что нужно всему миру.
Борись, чтоб не было войны.
– Где-то что-то напутал, но в целом немного переврал, такие были стихи и нет бы сказать «плохо». Нет, тесть никому ничего впрямую не говорил, такой был у меня тесть. Не говорил правды даже мальчишке. Хотя надо понять его, время научило быть таким. Вы видели картину художника Пузырькова «Иосиф Виссарионович Сталин на крейсере «Молотов»? Не видели? Вот. А, тогда в Третьяковке такие картины висели. Такое особенное время было. А изменилось время – и тесть изменился. После смерти Генералиссимуса зашёл к ним и тестя будущего не узнал. Пьяный, счастливый, кричит на плачущую жену, как мужик невоспитанный, чего ранее никогда себе не позволял. Подождите. Вру! Обманываю честное собрание. Это всё не после смерти «сухорукова», а как развенчали, или нет, когда выволокли. Да, да. Выволокли за ноги из гробницы, вот тогда его жена и голосила. Как раз по этому поводу голосила, а тесть при мне на неё кричал. «Плачь, дура, громче, когда сын ключницы Русь крестил, да идола Перуна тащили волоком, так тоже многие плакали, бо слишком уж привыкли к истукану». Тогда же, спьяну, стал каяться, говорить, что за тридцать сталинских серебряников продал душу. Красиво говорил. «Было мне, Илья, тридцать три года, а Нового завета не имел, идущие следом наступали на пятки, торопили, говорили: «Иди быстрей», вышестоящие интересовались: «Что выбрал, голубчик, серебро или крест?». Да, приходилось тогда выбирать. Страшно мне показалось, не имея своего слова, на крест идти, а серебряники в самый раз пришлись. Дочки росли, хлеба просили». Долго он мне в тот день объяснялся в любви, оправдывался, от неверной дороги предостерегал. Он, старый Лис, надо отдать ему должное, любил меня. А жена моя, дщерь его младшая, тогда смешная была. Помню, сел с ней рядом, она стихи Пушкина читала, говорю, почитайте мне вслух. Стала читать. Я смотрел на её влажные, розовые губки, на их движение, слушал голос её. Да, и не выдержал, поцеловал. В тот же день, перед уходом, тесть будущий, по правилам гостеприимства, снова в гости приглашал и ей велел просить меня об одолжении. А я её спрашиваю при отце, будет ли она, как сегодня, мне Пушкина читать? Она покраснела, но нашлась, ответила: «Буду, но только другую страницу».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































