Текст книги "Люблю"
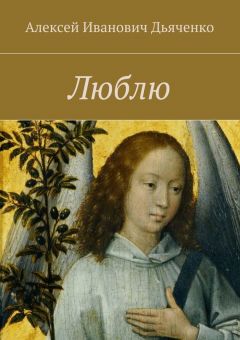
Автор книги: Алексей Дьяченко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 31 страниц)
– Обязательно передам, – бойко ответила девочка и побежала в сторону корпусов, за которыми стеною стоял лес.
Пионервожатая долго, с ненавистью, смотрела ей вслед, а затем, оглянувшись, прикрикнула на одного из мальчиков:
– Иванов, сядь нормально и не болтай! Всем смотреть на поле. Все положили руки на колени. Иванов, кому сказала, руки на колени!
На футбольном поле показалась команда гостей. Все были в красных футболках, с жёлтыми номерами на спинах и, с надписью на груди: «Лимония – страна чудес». Следом за командой прикатили на стадион и Илья со Степаном.
– Одень, – как-то жалобно попросил Степана Игнатьев, держа в руках отданную назад красную футболку под номером четырнадцать.
Степан снял с себя рубашку, положил её рядом с велосипедом и надел футболку. Илья успокоился, побежал на поле, к своим, разминаться, а Степан направился мимо трибун, выглядывать среди зрителей вчерашнюю знакомую. У трибуны, где сидели мальчишки-драчуны он остановился.
– Вы, пионервожатая? – Обратился он к взрослой девице, намереваясь спросить о девочке.
– А вы, если не ошибаюсь, запасной игрок? – Кокетничая, отвечая вопросом на вопрос, парировала девица.
Проследив за её внимательным взглядом и с ужасом заметив, что она читает дурацкую надпись, красующуюся на его груди, он, забыв о вопросе, с которым к ней хотел обратиться, стал оправдываться и снимать с себя майку.
– Нет. Не игрок. Болельщик. Я к матери, в отпуск, помочь приехал.
– Тогда вы и не игрок, и не болельщик, вы помощник. Ой, сколько у вас родинок! – Вскрикнула вожатая и бесцеремонно стала трогать их руками. – Вот ещё. А вот ещё одна.
Степан, задрав футболку до уровня груди, остановился в нерешительности. Снять её с себя означало отдать своё тело в бесстыжие руки вожатой. Как ни глупа казалась ему надпись, сделанная Игнатьевым, он всё же решил, что некоторое время можно её потерпеть.
Опустив футболку, он заправил её в брюки и скрестил руки на груди, закрывая ими надпись.
– Меня, между прочим, Татьяной зовут, – сказала вожатая, протягивая Степану руку.
Степан не сразу понял, чего от него хотят, а как только разобрался, так сразу же взял протянутую руку и так сильно сжал, что у вожатой затрещали суставы.
– Степан, – коротко отрекомендовался он, не выпуская Танину руку из своей.
Таня, между тем, не теряясь, сама пожала несколько раз его руку, давая тем самым известный знак для людей понятливых. Степан ей приглянулся и показался именно таким. Степан, действительно, знак её понял, но не стал придавать этой шалости особого значения.
– Степан, скажите, а сколько эта игра будет длиться? – Вдруг, прерывисто задышав, поинтересовалась Таня.
– Футбол? Ну, если даже тайм по тридцать минут играть станут, да с учётом перерыва. Не меньше часа, – ответил Удовиченко, вопросительно глядя на вожатую.
– Степан, – снова обратилась к нему Таня, подолгу всматриваясь то в один его глаз, то в другой. – Если вы действительно помощник и встретились мне в такой трудный момент, помогите. Поможете?
– А какая помощь нужна? – Испуганно стал расспрашивать Удовиченко, проклиная знакомство, заранее зная, что ничего хорошего из этого не выйдет.
– Что? – Решая, что-то про себя, спросила вожатая. – Это потом. Пойдёмте со мной.
Обращаясь к своим подопечным, она строго заметила:
– С мест не вставать, всем смотреть футбол! Иванов, гляди, я скоро вернусь.
Взяв Степана за руку, она потянула его за собой, а когда он, нагнав её, пошёл рядом, взяла под руку. Степан криво улыбался и внутренне был напряжён, так как не любил секретов.
«Куда она меня ведёт? И, чем смогу я ей помочь?», – думал он.
– Сможешь, сможешь, – успокоила вожатая, как бы читая его мысли и лукаво подмигнула.
Так, шагая рядом, под ручку, они ушли со стадиона.
Подойдя к деревянному корпусу, выкрашенному в синий цвет, крытому кровельным железом, Таня оставила Степана и, поднявшись на крыльцо, подёргала дверь.
– Закрыто. Так я и знала, – сказала она. – Всё-таки, дрянь, по-своему сделала.
Достав из кармана юбки ключ, она отомкнула запертую дверь и сказала:
– А вы входите, Степан. Входите.
Горевший в ней огонь на время угас, и лицо омрачилось, но длилось это недолго. Вскоре она снова зажглась.
– Дело? Ах, да. Дело, – сказала она, улыбаясь, после того, как вошедший в корпус Степан напомнил ей о том, что у него просили помощи.
– Дело вот какое. Свет не горит, – пожаловалась она, заходя за занавеску в маленькую комнату. Входя следом и размышляя вслух: «Может, пробки перегорели?», Степан машинально взялся за выключатель. В тёмной каморке, размерами не более трёх квадратных метров, где пахло резиной и жжёным пластилином, вожатая крепко обняла его за шею и с жаром, всласть поцеловала.
По инерции, Степан щёлкнул выключателем, и в каморке вспыхнула мощная лампочка. От яркого света стало резать глаза. Таня, перестав целоваться, не понимая первое мгновение, что случилось, стояла как оглушённая, то жмурилась, то беспрестанно моргала.
Привыкнув к свету, Степан увидел детские резиновые сапоги, стоявшие на полках и пустые вёдра с половыми тряпками, развешенными на них для просушки. Таня, придя в себя, заулыбалась и, высунув из каморки руку, попыталась не выходя, нащупать выключатель и выключить свет. Но это у неё не получалось, а Степан не помогал и ей пришлось выйти.
Только свет в каморке снова погас, и Таня хотела войти в неё, с улицы донёсся женский голос.
– Таня, это ты? Выйди на минутку.
– Да, Александра Тихоновна. Сейчас! – Взволнованно ответила вожатая и выбежала на улицу.
Оставшись один, Степан усмехнулся стремительности, с которой развивались события и, прислушиваясь к уличному разговору, брезгливо стёр с губ жирную помаду, оставшуюся после поцелуя.
– Я сейчас. За вами следом. Корпус закрою и догоню, – донеслись слова вожатой.
Таня вернулась и сообщила вышедшему из каморки Степану, что ей надо идти на стадион.
– Пойдём? – Спросила она его таким голосом, словно после поцелуя он стал ей близким и родным.
– Не пойду, – грубо ответил Степан, надеясь тем самым прекратить всё начинающееся, но строгий его отказ скорее обрадовал Таню, чем огорчил.
– Вечером приходи прямо к корпусу. В десять. Хорошо?
– Хорошо, – неожиданно для себя пообещал Степан и сразу же решил, что ничего страшного не будет, если обещание не выполнит.
Вышли из корпуса, Таня заперла дверь и, сказав «до вечера», стремглав побежала в сторону стадиона. Степан стёр остатки помады, облизав губы, сплюнул, и, глядя в спину убегающей вожатой, не без удивления, усмехнулся.
Перебравшись через лагерный забор и пройдясь по лесу, Степан подошёл к «волшебному озеру». На мостках стояла девочка. Почувствовав его взгляд, она обернулась и приветливо улыбнулась. Они познакомились.
Степан узнал, что девочку зовут Леной, а фамилия у неё Солнышко. Рассказал ей о себе, о своей горемычной жизни, о деревенском доме, о матери, о пушистой собаке, которую назвал Кояном. Пригласил в гости.
Лена слушала внимательно, часто смеялась, но после его приглашения, стала грустной и сказала, что её теперь не то, что в деревню, а и в лес не пустят.
– Не пустят, я к тебе в лагерь приду. Хочешь? – Не интересуясь причинами, спросил Степан.
– Приходите, – мало веря его словам, сказала Лена.
Возвращаясь домой, Степан наблюдал за дачниками, купающимися в пруду. С ними плавала собака.
Мальчишка-хозяин собаки, давал ей команду «ко мне», а сам нырял и долго находился под водой, заставляя тем самым косматого друга беспокойно вращать головой и скулить от растерянности.
Собака крутилась во все стороны, искала хозяина, а его всё не было. Но вот, наконец, он выныривал. И, что делал? Смеялся над её беспокойством и топил бедную, самым настоящим образом. Собака, вырываясь, лаяла, ругала его по своему, чем ещё более мучителя тешила.
Долго мальчишка измывался, пока пёс не решился на месть. Выбрался на берег, взял в зубы хозяйские штаны, рубашку и, отбежав метров пятнадцать, бросил их там лежать. Вернувшись, схватил в зубы одну из хозяйских сандалет и отнёс её к рубашке со штанами.
Выскочивший к этому времени из воды хозяин, насилу отнял последнюю сандалету. И то, из-за неё пришлось побороться. Собака схватила её зубами и тянула на себя, но, в конце концов, уступила хозяину.
Надев обувку на мокрую ногу, мальчишка побежал к одежде, но собака его опередила, схватила рубашку со штанами в зубы и отнесла их на очередные пятнадцать метров. Чтобы и мысли у хозяина не было возвращаться на пруд, купаться и измываться над ней. Она несла вещи в сторону поля, отданного под дачи.
Осилив первую дистанцию и надев на мокрую ногу вторую сандалету, выкрикивая вместе со смехом угрозы собаке, хозяин побежал дальше. Пёс смилостивился, решил более не мучить, одежду на очередные пятнадцать метров не относить. Но и мальчишка, в свою очередь, одевшись, на пруд, где оставались друзья, не вернулся. Пошёл к дачам.
– Какая умная собака, – сказал вслух Степан.
Он наблюдал за тем, как один из оставшихся на пруду мальчиков, длинной тонкой палкой, бил по водной глади пруда. Делал это бездумно. Приятно было смотреть на разлетающиеся в разные стороны брызги. Степану захотелось самому взять палку и ударить ею по воде. Это было первым, сильным его желанием, после долгой апатии и затянувшегося безразличия ко всему. Он вспомнил, что в раннем детстве это было одним из многих его развлечений.
«А сколько их, безвозвратно вместе с детством потеряно».
Прогуливаясь по деревне, Степан остановился у дома с заколоченными окнами, вокруг которого стеной росла крапива. Жил здесь когда-то старый забавник дед Макар. Он пил одеколон, когда же портил воздух, то получалось, что вовсе и не портил, а скорее, наоборот, озонировал. Учил деревенских детей матерным словам в обмен на куриные яйца. Рассказывал много диковинного.
Жил дед Макар в доме, крытом почерневшей от времени соломой. Тогда все дома в деревне были крыты или соломой, или щепой. Степан вспомнил, как шёл в детстве дождь. Отец крышу ещё не менял, она была худая, и с потолка в нескольких местах капала вода. Где капала, а где и тоненькой струйкой текла. Везде, в таких местах, стояли вёдра, бидоны, банки и даже стаканы с чашками. В одну посудину капало редко, в другую часто, где-то струйка с потолка текла непрерывно, где-то прерываясь с определённой периодичностью.
Капли, падающие в чашки, издавали один звук, а капли, падающие в стаканы, – совершенно другой, и фоном всему этому разнозвучию служил сам дождь, идущий за окнами.
Степан привык и полюбил слушать эту симфонию. И когда отец сделал новую крышу, и музыка дождя кончилась, ему стало грустно. Казалось, всё это было только вчера, но вот уже и шифер, что лёг на место прохудившейся дранки, почернел, покрылся оранжевыми цветками плесени, и сам нуждался в замене.
По дороге домой Степан хотел зайти в магазин, но ему этого сделать не дали. Помешала огромная очередь, выстроившаяся у входа. Люди стояли с бидонами, с банками, стояли за молоком, которое вот-вот должны были подвезти с фермы. Степана это очень удивило.
«Как это так? – Думал Он. – В деревне очередь в магазин, за молоком».
В последний его приезд и у матери, да и в каждом доме была своя корова, а теперь молоко возят с фермы и никто коров не держит.
«Что ж это такое? Как же можно жить в деревне без парного молока?».
Он вспомнил, как в детстве, в первый свой приезд, после года прожитого в городе, только парным молоком и питался. Ничего не ел, не пил, ждал, когда придёт корова. Стоял с кружкой в дверях сарая, смотрел, как мама корову доит и ждал парного молочка.
«Они все с ума посходили», – заключил он, отходя от магазина.
Тут же вспомнился рассказ отца, как тот в молодости, чтобы поближе познакомиться с мамой, ходил к ней за молоком. Каждый день покупал по три литра, не пил, а выливал.
«Теперь, наверно, за это в аду сковородки лижет», – не без горечи подумал Степан, который в отличие от отца, говорившего: «живот у меня от него слабнет», молоко очень любил.
По иронии судьбы, Филипп Тарасович, уехав из деревни, поступил в Пищевой институт на мясомолочный факультет, а умер, находясь в должности директора молокозавода.
Степан вспомнил, что перед смертью отец впал в детство, беспричинно смеялся над всем и очень полюбил детские мультфильмы. Хохотал до слёз над самыми фальшивыми кукольными персонажами. Говорил, что сестра Галины Андреевны – его последняя любовь, что любовниц у него не было, но после смерти звонили женщины, спрашивали отца.
Денёк выдался жарким. Солнце припекало, как на Юге. Ветерок дул мягкий, маслянистый, с приятным сладким запахом. Степан подошёл к своему дому, сел на скамейку, врытую у забора и, поудобнее устроившись на тёплых от солнца досках, спросил у сидевшей рядом матери о дяде Корнее.
– А, чего ты о нём спросил? – Поинтересовалась она и, не услышав объяснений, стала не спеша рассказывать. – Жили бедно, и мама отдала его отцовой родне. Он кашлял, боялись, туберкулёз. А там у них климат тёплый, сухой, море. У них он и рос. Ну, а как вырос, с плохими людьми связался, в тюрьму попал. С тех пор бродяжничает по свету – ни слуху о нём, ни весточки. Жив ли, нет, не знаю. Приезжал как-то раз, когда ты ещё маленьким был и с тех пор как в воду канул. Мы дружно жили, я звала его «брат», он меня «сестра». Придёт за три километра в поле, обед мне принесёт. Спрашивает у людей – где тут моя сестрёнка? Он любил с людьми поговорить. Мне скажет – работай хорошо, как дома работаешь, чтобы за тебя стыдно не было. Мы дружно жили, люди нам завидовали.
Выслушав внимательно матушку, Степан ничего ей о своих встречах с дядей Корнеем не сказал. Рассудив так – если Корней Кондратьевич живёт в Москве и не даёт ей о себе знать, то и ему, Степану, говорить об этом не следует.
На обед Степан поел блинов с молоком, и его незаметно потянуло ко сну, но поспать не дали назойливые мухи. Вслед за этим в дом к Ирине Кондратьевне пришёл опросчик, занимавшийся переписью населения. Степан спрятался от него, забравшись на печь, и лежал там, покатываясь от беззвучного смеха. Смеялся над тем, как матушка то и дело его переспрашивала.
– Ой, простите, – говорила она. – Я опять забыла, как вас зовут?
– Иван Сергеевич, – спокойно и без тени раздражения, отвечал опросчик и не успевал задать свой вопрос, как был вынужден снова представляться.
Матушка переспрашивала его практически беспрерывно, через каждые десять секунд, и переспрашивания эти длились бесконечно. У Степана появились уже колики в животе.
Когда Иван Сергеевич, всё же справившись со своими обязанностями, попрощался и ушёл, Степан, охая от длительного смеха, слез с печи и спросил у Ирины Кондратьевны:
– Что ты всё, как зовут, да как зовут?
– Растерялась. Говорить не о чем, а надо же о чём-то говорить, – объясняла мать. – Он с документами, да ты ещё сказал тебя не выдавать. Переволновалась. Сижу и думаю, а ну, как спросит: кто это у вас на печи?
Вечером, обратив внимание на икону, висевшую в углу, подсвеченную лампадкой, Степан подошёл к ней и стал рассматривать. Из глаз Спасителя струился ласковый, добрый, свет, приятный сердцу.
– Мам, это Иисус Христос? – Спросил он у Ирины Кондратьевны.
– Да. Царь Милостивый.
– Ты веришь в Бога, или так, для порядка повесила?
– Садись. Стынет всё, – ответила собравшая на стол матушка.
– Ну, скажи, – добивался Степан.
– Тебе всё для насмешки, – уклонялась Ирина Кондратьевна.
– Я серьёзно.
Заметив улыбку на лице у сына, мать повторила:
– Садись, не болтай, всё остыло.
– Есть не хочу, спать буду. Коян лаял всю ночь, я глаз не сомкнул.
– Не бранись. Какой он тебе Окаян? Его Пушком зовут.
– Ничего. Пока я здесь, в Окаянах походит. А церковь в деревне была?
– Была. Красивая, кирпичная.
– Куда же подевалась?
– Коммунисты взорвали. Помню, как колокола снимали и сбрасывали. Один, самый большой, упал оземь, разбился. Да, как ахнет, на всю округу разнеслось. Я ребёнком была, на всю жизнь запомнила.
Степан всё же поел и решил, что завтра, рано утром, поедет в Москву.
«Надо с Леной попрощаться», – решил он и, вместо того, чтобы ложиться спать, пошёл в лагерь.
В лагере, тем временем, прозвучал отбой. Горнист сыграл на трубе и вместо Лены он там встретил Таню, о которой совсем забыл.
Захваченный в плен, пошёл с ней гулять. Таня встала к Степану спиной, взяла его руки, положила к себе на живот и в таком положении они не спеша прогуливались по дорожкам. И Степан был вынужден выслушивать Танины исповеди.
«Зачем мне её проблемы, её учёба в педагогическом, нежелание быть учителем, мечтания стать переводчицей. Все эти нелады в доме, у самого всё вверх дном», – думал он, а Таня, тем временем, говорила:
– У нас с тобой курортный роман. А, курортные романы легко начинаются и так же быстро заканчиваются. В городе ты, если даже меня и узнаешь, то не подойдёшь. Или подойдёшь?
Тане хотелось, что бы Степан говорил с ней так, как говорят мужчины с женщинами, а Степану, если и нужно было теперь общение, то не такое, а товарищеское, душевное, без полов и страстей. Хотелось говорить так, как может говорить человек с человеком.
На Танин вопрос он не ответил, а стал, вдруг рассказывать ей о маленькой девочке Лене. Отзываясь о ней, как о человеке удивительном.
– Лягушек защищает. – Расхваливал Степан. – А я, в детстве, убил одну квакушу. Лето стояло сухое, с неба ни капельки. И примета была, убьёшь лягушку – значит быть дождю. Ну, я и засёк прутиком. Каюсь. Говорит, что мне нужна забота. Подожди, говорит, десять лет, вырасту и буду тебе доброй женой. Стану тебя жалеть.
– Да, она развитая, самостоятельная и интеллектом выше сверстниц, – вторила Таня похвальным речам Степана и всё старалась встать так, чтобы он её поцеловал.
– А вместо тихого часа, нельзя её отпустить? Я бы Кояна ей показал. Собака у меня такая есть. Свой отчий дом, окрестности. Возможно это или нет? – Спросил Степан, отстраняясь от подставленных губ.
– Пожалуйста. Своди, покажи собаку. Я её под свою ответственность отпущу. Если сама она, конечно, захочет. Я не против, – шептала Таня и, не дождавшись, чтоб её поцеловали, обняла Степана за шею и поцеловала сама.
* * *
Галина, постучавшись, вошла к Карлу и нашла его сидящим у окна.
Свет, падавший на него с улицы, как-то по-особенному освещал его светлые волосы и светло-синие глаза.
Не поворачиваясь, он поманил её рукой и сказал:
– Посмотрите, какая красота!
Галина подошла и за пыльными, зеленоватыми стёклами увидела улицу. Обычную, знакомую с детства, никакой красоты не узрела. Она вопросительно посмотрела на Карла, и он, указывая рукой на небо, стал пояснять.
– Облака, – говорил он. – Приглядитесь. Правда, они напоминают очертания сказочной страны? Густые заросли, между ними дорога, ведущая к замку. Дорога огибает озеро, поднимается в гору, а вон и сам замок, стоящий на горе. Знаете, до того всё это кажется знакомым, что не покидает ощущение, словно я ездил не раз по этой дороге в тот замок и знаю всё, что там и как. Хотите, расскажу? Дорога, ведущая к городу, очень ровная. Деревья вдоль дороги ухоженные, с пышной листвой, глаз радуется, глядя на них. В городе чисто, нет ни одного одинакового дома. Погода стоит всегда великолепная. А знаете, почему? Потому, что среди жителей нет зломыслящих и злословящих. Люди там не болеют, не умирают, но прежде всего, не голодают. Скажете: а что, как жизнь их скучна? Нисколько. Поверьте – ни лень, ни скука никогда, ни на мгновенье, не посещают этот город. Люди, живущие там, умеют трудиться и отдыхать. И всегда веселы. И во время работы, и во время отдыха. Вы мне сразу, возможно, и не поверите, но я скажу вам, что в этом городе нет некрасивых людей. Да. Там все красивы, все молоды душой и чисты сердцем. Живущие там, обладают ещё одним свойством – умеют являться в снах людям, живущим на земле. Являются, чтобы подарить им радость общения, успокоить, развеселить, сообщить о том, что всегда на земле будут зеленеть леса и синеть озёра. Что убийства и воровство прекратятся, а звери, рыбы, птицы и люди будут жить в мире, как братья и сёстры. Будет необыкновенно красивая жизнь, и мы с вами, Галина, увидим её и будем в ней участвовать.
– Это правда? – Спросила Галина, повернувшегося к ней Карла. – Вы так уверенно говорите, что хочется во всё это верить. Но столько всё же непонятного в ваших словах. Столько вопросов… Карл! Вы только не перебивайте. Я должна признаться в том, что ужасно не любила немцев. Да, да. Слушайте и только, пожалуйста, не перебивайте. Это правда. Я вас, то есть их, ну, то есть немцев, ужасно не любила. Не любила за то, что они сухие и бескровные. Их порядка во всём, не любила. Язык казался некрасивым и потом ещё за то, что они страшно самоуверенные. А самоуверенность, по-моему, это такая тоска. У них командная речь подавляющая, кричащая, манеры нахальные. Приходил к нам немец из ВГИКа, сценарист, учится на сценарном, приятная внешность, хорош собой, но такая самоуверенность! Вошёл, как к себе домой и сразу же стал объяснять, как надо обращаться с мебелью, как ручки латунные очищать, будто это самое главное в жизни. Вот так запросто вошёл и стал сразу говорить, никого не слушая. Ой! Мне не нравилась и их точность, и их обязательность. Какая-то скука сквозила во всём этом. Бесстыжесть их не любила. Равнодушие у них очень развито и чувство собственности страшное. Прямо какие-то властелины материального мира. Считала их чистоплюями и занудами. Считала, что немцы противные люди. Никогда они не раскинут широко, для объятия, руки, даже в самые сильные минуты. А тут – приезжали к нам студенты из Лейпцига, показывали отрывки свои и там, в одном из отрывков, немецкий офицер, вернувшийся из плена, беседуя с девушкой, вдруг, внезапно закашлялся, взялся рукой за грудь и, достав из кармана платок, вытер губы. В этот момент, слышу за спиною у меня Случезподпишев, это студент один, я с ним когда-то на одном курсе училась, злорадно шепчет: «это наши ему настучали». Я повернулась к нему и сказала: «заткнись». А после показа, оставшись одна, подумала и поняла, что сказала это «заткнись» не ему, а себе, своему нехорошему чувству, появившемуся в душе. Вместо нормального, человеческого сострадания, там вдруг появилось злорадство.
– Может, это следствие боли, из-за утраты близких в прошедшей войне?
– Нет. Боли не было. Просто неприязнь. Чужое. Какая нужна боль, чтобы не любить весь народ, а я ведь не любила. Не любила только немцев. И вот, надо же было такому случиться, что вы немец и совсем не такой. Дело в том, что я их на самом-то деле хотела любить, вот только не знала за что и как. Моя «нелюбовь» меня очень тяготила. Вы разрушили все мои представления о немцах и знаете, мне теперь кажется, что этой проблемы в душе моей больше нет. Хорошо, что вы немец. Хорошо, что вы такой, какой есть. И ещё. Обязательно должна рассказать вам о том, что у меня было со Степаном, ну, то есть, что у меня ничего с ним не было. Степан, вы помните, я говорила, что он подставил ножку мне в детстве и только недавно извинился. Вы это помните. Конечно, помните. И я это его извинение запомню на всю жизнь потому, что оно в моей жизни сделало переворот. Сознание перевернуло. Ведь я, накануне этого его признания, обидела на Арбате юношу, походя. Он продавал свои стихи и поверх его самодельных книжек, было написано: «стихи с автографом поэта». Я спросила: «Действительно, считаете себя поэтом?». Он смутился, стал что-то объяснять, я пошла своей дорогой. Понимаете, Карл, я не имела права у него об этом так спрашивать, не имела права обижать. И поняла я это всё только после принесённых мне Степаном извинений. Как же так? – Думала я. – Я хорошо помню, как в детстве играли в парикмахера и он так меня подстриг, что пришлось потом стричься наголо и ходить среди лета в шапке. Я стеснялась лысой головы. Думаю, извинился бы лучше за это, а он просит простить за то, за что мне и прощать его неловко. Так как, несмотря на то, что по его уверениям я сильно расшиблась, разбила лоб, громко плакала – ровным счётом ничегошеньки из этого не помню. Ну, то есть, мне этого было не надо, извинения его. Всегда думала, что извиняются для того, чтобы потерпевшей стороне не так больно было, а тут, оказывается, что-то совершенно другое. И вот тогда в голове моей произошёл переворот. Оказывается, поняла я, люди извиняются ещё и затем, чтобы как-то себя самого постараться очистить от зла, когда-либо содеянного, кому-либо причинённого. Ведь так оно и есть. Сделаешь ты кому-нибудь зло, и оно висит на твоей душе камнем, спать не даёт, кажется, что прилипло на веки вечные. Я тут же вспомнила арбатского юношу, побежала к нему и извинилась за свой вопрос. Он так же краснел, как и в прошлый раз, бормотал себе под нос что-то невнятное, говорил, что меня не помнит, но на листке уже было написано совсем другое. Было написано: «Продаются стихи с автографом автора». В конце концов, он меня простил, и я осталась довольна. Какое это, оказывается, наслаждение – быть прощённой! Я поняла великую истину, что жить на белом свете легко, если ты никому не делаешь зла, а если невольно и делаешь, то надо не бояться в этом сознаваться, и искренне просить прощения. Знаете, Карл, я раньше не могла понять, почему люди мучаются, а тут, вдруг, поняла. Они переступили запретную моральную черту, и мир им видится перевёрнутым. Не способны они понять что хорошо, а что плохо, белое там видится чёрным, а чёрное белым. Перепутали понятия о добре и зле, и не знают, за что извиняться, за что просить прощения. А непрощённое зло между тем накапливается, облепляет душу со всех сторон и с таким грузом, конечно, не до полёта, не до веселья. И тогда эти люди говорят, что жить тяжело, что жизнь – каторга. А ведь это не так. Правда? Я поблагодарила Степана за его запоздалое, но такое нужное, как оказалось, для меня извинение и мы стали встречаться, ходить в театр, в кино, гулять по набережным. Он приходил ко мне на премьеру. Подарил такой букет, какого никто из актрис никогда и в глаза не видел. Так завязались между нами доверительные отношения. Но, чтобы вы сразу поняли, что это были за отношения, вам надо знать, во-первых, то, что он до сих пор не разведён с женой, до сих пор её любит и просто не знает, как вернуться к ней. А, во-вторых, то, что отношения у нас были сугубо дружеские. Он был тогда сама осторожность, сама предупредительность. Всем своим видом говорил: «Я ни на что не претендую, ни на что не рассчитываю, только не гони». Существовал между нами негласный договор: быть рядом, пока это не связывает одного или другого. Понимаете, он не столько ухаживал за мной, сколько просто ходил. Видимо, просто нуждался в том, чтобы рядом с ним был человек, живая душа. И я допускала эти прогулки и принимала цветы, потому что казалось – отгони я его тогда, и он сделает с собой что-то ужасное. Допускала, потому что границ дозволенного он не переступал. Да. Так всё это было, но кончилось после того случая, который произошёл в день поминок моего дяди, Петра Петровича. Не стану рассказывать подробности. Просто случилось то, после чего совместные прогулки стали невозможны. Вы помните звонок, тот, телефонный? Звонила подруга, Ванда, она среди прочего сообщила, что ничего между ними не было. Она не понимала, что меня от неё отвратил не сам факт измены или не измены, а то, как они оба со мной обошлись. С прохожим так не обходятся, не должны обходиться, а они со мной так поступили. И кто поступил? Лучшая подруга и человек, которого я к себе допустила, позволила быть рядом. Человек, которого тоже считала другом. Ну, скажите, Карл, должны же быть у людей какие-то элементарные обязательства перед другими? Нельзя же плюнуть сегодня человеку в лицо, а завтра позвонить и сказать походя: «Ты только не подумай, у меня и в мыслях не было тебя обидеть, я это сделала случайно». Я вам наговорила слишком много, а всего-то навсего хотела сказать о том, что был у меня друг Степан Удовиченко, а теперь у меня такого друга нет.
После длительной, эмоционально окрашенной речи, Галина на мгновение умолкла, но тотчас припомнила для себя очень важное и спросила:
– Карл, скажи, а почему ты тогда, когда я к тебе извиняться приходила, сказал, что не обиделся, а скорее, даже наоборот. Что ты имел в виду?
– Имел в виду то, что было приятно, когда на такую девушку, как ты, произвёл впечатление. Ну, то есть, что ты меня заметила. Гораздо обиднее было бы, если бы ты вышла, и на меня не глядя, не стесняясь, взяла бы трубку. Со мной бывало, что не замечали.
– По-моему, тебя невозможно не заметить.
Карл смущённо улыбнулся и, повернувшись к окну, сказал:
– Здесь северная сторона, как и на прежней квартире. Знаешь, Галя, когда я понял, что мне придётся долгие дни, безвылазно, сидеть в комнате и смотреть в окно, я не на шутку опечалился. Если бы оно выходило на восток, думал я, то я мог бы, вставая по утрам, видеть зарю, любоваться восходом. Если бы выходило на запад, то каждый вечер имел бы перед глазами светлое небо и мог бы наслаждаться закатом. Если бы окно выходило на южную сторону, то я бы весь день жмурился от солнечных лучей и дышал бы тёплыми южными ветрами. Но вот окно моё выходит на север, и ни восхода, ни заката, ни солнца мне долгие годы не видеть. А ветер, даже летом, если и подует, то это будет леденящий ветер с севера. Но, я печалился недолго, нашёл и свои преимущества у северной стороны. Зимой мороз мои окна раскрашивал в первую очередь и такими узорами, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А потом из моего окна был совсем неплохой вид. Оно выходило на спортивную площадку, за площадкой была дорога, по которой мчались машины, а за дорогой железнодорожное полотно. Согласись, Галя, есть на что посмотреть. Точнее, было. Знаешь, зимой, когда спортивную площадку заливали водой, а затем расчищали получившийся лёд, делали его гладким, столько происходило всего интересного, ни на секунду нельзя было отлучиться от окна. К нам на каток, по субботам и воскресеньям, приезжала лошадка с санями и возила детей по кругу. А сколько было детворы с клюшками, какие они все нарядные, краснощёкие, живые. Просто залюбуешься. Я тебя уверяю, что в солнечное утро, когда каток кишит детворой, его по красоте можно сравнить только с морем или небом. Только на море и небо человек может смотреть с такой же радостью, с какой следит за детьми на катке. Так что я очень скоро привык к своему окну и смотрел через него на всё с восторгом. Летом на площадке играли в футбол, а если и не было на ней никого, то обязательно кто-нибудь по улице шёл. Машины, опять же, весь день по дороге гоняли, шли поезда, везли пассажиров. Нет, я совсем не скучал, пожалуй, лишь однажды пожалел о том, что не в состоянии передвигаться.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































