Текст книги "Люблю"
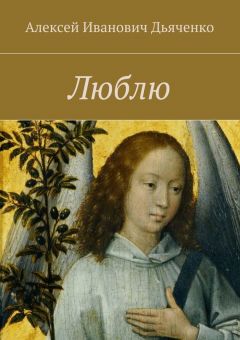
Автор книги: Алексей Дьяченко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 31 страниц)
Илья Сельверстович налил себе полстакана коньяка, выпил его, не морщась, и с новыми силами заговорил:
– Прежде всего, хочу сказать, что женился я не по любви. У тестя моего, знаменитого Александра Сергеича, было две дочери, Елизавета и Нина. Жену мою, если не забыли, звали Ниной, младшая она была, а влюблён-то по– настоящему я был в старшую, в Елизавету. О! Если хотите знать, это была настоящая русская душа, способная на жертву, способная пожертвовать собой. Я уже состоял в близости с Ниной, а Лизу всё не знал, ни разу не видел, она у тётки жила. И вдруг, неожиданно, как радуга после дождя, появилась она, Лизавета. Вот здесь, на даче, тут другой дом стоял, чёрный, бревенчатый, всё было другое. Здесь увидел её впервые. Было лето, июль месяц, она вошла с распущенными волосами, с огромным букетом полевых цветов и молчала. Она всё время молчала. Мы с ней никогда ни о чём не говорили. Молча смотрим друг другу в глаза и всё понимаем. Мы с ней любили друг друга. В воскресенье, помню, я приехал сюда, было шумно, кругом ходили гости, много гостей, я от Нины ушёл, спрятался и в сад. А там – она с щенками. Дети соседские принесли трёх пушистых, маленьких щенков, вот она и играла с ними. Смеялась, глядя на то, как щенки неловко ступая, толкали друг друга, и очень легко со мной заговорила, словно мы только тем и занимались, что беседовали. О какой-то глупости говорили, не помню уже о чём, помню, она спрашивала – я отвечал, щенка при этом гладил, а сам всё старался коснуться её руки. А потом, знаете, так осмелел, что взял её руку, поднёс к губам и стал откровенным образом целовать. Целую, – смотрю, позволяет. Я тогда руку её повернул, стал целовать в ладошку, а она её, что бы вы думали, стала к губам моим прижимать, давала понять, что приятен ей мой поцелуй. Сделал попытку поцеловать в губы, уклонилась, не разрешила. По голове меня гладила, а через месяц в Канаду уехала. Нина ей, оказывается, уже тогда по-женски проболталась, что у неё ребёнок будет от меня, что скоро поженимся. Вот Лиза и отдала себя канадцу, который, как потом выяснилось, давно к ней клинья подбивал и с ним – туда. А ведь любила меня, и я любил, да и теперь люблю. А Нина, – она мне прежде дочку родила, а уж затем мы с ней записались. Пожалел я её, не надо было жениться. В этих делах жалость только во вред. Жену я не любил, любил дочку, дочка смешная росла. Прибежит ко мне, плачет: «папа, мне больно, чайник меня укусил». Слышите? Чайник её укусил. Мне и жалко её и смеха сдержать не могу, а она мне: «плохой, папа плохой!». Да, воистину, – устами младенцев глаголет истина. Говорила – «папа плохой», и не подозревала, что говорит правду. Вот я только что сказал, что жену не любил, любил дочь. Солгал. Дочь я тоже не любил. Ни жену, ни дочь не любил, и любить не мог. Мне завидовали, говорили «счастливчик» – а я не любил. Говорили: «Какая жена, какая дочка!». А я не любил. У Нины и у Ядвиги ангельские лица, не лица, а лики, с них иконы писать, да молиться на них, а я ненавидел. И теперь ненавижу. И Нину, покойницу, ненавижу, и Ядвигу, дочь, ненавижу. Честное слово, умерла бы, только бы сплюнул. Клянусь, не вздохнул бы и слезинки б не пролил. Может, всё это сам себе напридумал, и есть другие причины, но уверил я себя, что ненавижу их за счастье своё несбывшееся, возможное, но так и не состоявшееся и на этом, как вы говорите, стоял, стою и буду стоять. Я понимаю, что девяносто девять процентов здесь самообмана, нет у меня иллюзий и на тот счёт, что с Лизой было б всё гладко, всё хорошо. Наверно, не гладко бы было, даже точно всё плохо, дело в другом. Украли, отняли возможность, вот что. Так бы некого было винить, сам бы был во всём виноват, а теперь есть, кого винить, теперь есть. Жена моя, если не знаете, актрисой была, на театре юродствовала. Как-то раз пришёл к ней, а она сцену репетирует из «Кремлёвских курантов», где рабочий в кабинете её запирает и в любви объясняется, а ему, попутно, ещё и Ленин туда звонит. Видите, сколько лет прошло, а всё помню. Напарник её, партнёр по сцене, тот, что рабочего играл… Хе-хе, партнёрами называются… Тот актёр, что рабочего играл, рожа была у него вся в оспе, рябой был… Эдак, знаете, самодовольно, с насмешкой, с чувством превосходства на меня смотрел. Как бы спрашивал – что, муженёк, ревнуешь? Пришёл, жену контролировать? Боишься, что со мной пойдёт, а мы тебя всё одно, проведём. Вот что я прочитал в его взгляде. Да ещё и жена, что-то слишком весёлая в тот вечер была. Ну, думаю, так и есть, смеются надо мной. В тот же вечер, дома, я не выдержал и всё высказал ей. Что я её ненавижу, и ненавижу дочь нашу, что они проклятье моё, моя кара. Сказал, что любил и люблю Лизавету, что она, Нина, причина нашей разлуки, что если бы не её длинный язык, то жил бы с Лизой, которая тоже любит меня, и был бы счастлив. Ну, и многого ещё чего наговорил. В числе прочего сказал, что ей не верю, знаю, что обманывала и обманывает, сказал, что и сам теперь в верности ей ручаться не могу и не исключено, что стану приводить прямо на дом. Сказал это всё и на дачу, в черный, бревенчатый, пить до бесчувствия. Я тогда частенько пивал-с. А следующим днем прикатила Лукерья, она тогда уже у нас жила и сообщила, что Нина Александровна «выкинулась» из окна. Вот так я и сделался вдруг холостым. Возьмите, Федор Алексеич, у меня деньги. Возьмите, спасите меня, а вам с деньгами будет легче не сделать тех ошибок, что сделал я. Вы не возьмёте? Нет? А жаль. Себя жаль и вас жаль, пожалеете, может, уже завтра же об этом пожалеете. Да, я прекрасно знал, что вы спасать меня не станете, в пекло за мной не полезете, денег моих не возьмёте и ошибок моих не сделаете. Всё моё останется со мной, а всё ваше с вами, и никогда-то нам не слиться душами, не понять, не полюбить друг друга. Вы, вот, смотрите на меня своими чистыми глазами, слушаете, а про себя, должно быть, смеётесь или жалеете меня, а того и не знаете, что за это я вас ненавижу сильнее, чем дочь свою, ныне здравствующую и жену, в бозе почившую. Ненавижу из-за того, что имею потребность вам исповедоваться в грехах своих, рассказывать то, что и себе рассказывать не смел, сознаваться в том, в чём и пред Богом хотел таиться, хотя всех он нас видит, всех он нас знает и рано или поздно, на чистую воду выведет. Так ненавижу, что имею желание убить вас, зарезать вот этим вот ножичком, – (Ватракшин потряс в воздухе маленьким перочинным ножом, который в процессе исповеди достал из кармана халата и коим, нервничая, вычищал грязь из-под ногтей), – ткнуть вам в глаз, или в висок и посмотреть, как вы подохнете. Но не бойтесь, не зарежу, – поспешил сказать он, хотя Фёдор вовсе и не испугался, – потому, что свои деньги и свои ошибки, – пояснил Илья Сельверстович, – я люблю больше, чем вас ненавижу. Идите спать. Постойте. Я по глазам вашим заметил… Вы сейчас подумали: «Как бы старый осёл, после всего, что наговорил, не раскаялся и себя бы не пырнул?». Угадал? Так ведь подумали? Не бойтесь, не пырну. Старый осёл не только деньги с ошибками, он и себя ещё очень любит. Так что опасаться вам за Ватракшина нечего. Постойте. Мне только что в голову пришла гениальная мысль. Знаете, а хорошо бы нам с вами теперь же, не откладывая на потом, взять и разбить друг другу морды? В кровь разбить, чтобы сопли кровавые по стенам летели, чтобы глаза разбухли от синяков и подтёков, да закрылись бы вовсе. Разбить друг другу морды, а затем сойтись, обняться и примириться. А? Хе-хе! Как? Хе-хе! Хорошо придумано? Да, хорошо бы так, ведь иначе никак нельзя. Ну, идите, идите. Подсвечник я вам не дам и подсвечивать вам не пойду, дорогу найдёте и в темноте. Не удивляйтесь, если найдёте в своей постели Марину. Это я её просил стриптиз вам показать, как вы, со свойственной вам проницательностью, это правильно и подметили. Для сновидений хороших, так сказать. Хе-хе. Простите мне это, а Марине передайте, что она тварь, что я её насквозь вижу, знаю, что она со мной только из-за славы и денег, и поэтому ничего не получит. Ну, идите, идите. Идите же. Не бойтесь, не зарежу я себя. Хотите, ножичек заберите с собой, если вам так спокойнее будет. Вот, возьмите.
Ватракшин стал складывать ножичек и протягивать его Фёдору. Фёдор ножичек взял, положил его на стол и, встав с кресла, направился к выходу. Он хотел выйти, открыл дверь, но выйти не удалось. Прямо перед собой увидел Ядвигу, дочь Ильи Сельверстовича, которая, судя по её виду, давно стояла за дверью и всё слышала.
Бледная, заплаканная, с дрожащими, в кровь искусанными губами и с распухшими от слёз красными веками она, не видя того, кто открыл дверь, но чувствуя, что дверь открыта, сделала несколько нетвёрдых шагов и лишилась чувств.
Фёдор и Илья Сельверстович, почти одновременно, с двух сторон, обхватили её бесчувственное тело и попытались удержать его в вертикальном положении. Но из этого у них ничего не вышло. Ядвига, выскользнув, оказалась на полу. Фёдор нагнулся и взял её на руки.
– Сюда, сюда, – кричал Ватракшин, весь побледневший.
До смерти напуганный, он бежал по коридору впереди, заглядывал во все комнаты, включал свет, где нужно и не нужно.
– Что ж это с ней? Никогда такого не было. Не умерла же она. Что ж это? – Бормотал он, как помешанный.
Войдя вслед за Ватракшиным в комнату Ядвиги и положив её на кровать, Фёдор пошёл за служанкой. Когда он с ней вернулся, то Ядвига уже пришла в себя, и, сидя на краю кровати, тихо, с упрёком в глазах, что-то шептала отцу, стоявшему перед ней на коленях.
Перебивая её, говоря громко с явно выраженным притворством в голосе, Илья Сельверстович оправдывался.
– Ядя моя, Ясочка! – Говорил он. – Да, разве это может быть правдой? Всё это я выдумал! Клянусь тебе всем святым! Клянусь нашей мамой покойной! Здоровьем своим клянусь! Всё это я придумал, чтобы Фёдора Лексеича позлить. Вот и Фёдор Лексеич тебе подтвердит. Мы с ним даже подраться хотели, из-за того, что я вру. Лгун твой папка. Ну, что теперь с ним поделаешь, жить не может без того, чтобы не соврать, не позлить. Кто ж знал, что ты не в городе, что ты всё слышишь.
Оставив Ватракшиных со служанкой, Фёдор поднялся на третий этаж, к своей койке. Убедившись, на ощупь, что в ней никого нет, он сел на её край и стал смотреть в окно.
Окно, довольно-таки большое, выходило на запад, на тот далёкий, синий лес за рекой, которого из окна, конечно, не было видно, и который стал теперь, должно быть, чёрным, как стали чёрными верхушки сосен-великанов, отчетливо выделявшиеся на приятном, лазурном фоне неба.
Любуясь видом из окна, Федор стал расстегивать пуговицы на рубашке.
– Федя, – вдруг услышал он за своей спиной взволнованный голос Марины. – С тобой можно поговорить?
Федор вздрогнул и судорожно стал застегивать уже расстегнутые им пуговицы. Он застегнулся наглухо, под самый воротник, и только после этого повернулся. Стоящая у его койки Марина была одета, и в ее намерениях ничего предосудительного не было.
– Садись, – сказал он, указывая ей на табурет, стоящий рядом с койкой.
Он ожидал, что она, прежде всего, извинится, а затем заговорит о Ватракшине, о своих взаимоотношениях с ним, но ошибся. Марина прощения просить не стала, вела себя так, будто безобразной сцены раздевания не было, а заговорила она о Степане. И заговорила так, словно уже говорила с Фёдором о нём тысячу раз, говорила и сегодня, сейчас, минуту назад, как будто их просто прервали. Стала рассказывать о том, о чём до прихода Фёдора, должно быть, думала и чем непременно, вдруг, решила с ним поделиться.
– Я всегда была готова к разлуке, – говорила она. – Но когда это случилось, когда Степан мне сказал: «Давай, не будем жить вместе», – я не выдержала, заплакала прямо при нём. Я при нём никогда не плакала, а тут нервы не выдержали. Знаешь, я однажды наблюдала занимательную картину. Девочка перед собачьим носом крутила масленым блином. И надо было видеть собачью мордочку в этот момент, мордашку, сияющую от счастья, не верящую глазам своим. Собака всем своим видом говорила: «Я знаю, что мне это не положено, не смею и рассчитывать, не обижусь, если ничего не дадут. Но если дадут, пусть это будет даже крохотный кусочек, то счастливее меня на земле никого не будет». Вот и вся наша семейная жизнь, все наши отношения со Степаном, как две капли воды походили на сцену, о которой сейчас рассказала. Я жила с ним и смотрела на него, как преданная собачонка. А он то и дело вертел перед носом блином, манил, обманывал, а я всё ждала, надеялась, думала, хотя бы кусочек, но он… Он ни кусочка от своего блина мне не отломил.
Я Степана очень любила, первый месяц после свадьбы промелькнул, как один день. Да, и те восемь месяцев, до армии, слишком быстро кончились. Он был тогда лёгкий, свежий, живой, то, как ребёнок наивен, то вдруг слишком уж рассудителен и умён. Я порой за ним даже записывала. Ну, то есть, слова его, то, что сказал. Я не ходила, а летала, так было хорошо. Мы перед его армией от счастья с ума оба сошли. Нам нужно было бы умереть тогда, вдвоём умереть, потому, что лучше уже не будет. Впрочем, это всё глупости. С ума, говорю, сошли. После любовных объятий, ночью, часа в три, садились за рояль, играли в четыре руки, пели, хохотали, носились по квартире, как угорелые. Откупорим шампанское, смеёмся, кричим в открытое окно, на всю Москву: «Люди, не спите». Да, за те восемь месяцев счастья я заплатила дорогой ценой, и до сих пор плачý. А потом его забрали в армию и началось. Стал писать какие-то холодные письма, а вернулся, так и вовсе чужим. Стал каким-то дерганным, нервным, появилась в нём подозрительность. Стал ревновать буквально ко всем, а сам при этом, не забывал на каждую встречную юбку поглядывать. И это при мне, на меня никакого внимания не обращая. Как будто меня и не было рядом, как будто всё это нормально. Я тогда уже поняла, что это – всё. Пришёл конец нашей семейной жизни. Стала плакать белугой по ночам. Он спросит – чего плачу? Ну, а что я могла ответить? Что тут скажешь? Он же стал думать, что я ему изменяю, а плачу от того, что совесть нечиста и меня на супружеском ложе терзают угрызения нечистой этой совести.
– Надо было правду сказать. Объяснить всё, как есть.
– Федя, думаешь, я не говорила? Говорила. Только я же видела, что он не верит, даже не слушает. Он хотел думать, что я ему изменяю, а больше и знать ничего не желал. Уж кто-кто, а я его знаю. Так он ничего не говорил, не обвинял, только думал всё об этом. Думал и молчал, страшно было смотреть. Ну, представь себе моё положение. Оправдываться в тысячный раз, зная, что он оправдания эти не слушает? Ох, сколько слёз я тогда выплакала, сколько передумала всего. Так намучалась, что теперь кажется, – сил бы не хватило всё это заново пережить. Врагу лютому того не пожелаю, что я пережила. Да, и чего от тебя-то скрывать. Несмотря на все слёзы свои, несмотря на то, что он сплетне поверил, я всё ещё надеюсь на какое-то чудо и жду его. Ведь ты же знаешь, мы с ним официально не разведены и не разрывали, так как оно иной раз бывает, что уже ничем не склеить. Он просто ушёл от меня, вот и всё. И я не была бы женщиной, если бы не верила в то, что он однажды так же просто ко мне вернётся.
А сплетня, о которой Марина упоминала, была следующая. Сокурсник Степана, заметив Марину в городе, подвёз её на машине к институту. После чего распустил слух, что она, во время поездки, стала его любовницей. Сболтнул, и тотчас признался, что всё это только мечта, его выдумка. Но слово не воробей. Степан сокурсника поколотил, жене сказал, что сказанному не поверил, но ей поставил в вину то, что села в чужую машину. Подразумевалось: если согласилась сесть, могла и изменить. Все доводы жены, что тот же сокурсник не раз подвозил их и находился на положении хорошего знакомого, супругом не брались в расчет. Марина решила, что Степан всё же сплетне поверил.
– Да, – заговорил Фёдор, обращаясь более к себе, нежели к собеседнице. – И ты, и Степан оба красивые, замечательные люди. И как при этом мучаетесь. И чего, казалось бы, не жить счастливо? Или и впрямь красота лишь для мучений даётся?
* * *
Степан проснулся рано утром с сухими, как у больного человека, глазами. Нехотя встав, походив, поохав, с трудом привыкая к пробуждению, он, не умываясь, прошёл на кухню. На кухне он долго, с каким-то особенным интересом, следил за тем, как на тонких стенках стакана, то появлялась, то исчезала испарина от горячей заварки. Кончилось наблюдение тем, что он, вспомнив об одном вчерашнем намерении, сорвался с места и кинулся в ванную.
Через полчаса, умывшийся и побрившийся, одетый как жених, в чёрный костюм, белую рубашку, галстук и мягкие туфли со скрипом, Степан отправился в Храм. Поехал в единственный ему известный, располагавшийся на станции метро Бауманская.
При входе на него налетели просящие милостыню. Он достал из кармана мелочь и раздал, кому сколько досталось. Последней не досталось, и тогда он дал ей рубль, за которым забирался в карман особо. Заметив это, стоявшая рядом женщина, последняя из тех, кому досталась мелочь, схватила Степана за рукав и пристыдила.
– Что ж ты меня обидел? – Сказала она. – Ей рупь, а мне всего двугривенный!
Ничего ей на это не ответив, Степан достал бумажник и дал пристыдившей его десять рублей.
Войдя в Храм, он увидел там большое скопление народа, шла служба, было необыкновенно красиво.
«И как на такую красоту могла рука подняться? – Подумал он, вспомнив взорванную деревенскую церковь. – Надо бы отца помянуть, и за здравие матушки свечку поставить».
С этими мыслями он подошёл к тому месту в Храме, где продавали свечи.
– Какие подешевле? – Спросил Степан.
Ему почему-то казалось, что свечи стоят необыкновенно дорого, потому как, должно быть, большая честь ставить свечу в Храме перед иконой.
– Пятьдесят копеек, рубль, два рубля, – говорила женщина, не разобрав сути вопроса до конца, когда же поняла, что от неё хотят, тут же добавила. – Вот, по тридцать копеек, самые дешёвые.
– Дайте две, за два рубля, – сказал Степан и, получив свечи, поинтересовался, как и где ему их поставить, чтобы было правильно. – Слышал что, вроде как «за упокой» свеча ставится слева от иконы, а «за здравие» справа. Или наоборот?
К нему подошла миловидная старушка, всё это слышавшая, и взялась им руководить. Первым делом повела к Кресту, сказала, что за усопших свечи ставят на канун у Распятия. Степан снова взялся спрашивать, слева или справа, но оказалось, что не имеет значения. Проблема была в другом, толстая двухрублёвая свеча не могла найти себе подобающего места. И опять на выручку пришла старушка, и вскоре свеча уже стояла, возвышаясь над всеми остальными.
– А за здравие к иконе Спасителя или Божьей Матери «Всех скорбящих Радость», – сказала она и принялась давать другие рекомендации, но Степан остановил её вопросом.
– И к Казанской иконе Богоматери, можно?
– Можно. В нашем соборе хранится весьма чтимый список Казанской иконы Богоматери, а ещё покоятся мощи Московского чудотворца святителя Алексея.
Степан ходил со старушкой по Храму и делал всё то, что она велела. Поставил свечу к Казанской иконе Богоматери, приложился к ней. Подошёл, приложился к мощам Святителя Алексея. Вернулся в придел, где проходила служба с твёрдым намерением отстоять её до конца.
Прямо перед ним стоял худощавый монашек, облачённый в рясу, который часто крестился и низко при этом кланялся. В своих поклонах монашек всякий раз касался тыльной стороной ладони, плит Храма, что очень Степану понравилось. Сам он не крестился и не кланялся, стоял и, слушая священника, потихоньку разглядывал молящихся.
Люди были разные, и юные, только начинавшие жить, и пожилые. Некоторые стояли на коленях, крестились проникновенно, были и такие, как он, которые не крестились.
Женщина средних лет подошла к монашку и, сказав что-то хорошее и тёплое ему на ушко, подарила яблоко. Монашек её поблагодарил, но от яблока временно отказался, сказав, что возьмёт его только после службы. Но женщина настаивала, и монашек ей уступил. Спешно и конфузливо поблагодарив дарительницу, он положил яблоко на подоконник, рядом с которым стоял, и продолжал молиться.
Степан понимал, что неприлично в Храме, да ещё и во время службы, смотреть по сторонам, но не мог удержаться и продолжал разглядывать прихожан.
Впереди, шагах в пяти, не прямо перед собой, а чуть левее, он заметил Максима и Жанну. Они стояли друг за другом, впереди она, за ней он. Степан сразу определил, что пришли они не вместе и похоже, Жанна ещё не знала, что за её спиной стоит Максим. Наблюдая за ними со стороны, Степан опытным глазом определил, что они не чужие друг другу люди, и не просто знакомые, а именно мужчина и женщина, состоящие между собой в определённых отношениях, да и, скорее всего, находящиеся в самом пике взаимного чувства.
Если бы его попросили объяснить, почему это он так вдруг решил, то он скорее всего растерялся бы и слов для объяснения не нашёл, но весь его жизненный опыт, опыт любовника, говорил ему, что это именно так.
Тем временем, словно что-то почувствовав, Жанна медленно повернула голову и, увидев Максима, посмотрела ему в глаза долгим внимательным взглядом, после чего, опустив голову, стала пробираться к выходу. Максим последовал за ней.
Степан вспомнил самонадеянные слова дяди: «она меня любит, обмануть не сможет». «Вон, кого она любит», – подумал он, и вдруг в службе что-то изменилось. Все праздные мысли пропали, всё замеченное им ранее разнообразие молящихся разом исчезло, слилось во что-то единое, неразрывное. Наступил особенный, торжественный момент. Окружающие его люди, все разом, вдруг, запели.
– Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, – доносилось со всех сторон, – Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.
– «Откуда у них такие ангельские голоса?», – думал Степан, приходя в восторг, сожалея, что не знает слов и не может петь вместе со всеми. Но, стремясь к единению, он незаметно для себя стал подтягивать, издавать гортанью звуки сходные с неизвестными ему словами и испытал от этого, неведомое ранее, состояние родства со всеми стоящими рядом, и даже с теми, кто находился за стенами Храма. Испытал необыкновенную радость слияния своей души с душой общей, с душой народа.
Отстояв службу до конца, Степан вышел на улицу. Случилось невероятное. Он заметил, что люди изменились в лучшую сторону.
«Странно, – думал он, не пряча улыбку, – все вдруг подобрели. Были бы всегда такими, как теперь, как легко бы жилось».
От той женщины, которой при входе пожаловал рубль, он, против воли своей, узнал следующее:
– Мы «шалашовку» ту избили и прогнали, – возбуждённо говорила она. – Я ей сказала: «не умеешь милостыню просить, не будешь». Так я говорю?
– Так, – подтвердил Степан, находящийся в блаженном состоянии, совершенно забывший про то, что происходило с ним до входа в Храм.
Вернувшись домой, он хотел позвонить Фёдору, рассказать, что ходил в церковь, что с ним там произошло чудесное превращение, что видел там Максима с женой Черногуза, но взяв телефонную трубку в руку, передумал.
«Потом, – решил он. – Ещё будет смеяться, что не доехал до моря. Пусть думает, что я с дельфинами купаюсь».
Степана одолевало теперь другое желание, грудь и голову теснили новые чувства, новые мысли. Ему захотелось побыть одному. Он любил наедине рассуждать.
«Так вот что такое церковь, – открывал он для себя новую страничку в книге бытия. – Она даёт ощущение сопричастности ко всему и ко всем, ощущение семьи. Даёт понимание того, что все мы, люди – не только граждане-товарищи, но – братья и сёстры, существа друг для друга родные, близкие. Да, да, именно так. И если Бог для чего-то и создавал жизнь и людей, так только для этого, понятного и ясного мне теперь, любовного, в духовном смысле, родства. Так вот что такое церковь!», – повторял он, ликуя.
– Как хорошо! Ой, как же мне хорошо! – Выкрикнул он во весь голос и, походив в возбуждении по комнатам, вспомнив Жанну с Максимом, стал думать о Марине, о первом своём поцелуе с ней.
«Какой же краткий и в тоже время длительный по ощущению был этот миг», – вспоминал Степан, и сердце его замирало.
Случилось это давно, во время спектакля, на сцене Дворца Культуры, а точнее, за сценой. Переодетый в нарядный костюм сказочного молодца и готовый к финальному, торжественному выходу, он стоял в полутьме рядом с Мариной, следил за тем, что творилось на сцене, слышал дыхание зала и находился в состоянии, близком к восторгу. Степан не помнил того, как он к ней повернулся, как обнял её, помнил только то, что она сама потянулась к нему, и что губы её дрожали. Это был даже не поцелуй, а какое-то лёгкое, трепетное касание, всего лишь касание. Да, но ничего в его последующей жизни не было сильнее и значительнее того самого касания.
* * *
Встреча Максима с Жанной в церкви действительно, была случайной и заранее не планировалась. Увидев накануне Жанну с незнакомым мужчиной, Максим ни о чём предосудительном не подумал, надеялся, что завтра же всё разъяснится самым наилучшим образом. Проснувшись утром дома, он оделся и поехал в Елоховский собор. Туда, куда с детства ездил с отцом.
Когда входил в Храм, служба там уже шла, впереди, на фоне иконостаса, мелькнуло что-то до боли знакомое, он тотчас опустил глаза и пошел за свечами, когда же свечи были поставлены и он пригляделся, то узнал в светловолосой головке, покрытой лиловым прозрачным платком, голову Жанны.
Пробравшись к ней и стоя за её спиной, он какое-то время оставался незамеченным.
Выйдя из Храма, любовники молча дошли до станции метро Бауманская. Не разомкнув уста, спустились на эскалаторе вниз и вошли в вагон подошедшего поезда.
Вагон был с кабинкой машиниста и что важнее всего, дверь в кабинку оказалась незапертой. Взяв Жанну за руку, Максим вместе с ней зашёл туда.
Это была неосвещённая, тесная комнатёнка с приборами и железяками. Всё её преимущество заключалось лишь в том, что она давала возможность остаться наедине и спокойно поговорить. Первой заговорила Жанна.
– Видимо, от судьбы не уйдёшь, – сказала она. – Первый раз в жизни пришла в церковь и надо же… Ведь я к тебе и шла.
– Выходи за меня замуж, – предложил Максим.
– Да, да, – сдерживая нахлынувшие было слёзы, отвечала Жанна. – Я очень бы хотела. Очень хочу, – поправилась она, – чтобы ты был моим мужем. Очень хочу, чтобы ты называл меня женой. Знаешь, а ведь раньше я не хотела иметь детей. Я даже в детстве никогда не играла с куклами, не пеленала их, не возила в колясочке, не баюкала, а теперь хочу, очень хочу ребёнка, хочу только от тебя. А лучше двойню, чтобы мальчик и девочка. Мальчика назвали бы Максимом…
– А девочку Жанной.
– Да. И были бы у нас маленький Максим и маленькая Жанна. Как красиво, как счастливо, оказывается, можно жить! Жить, имея мужа, детей, свою собственную семью. Мы бы обязательно жили вместе. Жили в любви и никогда бы не ссорились. Правда?
– Правда.
– Только сейчас… Только сейчас я понимаю, что нет для женщины выше счастья, чем счастье семейное.
– Всё так и будет, – взволнованно пообещал Максим.
– Если бы, – грустно промолвила Жанна и погрузилась в себя. Взгляд её затуманился, но ненадолго.
– О чём ты думала? – Спросил Максим.
– О себе, – ответила Жанна, улыбаясь грустной, приятной улыбкой. – О том, что я самая счастливая и самая несчастная.
Она отколола от платья большую, золотую брошь и приколола её Максиму на рубашку. Брошь была выполнена в виде кленового листа.
– Это мой талисман, пусть хранит тебя, – сказала она, блестя глазами.
Договорились, что сегодня же Жанна уйдёт от мужа. Съедет с квартиры. Снимет другую, известную только ей. Завтра утром позвонит Максиму, скажет новый адрес, и он к ней приедет.
– А, теперь поцелуй меня и иди, – сказала Жанна.
Максим поцеловал любимую тем коротким, холодным и бесстрастным поцелуем, которым всегда целовал на прощание, дабы понапрасну не распалять её и самому не распаляться. Но этим не кончилось. Когда он уже отвернулся и собирался уходить, Жанна сказала:
– Губы у тебя сладкие.
– Это от «ситро». Я «ситро» утром пил, – пояснил Максим, поворачиваясь к Жанне и обнимая её.
На этот раз он был уже не в состоянии контролировать себя, и поцелуи пошли страстные, долгие, доводящие до головокружения.
– Ну, хватит. Хватит же, – задыхаясь от волнения, говорила Жанна. – Жадина ты мой, любимый! Ну, иди же. Иди. Завтра тебе позвоню.
– Один раз. Последний, – домогался Максим, будучи не в силах отнять своих губ от её.
Жанна осторожно отвернулась, затем сама чмокнула любимого в уголок рта и, отстранив его от себя, с удивившей Максима твёрдостью, сказала:
– Иди.
Выйдя из вагона, Максим подбежал к окну той кабинки, где находилась любимая. Жанна, увидев его, прильнула губами к стеклу. Он хотел сделать то же самое, но поезд тронулся, и сделать это ему помешал.
Несмотря на эту неприятность, настроение у Максима было великолепное. Вспоминая слова, сказанные Жанной, а также те особенные интонации, с которыми они были произнесены, Максим сиял от восторга и радости, не ведал сомнений и страха, стремился скорее домой.
Он совершенно забыл о том, что сегодня нужно было идти к врачу, продлевать или закрывать больничный, что с воскресного дня не видел Назара, без которого прежде не мог провести и минуты. Он думал теперь только об одном – должна позвонить Жанна. Сказала – завтра утром, а вдруг сегодня вечером? Почему бы и нет? Вот он домой и торопился.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































