Текст книги "Люблю"
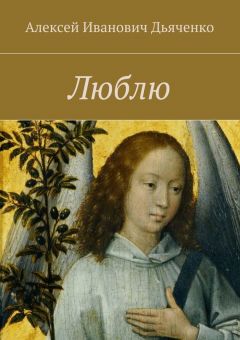
Автор книги: Алексей Дьяченко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 31 страниц)
Возбуждённые долгим гоном голуби тут же принялись ухаживать за своими и чужими голубками, яриться и ворковать.
Исходя из количества пустых бутылок, а так же из того, что Вольдемар набрался смелости гонять голубей до издыхания в то время, когда им нужно только яйца высиживать, да ухаживать за молодняком, Максим сделал вывод, что пил Назар не один. Хотя, по внешнему виду Вольдемара, определить это было невозможно.
Вольдемар был карикатурно некрасив, но даже и за такой внешностью скрывалось что-то более отвратительное, а, главное – неуважаем был сверстниками. Максим помнил, как однажды, находясь на соседней голубятне, где держали голубей взрослые ребята, неожиданно появился Вольдемар. Издалека заметив бутылку и пьющих приятелей, он, им крикнул:
– А ну, тормози!
– Не тормози, не тормози, – сказали все окружающие обладателю стакана, который в это время пил и от крика вдруг приостановился. Из чего Максим и вывел, что Вольдемара не уважают.
Был он женат, нигде не работал, имел младшего брата по прозвищу Вавила. Болезненно худощавый, всегда ходил в пиджаке и кепке. Максиму было непонятно, почему двух родных братьев назвали одним именем. Ещё непонятнее было то, что ни Вольдемара, ни Вавилу по имени, то есть Володей или Вовой, никто не звал. Так же загадкой для Максима было то, почему Вольдемара зовут Вольдемаром? С какой стати к нему это имя пристало? В понимании Максима, он совсем для этого пышнозвенящего образа не подходил. Истинного Вольдемара Максим представлял себе чистым, холёным, откормленным, дореволюционным бароном. Зато брат его, покойный, тот был настоящим Вавилой. Только стоило взглянуть на него и сразу скажешь – точно Вавила, ни дать ни взять.
Вавила среди сверстников тоже авторитетом не пользовался, сразу после школы устроился сантехником. Школу же закончил следующим образом, до седьмого класса кое-как дотянули, а далее не смогли. Три года просидел в седьмом классе, после чего его из школы выгнали. Даже для Вавилы, как казалось Максиму, было неприлично смолоду идти в сантехники, впрочем, он проработал сантехником не долго. Не проработал и года. Обворовал киоск «Союзпечать», был арестован и приговорён к трём годам лишения свободы. Вместо трёх отсидел только год и был отпущен по амнистии.
Вернулся в наколках, весёлый. Максим за те три дня, которые он провёл на свободе, видел его дважды. Видел сам момент возвращения. Вавила нёс под мышкой ламповый приёмник, закутанный в скатерть, возможно, тоже где-то по дороге украденный, и то, как он с братом и его женой шёл в местный кинотеатр. Вскоре после этого Максим узнал, что Вавила снова под судом – обвинялся в ограблении школы, украл глобус, занавески из учительской и тринадцать рублей денег. Получил за это пять лет, там, в тюрьме, и остался. Одни говорили – повесился, другие – застрелен при побеге. Могло быть и так и эдак. Был Вавила человеком неуравновешенным, спокойно ему не жилось. Вольдемар отличался от брата кротким нравом и тихим голосом, а так же тем, что никогда никуда не лез. Пил и мирно жил с женой в своём уютном московском дворе.
– Ну, и как оно, винцо выпитое? – Спросил у Вольдемара Максим, которого всё увиденное неприятно удивило.
– Наивкуснейшее, – ответил тот. – А что? Воскресный день, народ гуляет.
– И много Назар выпил?
– Нет. Он, чуть-чуть. И я немного, – оправдывался Вольдемар, масленно улыбаясь. – Мы и тебе оставляли сто грамм, но видим, не идёшь.
– Я не пью, – огрызнулся Максим.
– А я пью, – раздался голос Назара, выбравшегося из будки.
Неровным шагом он подошёл к Вольдемару, сунул ему что-то в руку, после чего прошептал пожелания. Тот, осторожно взглянув на то, что ему сунули и, не говоря ни слова, засеменил прочь от голубятни.
– А я пью, – повторил Назар, глядя на Максима мутными красными глазами. – Пью и хочу напиться.
– Зачем? – Спросил Максим, впервые видя друга в таком состоянии и находясь от этого в недоумении.
– Затем, что бы Вольдемару морду разбить, – ответил Назар, стараясь улыбаться.
Сплюнув через зуб себе на брючину, стирая слюну, он, после короткой паузы, стал задавать вопросы.
– Дурной я, Макс? Дурной?
– Дурной, – ответил Максим и стал прохаживаться по асфальтированной площадке перед будкой, разглядывая при этом голубей, решив, что пока Назар не протрезвеет, разговаривать с ним бесполезно.
Через двадцать минут появился Вольдемар. Он шёл быстрым шагом, оглядываясь и озираясь по сторонам, как шпион, за которым гонятся. И хотя в руках ничего не нёс, было заметно, что не пустой, что возвращается отягощённый драгоценным грузом. Не говоря ни слова, он прошмыгнул в будку и через несколько мгновений вышел оттуда с озарёнными глазами человека, имеющего возможность в любой момент, когда только сам того пожелает, прикоснуться душой к счастью.
– Всё «хоккей»! – Доложил он и высыпал в руку Назара горстку мелочи.
– Что это? – Грубо спросил Назар, памятуя о том, что обещал Максиму набить Вольдемару морду.
– Что-что. Взял две, – мягко и по-матерински нежно ответил Вольдемар.
Склонившись, по-лакейски, над самым ухом, он зашептал:
– Взял, чтобы сто раз не бегать. Думаешь, просто? Очередь километровая, стоит в три ряда. Кругом милиция, да ко мне ещё пристал по дороге один клиент. Говорит: «землячок, отдай одну». Еле отвязался.
Прослушав весь этот вздор, имевший цель растопить лёд души, Назар размяк и понял, что бить Вольдемара ему не за что.
– Неси сюда, – сказал он шептавшему в ухо. – Здесь разопьём.
– Зачем? – Взмолился Вольдемар. – Увидят, настучат. Скажут на голубятне пьянки, безобразие. Пойдём в будку, там спокойнее. Правильно, Максим?
Максим стоял молча, не обращая внимания ни на Назара, ни на Вольдемара. Демонстративно разглядывал голубей и Вольдемару на его вопрос не ответил.
Поддерживаемый собутыльником, Назар вошёл в будку. Загремели пустые бутылки, из открытой двери выскочил согнанный с гнезда голубь.
Через две минуты в дверях голубятни показался человек в кепке. Он потирал руки, посасывал от удовольствия свой язык и беспрерывно хихикал. Это был Вольдемар, обновленный стаканом вина, любящий в данную минуту всё и вся. Блестевшие глаза его лучились, как у пророка, и не беда, что не было в них светлой силы, пророкам лишь присущей, была в них любовь, пусть искусственно вызванная, многими не замеченная и многого не творящая, но зато такая понятная и милая, что у Максима, видевшего Вольдемара в этот момент, вся агрессивность исчезла, и на лице появилась улыбка. Вольдемар из врага и вредителя превратился в безобидного тихого человека, на которого и злиться-то грех.
– Поздравляю вас с принятием, – сказал Максим с большой долей иронии.
– Спасибо, – не замечая иронии, ласково поблагодарил Вольдемар.
– А, где же ваш подручный?
– Кто? Подручный? А, подручный. Сменил меня, сейчас будет, – ответил Вольдемар, с любовью разглядывая солнце, которое светило ему по-особому.
И, действительно, скоро появился Назар. Вышел, качаясь, держа в руке налитый до краёв стакан. Он брезгливо морщился, глядя на вино, и совсем не походил на своего обновлённого собутыльника. Не послушав кинувшегося к нему Вольдемара, кричащего: «не пойдёт, передохни», стал пить, но, не осилив и половины, выпустил из рук стакан, который упал и разбился, и тут же всё выпитое и не выпитое им оказалось на асфальте рядом. Его стошнило.
– Не пошло. Не пошло! – Как заклинание, повторял Вольдемар и всё не мог поверить, что случилось непоправимое.
После неудачной попытки напиться, разум у Назара потихоньку стал проясняться. Появилась надежда, что скоро он протрезвеет, и Максим, подсоединив к проходящей вблизи от голубятни водопроводной трубе резиновый шланг, имевшийся у них в хозяйстве, стал поливать раздевшегося до трусов Назара направленной струёй.
Редкие прохожие, наблюдавшие эту картину, смеялись и советовали идти купаться на речку. Голуби подлетали к воде, ручьями разбегавшейся по асфальту, пили не успевшую ещё нагреться прохладную воду и подобно Назару, принимали водные процедуры.
Вольдемар, оставшись без дел и обделённый вниманием, занятый единственно лишь поддержанием огня в своих глазах, едва лишь начинал грустить и обнаруживал, что меркнет сей огонь, скромно и без спроса (хотя надо отдать ему должное, всегда что-то губами шептал, что при случае легко можно было выдать за его «Будете? Не будете. Ну, как хотите»), заходил в будку, из которой возвращался уже не грустным, а весёлым и даже счастливым.
Пока Назар обсыхал и приходил в себя, Вольдемар надоедал рассказом о том, как получил приказ от жены купить цыплят, а так же деньги на это. Как с Глухарём пропил денежки, а вместо цыплят наловил на чердаке сизарей и общипав, выдал за молодых курочек.
Одарив Вольдемара непочатой бутылкой и отослав его, Максим стал расспрашивать Назара о том, что за время его отсутствия произошло.
– На Птичий ездил?
– Не до Птичьего было, – обиженно начал Назар. – К бабе в субботу ходил.
– К какой? Зачем? – Переспросил Максим, не понимая.
– К какой, к какой. К рябой! Ольга, эта… Ну, ты, помнишь, дрянь из шпионского дома. Она мне в пятницу позвонила.
– Ну, и?
– Ты за ягодой поехал, а мне, как обещала, работу дала.
– Нет! – Опешил Максим, решив, что и Назар был у Жанны.
– Да! – Со злобой произнёс Назар и вынул из кармана брюк скомканные деньги. – Вот моя зарплата за субботу. Была сотня, теперь меньше, с Вольдемаром пропили.
– Из-за этого напился? – Спросил Максим.
Он хотел скорее узнать к кому Назар ходил и одновременно с этим размышлял: сказать или не сказать, что и сам был в гостях?
Решил о своём молчать. И не потому, что денег не было и делить нечего, а потому, что встреча с Жанной была для него чем-то особенным, о чём ни с кем говорить было нельзя.
– Не из-за этого. Зачем мне из-за этого напиваться. Утром сильно колотило, вот и выпил, чтобы не трясло. Хотел согреться. Знаешь, кого мне эта тварь подсунула?
– Нет, – тихо сказал Максим, бледнея.
Теперь, почему-то, он был совершенно уверен, что и Назар провёл ночь с его Жанной.
– Знаешь, кого? – Рассказывал Назар, не замечая бледности друга. – Заведующую нашего Овощного. Ту свиноматку с огромным торсом, что матюжком понесла, когда мы гнилую картошку из пакетов выбрасывали. Помнишь? Такая тётя-жиртрест, семь на восемь, восемь на семь. Не помнишь? Ну, и чёрт с ней. Она тоже меня не запомнила. Думала, что и я её не знаю, сказала, что работает воспиталкою в детсаде. Фу-у, как противно всё было! Всё! Никаких больше заведующих. Никаких баб. Вчерашней ночи мне на всю жизнь хватит.
– Что же, и жениться теперь не будешь?
– Конечно, не буду.
– А, если полюбишь?
– За что их любить? Это тебя тянет к ним, пока не знаешь. Ничего, вспомнишь меня.
– Зачем же ты, с такой пошёл? Сам же говорил…
– А, деньги? Деньги-то нужны. Да, и поверить не мог до последней минуты, что мы за этим идём. Так, всё, как-то само собой получилось. Она в семнадцатом доме живёт, у магазина. Пришли, там две комнаты. Одна на замке, под склад отдана, да и вторая, та, в которой спали, вся в коробках, в свёртках, не дом, а кладовая. Говорит: «позвони родителям, скажи, чтобы не волновались». Я номер набрал, слышу, трубку батя поднял, говорю: «сегодня ночевать не приду», и трубку бросил. А она хвалить начала: «О! Как ты запросто». Какие-то конфеты мне подсунула с ликёром внутри, бутылку поставила. Я не пил. Говорит: «Я сейчас приду, а ты раздевайся и ложись». Пришла в ночной рубашке, мазью намазанная. Какая-то гадкая мазь, очень противный запах. Такая, что я чуть астму от неё не схватил. Настолько едкая, что дышать невозможно, душит. Пришла и ко мне лезет, а кровать у неё не удобная, узкая. Поначалу, естественно, был небольшой интерес, а потом началось. Замутило, повело, так паршиво стало, что хотелось выбить окно и убежать. Она, свинья, развалилась и дрыхнет, а я не спал. Всю ночь не спал. Думаю, а что если нас с ней кто-то видел и отцу рассказал? Думаю, придёт сейчас и убьёт. А она же на первом этаже живёт, ему в окно залезть не трудно. Так прямо лежал и ждал звонка в дверь или что он в окне появится. Да, ещё и храпела. Так храпела, как трактор. А, то вдруг возьмёт да и в животе у неё что-то заурчит. И долго так продолжается, как водопровод. Словно вода по трубам бежит. Не человек, а батарея отопления, агрегат какой-то. Был момент, так на неё разозлился, что не вру, был бы нож, взял бы и зарезал. Точно. Или её, или себя. Мерзко было. Противно Макс, всё это. Противно. За что же их любить? Поверь мне – изо рта воняет, под утро ещё и газы пускать принялась. Выпустит, проснётся, спрашивает: «Ты спишь?». Я глаза закрою, притворюсь – вроде сплю. Успокоится, заснёт и снова храпеть, газовать и снова: «Ты спишь?» и опять храпеть. Вот всю ночь так. А ночь такая длинная была, что думал утро и не настанет. Думал – подохну. В полпятого сбежал, сказал, что голубей кормить надо, а когда хватился, уже поздно было, не две сотни за ночь, как обещали, а только одну дала. Пожадничала.
– Да, как же ты взял? – Спросил Максим, недоумевая.
– Я их не взял. Не взял бы. То есть – не просил. Она мне их в карман сунула. А мне так плохо было, что отказываться не стал. Она ещё и бутылку, ту, что с вечера открыла, дала. С собой унёс. Не соображал ничего, спать очень хотелось. От неё на голубятню пошёл, не домой же идти в таком виде. Проспал до шести, а в шесть Вольдемар заявился. Он в окно меня с бутылкою видел. Пришёл и советует – выпей, согреешься. Я же, как проснулся в шесть, так и трусился весь. Колотило, словно на северном полюсе побывал. Ощущение было такое, будто избили и снаружи и изнутри. Колотило так, что ни слова сказать не мог. Ну, и выпил с Вольдемаром её вино. Вроде, на время, лучше стало. А, потом только и помню, что сплю, проснусь, дам Вольдемару на вино и опять сплю. Согреться хотел. Пил, чтобы отпустило. Ну, а дальше ты знаешь.
– Да, зачем ты пошёл?
– А, затем. Я же не знал, что плохо будет. Вот теперь узнал, в другой раз не пойду. Давай Макс выпьем по чуть-чуть, не выливать же, что в бутылке осталось.
– Ещё не напился?
– Ну, тогда не спрашивай. Тошнит от неё. Понимаешь, тошни… – не договорив последние слова, Назар согнулся, беспомощно прижал руки к груди и его снова вырвало.
– Говорила: «избалуешься, жениться надо», – продолжал он, отплёвываясь, вытирая выступившие на глазах слёзы. – Ещё какую-то чушь несла. Смотрит на меня своими поросячьими глазками и спрашивает: «И за что ты меня полюбил?».
– Ты что, в любви объяснялся?
– Да, нет. Выдумала, – замялся Назар и, опустив глаза, стал вилять. – Или «любишь» говорила? Не помню. По-моему, спрашивала так: «За что ты меня любишь?». А, что тут ответишь?
– И, что ты сказал?
– За доброту, говорю.
– Да ты, может, и в самом деле влюбился, – засмеялся Максим.
– Смейся. Я бы посмотрел, что бы ты на моём месте делал.
– Я бы не пошёл, – перестав смеяться, резко ответил Максим.
В тот самый момент, когда Назар рассказывал ему о мерзостной ночи, проведённой с заведующей, Максим, погружаясь в томную негу, вспоминал Жанну.
«Всё в ней совершенно, – думал он. – Но особенно тело».
Он вспоминал, как стеснялась она его пристального взгляда, его рассматриваний. Как всем видом своим просила пощады, но вместе с тем, Максим это чувствовал, ей нравилось, что он так жадно и беспощадно смотрит на неё.
Как ни жалко ему было Назара, грустить вместе с ним Максим не мог. Для него теперь открывалась своя, совершенно новая, полная радостных открытий и ощущений, жизнь.
* * *
Просидев всю ночь в пристройке за книгой, Фёдор лишь на рассвете оставил чтение и, войдя в дом, лёг спать. Рассчитывал хотя бы пару часов провести в объятиях Морфея, но и этого ему не удалось. Он не спал, лежал и слышал, как Полина Петровна собирала в дорогу Максима, как мама с братом обсуждала, где кошке соседской рожать и почему. После того, как Максим ушёл, и разговоры в доме стихли, вдруг залаяла соседская собака и лаяла громко и долго, словно кто-то её дразнил.
В такой обстановке даже к очень хотевшему спать Фёдору, сон не приходил. Наконец, собака умолкла, всё стихло, как в глубокую мягкую перину он потихоньку стал погружаться в грёзы, но тут уже матушка прервала сладкий процесс, теребя за руку и взволнованно говоря: «Вставай, Федя, печник пришёл».
В любом другом случае Фёдор ещё повалялся бы в постели, по меньшей мере, сладко потянувшись, полежал бы под тёплым одеялом какое-то время. Теперь же, напуганный своим же выдуманным образом, как бы остерегаясь немедленного удара топором, просто вскочил и, взволнованно озираясь, стал смеяться над своею мнительностью.
Печник оказался очень симпатичным сухощавым старичком, похожим на экранный образ полководца Александра Васильевича Суворова. Пришёл, как и обещал, в воскресенье утром, и сразу же стал осматривать дом, в котором ему предстояло класть печь. А так же материалы для этой цели приготовленные.
Отказавшись от предложенного завтрака, он, однако же, при упоминании о водке оживился и с весёлым блеском в глазах согласился выпить грамм восемьдесят. Выпив и закусив, сначала робко, а затем всё бойчее, начал командовать. Первое, что сделал в практическом плане – приготовил раствор из цемента, песка и воды. Разобрал, при помощи Фёдора, пол в углу комнаты, где предполагал строить печь.
– А теперь, сынок, спускайся и копай мне две борозды, – сказал он Фёдору, указывая на подпол.
Тут же был заложен фундамент, а следом за этим «полководец» так распланировал фронт работ, что Фёдору не оставалось времени даже на то, чтобы смахнуть пот со лба. Подача кирпича, раствора, а главное, его приготовление, всё это легло на плечи Фёдора. Из ямы, что за деревней, таскал глину, из реки воду, из кучи песка, сваленной у дома, соответственно, песок. Всё это в специально приготовленной ёмкости при помощи лопаты и труда своих рук, превращал в раствор, нёс на пробу печнику, и только после его одобрения наполнял им вёдра и таскал их в дом, где кипела работа и поднималась печь.
С непривычки во всех частях тела у Фёдора ломило, но, несмотря на это, темп работы его устраивал. Потому что он, ни на секунду, не забывал, что в Москве его ждут и нужно, как можно скорее, туда вернуться.
И он не ходил, а бегал с тяжёлыми вёдрами в руках и даже пританцовывал, замешивая раствор, с лопатой у корыта. Цемента понадобилось немного, он пошёл только на фундамент, и как предполагалось, должен был сыграть свою роль при возведении трубы.
Печь клали с семи тридцати, до половины второго ночи, с несколькими перерывами: пропустить восемьдесят грамм, пообедать и отвлекаясь на приходящих из любопытства соседей. К половине второго ночи печь была готова и выведена под трубу, к самому потолку. Оставалось вывести трубу и обмазать печь.
На ночлег, печника и Фёдора, по собственной просьбе последнего, определили в пристройку.
За припозднившимся ужином они разговорились.
– Это что же, печатаешься, что ли? – Спрашивал печник.
– Пока только пишу, – отвечал Фёдор.
– Не беда, всё это придёт. Главное тебе мастером стать, остальное наверстаешь. И жениться успеешь, и детей нарожать, и деньги тоже – всё будет. Правильно?
– Правильно, – согласился Фёдор.
Печник от выпитой водки стал особенно добр, постоянно улыбался, глаза его смеялись и блестели.
– Я тебе так скажу, – говорил он. – Мастер мастера всегда поймёт. Точно?
– Точно, – соглашался Фёдор, тоже улыбаясь.
Улыбался он оттого, что ему было хорошо после физически тяжёлого, трудного, дня. А ещё и потому, что не ощущал себя мастером, а его уже так величали. И кто величал? Тот, кто в своём деле действительно был мастер.
Видя перед собой человека с доброй душой, сохранившего до старости радость жизни, он припомнил свою выдумку про убийство печником «бабкиного внука» и ему стало стыдно. Противно было вспоминать.
Теперь он был убеждён, что мастер не способен на преступление.
«Гений и злодейство – две вещи несовместны», – повторил Фёдор, мысленно, золотые Пушкинские слова. – «Рождённые для созидания не способны на преднамеренное зло. Они являются опорой добра. Что им до бездельников, пусть даже сидящих у них на шее. У них своё призвание, своя работа. И, как верно подметил: мастер, мастера всегда поймёт. Сколько мудрости в этих словах. Скорее бы стать мастером».
– Ложись, отдохни, – сказал печник, возвращая Фёдора на землю. – Я-то спать не буду, не хочу. Посижу, покурю. А тебе надо. Ты с непривычки, должно быть, устал.
Фёдор разделся и лёг, думал, усталость возьмёт своё, но не взяла. Спал плохо, казалось, совсем глаз не сомкнул. Был поднят печником в четыре утра, когда только-только веки налились приятной тяжестью.
* * *
Медведица, у которой жила теперь Анна, была когда-то видной женщиной. В настоящий момент выглядела опустившейся. Не следила за собой и не собиралась этим заниматься.
Представилась вдовой полковника, трагически погибшего при выполнении боевого задания. Солгала. Была когда-то женой прапорщика. Он спился, был изгнан из армии и умер. Медведица, оставшись с двумя малолетними детьми, вернулась к матери, да так с тех пор у неё и жила. Сын, по словам Медведицы, работал геологом, искал где-то далеко полезные ископаемые, а дочь, с мужем и детьми, жила в соседнем подъезде, носила фамилию Глухарёва.
На кухне у Медведицы стояла самовольно установленная ванна, в доме ни у кого, кроме неё ванны не было, на плите самогонный аппарат, на полу и подоконнике десятка два пятилитровых банок с чайными грибами, штук сорок горшков со столетниками, которые ей всё несли и несли.
Она, как корова траву, постоянно поедала листья столетника и запивала их чайным грибом. При этом постоянно жаловалась на здоровье. И, тут же, забывая о жалобах, хохотала громовым хохотом с каким-нибудь очередным алкоголиком, притащившим ей горшок с алоэ и получившем взамен бутылочку.
Старухе, за которой Анне пришлось «ходить», было ровно сто лет. Она находилась в ясном уме, ходила без палочки, всё помнила, много из прожитого Анне рассказывала. Занимала большую комнату, в которой был отведён угол и для Анны.
В этой комнате было просторно, стояла искусственная ёлка, украшенная разноцветными стеклянными шарами, осыпанная блёстками и серебряным дождём. Как позже Анна узнала, Матрёна Васильевна родилась зимой, любила Новый год, Рождество и пять лет подряд никому не разрешала разряжать ёлку.
По той же причине, все окна в её комнате были залеплены бумажными снежинками, почерневшими от пыли и времени, наполовину отклеившимися и завернувшимися. На подоконнике стояло лимонное деревце с большими плодами. Один лимон так просто был жёлтым, но его не срывали, берегли из гордости. Чтобы с улицы все видели, какой вырос у Матрёны Васильевны заморский фрукт и завидовали. Кроме лимона на подоконнике стояли майонезные баночки с проросшим луком, пустившим длинные белые корни в жёлтую воду, а так же перец с красными перчиками в глиняном горшке.
Матрёне Васильевне Анна понравилась, и она ей открыла тайну. Поведала причину, из-за которой её младшая дочь нанимает сиделку.
– Она у меня последняя из шестнадцати. Все умерли. Считает меня колдуньей. Боится войти в комнату, а когда выхожу, прячется. Как увидит меня, сразу прячется.
Кроме приготовления пищи для Матрёны Васильевны и выслушивания её рассказов, у Анны не оказалось никаких дел, поэтому она взяла на себя и мойку полов во всей квартире, о которой не договаривались, и готовку пищи для всей семьи и прочие мелкие поручения.
Медведица жила тем, что гнала самогон на продажу, а так же успешно спекулировала государственной водкой, торгуя ей по ночам. У неё и научился этому нехитрому делу Мирон Христофорович, перенеся сей опыт в заводской гараж.
Про то же, что Матрёна Васильевна является колдуньей, рассказала Анне и сама Медведица, позвав её к себе. В её комнате, размерами вдвое меньше той, которую занимали они с Матрёной Васильевной, творилось что-то невероятное.
На подоконнике, в пустой бумажной коробке из-под сахара лежало несколько десятков обмылков, разных размеров, цветов и форм. Рядом с этой коробкой стояло бесчисленное количество пустых пузырьков, банок, перевёрнутых стаканов, бутылок. Лежали осколки от разбитых тарелок. На полу, в углу, громоздились мешки с луком, картошкой и сахарным песком. Весь пол, за исключением той площади, которую занимал шкаф, был заставлен вёдрами, чугунками, тазами и бесчисленным множеством гнутых, покорёженных со всех сторон, маленьких алюминиевых кастрюлек.
Не мудрено, что Анна сразу же, как только вошла, подняла голову и посмотрела на потолок, ожидая увидеть там огромные подтёки. Но потолок не протекал, и объяснить бесчисленное количество пустой посуды на полу могла только хозяйка комнаты, но она себя этим не утруждала.
На столе стояла плоская миска с сухими картофельными очистками, и лежали три проржавевшие тёрки. На полу, кроме мешков и кастрюлек, стояли два молочных бидона литров по двадцать пять и огромная, литров на триста, железная бочка. И бидоны, и бочка, до самых краёв были наполнены брагой.
Медведица, как только ввела Анну в комнату, как только закрыла за ней дверь, так сразу же и сообщила, что мать её ведьма и что она до смерти её боится. В доказательство своих слов она заявила, что и сама знает несколько заклинаний, но только не пользуется ими. Кроме того рассказала, что Матрёна Васильевна, когда они жили в деревне, настолько любила сырую кровь, что ходила по дворам, где резали овец или свиней и пила её там тёплую из своего стакана. Всего этого Анна не испугалась и ходила впоследствии за Матрёной Васильевной исправно. Перед тем как Анну отпустить, Медведица надела на глаза очки с треснутыми стёклами и, взяв в руки килограммовый пакет, прочитала по слогам то, что было на нём написано:
– Фрук-то-за. О! Можно из него самогон-то варить, или это химия такая, что поотравишь всех? – Спросила она Анну. – Не знаешь? Ну, иди, иди.
Те небольшие участки пола, которые были не заставлены металлической посудой, были усыпаны шелухой от семян подсолнечника. Медведица, разговаривая с Анной, грызла семечки, плевала на пол очистки и её учила тому же:
– Лузгай на пол, потом подметём.
Лузгать Анна не стала, а подмести подмела. Сделала это безотлагательно, сходив на кухню за совком и веником.
В первый же день Матрёна Васильевна рассказала Анне о том, что муж у Медведицы, напившись, утонул в луже.
– И не сильно был пьян, а упал и захлебнулся, – говорила старуха. – Истинно сказано, никто больше положенного не прожил, ни один ещё своей смерти не выкупил. Только бы умереть сразу, никого чтоб не мучить, а то я знаю, шесть лет одна пролежала. Тело в пролежнях, протушила, провоняла всю квартиру. Дочь так замуж и не вышла, всё за матерью ухаживала. Хорошо, племянник ей помогал, а так бы и не под силу. Племянник у неё дельный, он тоже судна из-под бабки выносил. А что, говорит, бабушка в детстве горшки мои выносила, – пришло время и мне ей послужить.
Матрёна Васильевна рассказала, как её сыновья и дочери, Медведицы тогда ещё на свете не было, отрекались от Бога.
– Это было не сразу после революции, а опосля. Пришёл проверяющий и стал опрашивать для бумаги, кто верит в Бога, а кто нет. Я сказала, чтобы всю семью верующими записал, и тут слышу, с печи, с полатей кричат мои детки: «НЕ! НЕверующие!». Я, как это услышала, так в слёзы. Шестнадцать человек родила, Медведица последняя. Кто умер, кого на войне убили, а одного, что перед Медведицей, я заспала. В тот день пошла в баню, вошла первая, смотрю – ходит по лавкам огромный кот, ходит и плещет лапой воду, балуется. Я испугалась, вышла. Дождалась, пока пришли другие женщины и вместе с ними вошла. Смотрю по всем углам – нет кота. И не поверишь, никогда так крепко не спала, как после той бани. Проснулась утром – он такой.
Матрёна Васильевна вытянула губы и повернула их в одну сторону, показывая, каким она увидела своего заспанного ребёнка в тот момент, когда проснулась. Анна не выдержала и заплакала.
– Ты, что это? Не плачь. По покойнику плакать нельзя, они этого не любят, – заговорила старуха, со знанием дела. – У меня был сынок, от водки умер. Я много плакала по нему. И вот, так же, сижу одна, плачу, как вдруг дверь со всего размаху хлопнула и его голос: «Мама!». Строго так сказал. Я с тех пор плакать не стала.
У Матрёны Васильевны на каждый чёх было заготовлено поздравление, стоило чему-нибудь случиться, сразу же принималась рассказывать подходящий пример.
На следующий день, как только смогла, Анна позвонила Фёдору и попросила Галину, поднявшую трубку, записать номер телефона той квартиры, в которой на данный момент она проживала.
Галя волновалась, даже по телефону было заметно, что мысли её далеко. Она неоднократно переспрашивала цифры и кто звонит. Наконец сообщила, что всё записала и обязательно передаст.
В общем и целом Анне у Медведицы нравилось, и она решила, что будет ухаживать за Матрёной Васильевной столько, сколько от неё потребуется. А, в понедельник непременно сходит к сестре, успокоит. Скажет, что всё хорошо. Чтобы Маргарита не волновалась.
* * *
Утром за Степаном на велосипеде заехал Илья. Как болельщику, выдал ему футболку с номером и «трафаретом», посадил на раму и повёз в лагерь.
Велосипед двигался настолько медленно, что быстрее было бы идти пешком, но Илья не позволил Степану спрыгнуть и, сопя, дыша в лицо перегаром, продолжал крутить педали.
На лагерном стадионе, тем временем, действительно присутствовал весь лагерь. Ради футбольной встречи отменили выход в лес и, рассадив отряды по скамейкам в качестве зрителей, ждали прибытия деревенской команды.
Баянист в микрофон, выведенный через усилитель, для веселья наигрывал вальс. Сборная лагеря бегала по полю, разминалась. Игроки с разных углов пробивали мячом по воротам, давая тем самым возможность вратарю разогреться перед предстоящим матчем.
На крайней трибуне сидели те самые мальчики, которые пытались погубить лягушку и та девочка, которая в обиду её не дала. Девочка нервничала, ей не сиделось на месте. Она встала и подошла к пионерской вожатой.
– Таня, зачем нас привели на футбол? – Спросила она. – Ты же знаешь, все в лес хотят.
– Я тебе не Таня, а Татьяна Вячеславовна, – строго начала вожатая.
Но, девочка не дала ей развить мысль и, перебивая, сказала:
– Мне сегодня надо быть в лесу. Если ты сейчас не отпустишь меня, то я пойду туда сама, без разрешения.
– Понимаешь, Солнышко, – упираясь руками в бока, отвечала вожатая. – Если бы я не знала, что ты чокнутая, то ты получила бы прямо здесь. А, так как я это знаю, то просто отправлю тебя к Александре Тихоновне. Пусть она с тобой разбирается. Чего смотришь? Иди. И только попробуй не передать, что я тебя наказываю.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































