Текст книги "Люблю"
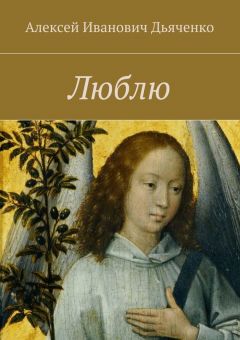
Автор книги: Алексей Дьяченко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 31 страниц)
Степан вспоминал потом, что ему как раз в этот момент стало плохо. Случилось ли это от слов проводницы, сказанных со злобой, или от духоты, царившей в тамбуре, или же явилось следствием нервного расстройства? Определённо на это ответить нельзя. Состояние его было таковым, что всё происходящее с ним виделось ему как бы через аквариум с водой или же как происходящее не с ним. Он помнил, как просил открыть дверь, как ворвавшийся в тамбур ветер ударил в лицо, как сойдя на качающуюся дорогу, он спустился под землю и там, под землёй, слушал очень отчётливо над ним звучавшие, человеческие голоса.
А случилось следующее.
Старичок, увидев приближающуюся станцию и крайнее нетерпение пассажира, действительно открыл ему вагонную дверь, специальным ключом. Степан на тихом ходу, бодро и беспрепятственно покинул вагон и, пройдясь по перрону, спустился с него по лестнице, где и упал, потеряв сознание. За те несколько секунд, которые провёл лёжа на траве, к нему успели подойти люди и обсудить его между собой.
– Нализался.
– Не похоже. Надо бы рот ему открыть, понюхать. Может сердце?
– Не похоже? Такой теперь и пьёт!
Заметив движения в теле, люди отбежали на безопасное расстояние и стали вести наблюдения оттуда.
Степан встал, осмотрелся, не спеша снял с себя приставшие травинки, поднялся на перрон и машинально сел в подошедшую электричку. Доехал в ней до станции Кусково, где захваченный волною отдыхающих, против воли, был исторгнут из чрева электропоезда и препровожден в сторону лесопарка.
Неожиданно пошёл дождь. Многие из шагающих рядом со Степаном, охая и причитая, раскрыли над собой зонты. Некоторые, примеру коих последовал и Степан, пошли ближе к деревьям в надежде укрыться от ненастья под кроною оных. По дорогам продолжали прохаживаться смельчаки, и немало их было, делая вид, что ничего не произошло. Находя в падающих на них каплях какое-то особенное удовольствие.
Дождь был сильным, но недолгим. Закончился сразу же после того, как Степан почувствовал, что промок до нитки. Выйдя из укрытия на дорожку, он продолжил прогулку. Мутные лужи, образовавшиеся после дождя, по цвету напоминали кофе, перемешанное с молоком, и странно – Степан стал различать в свежем воздухе характерный кофейный запах.
Навстречу ему шли такие же, как и он, до нитки промокшие, но почему-то весёлые и смеющиеся люди. Многие из них шли босиком, неся обувь в руках.
После долгой прогулки, решив, что у него нет другого выбора, как только вернуться домой, он спросил у пары влюблённых, встретившихся на пути, где находится станция. Молодые люди в сухой одежде, должно быть не попавшие под дождь, сказали, что он на правильном пути и если будет идти прямо, то как раз к железнодорожной станции и выйдет.
До нитки промокший Степан вышел на совершенно сухой перрон.
– Павлищево, – с удивлением прочитал он изменившееся название станции. – А Кусково? – Спросил Степан у стоявшей недалеко от него женщины, как бы стараясь объяснить ей, что совсем недавно эта станция называлась иначе.
– Кусково с Курского вокзала. Вы что-то путаете, – ответила женщина.
– А эта, с какого же? – Поинтересовался Степан, совершенно запутавшись.
– С Казанского, с какого, – ответила она, передразнив и закинув в рот тыквенную семечку, отошла от подозрительного человека в сторону.
– С Казанского, – повторил Степан вслух и, вспомнив что-то своё, крепко задумался.
Решившись на что-то, он перешёл на другую платформу с указателем «От Москвы» и занял очередь в кассу. Когда подошла его очередь, стоявший за ним мужчина с эмалированными вёдрами в руках, нетерпеливо спросил:
– Будете брать билет?
– Не на что, – наивно ответил ему Степан, ощупав мокрые карманы.
– Тогда отойдите, дайте другим взять. Электричка подходит! – Закричал на него мужчина.
– Пожалуйста, – смущённым шёпотом ответил Степан, продолжая щупать карманы.
К перрону, действительно, подходила электричка. Не задумываясь о штрафных санкциях, пропустив всех желающих в ней уехать, Степан вошёл последним. Он не стал проходить в вагон, решил ехать в тамбуре, не столько из страха перед возможным контролем, сколько из-за своего неприглядного вида. Но скоро выяснилось, что и тут ему не место. В тамбуре он был не один. На полу, в углу, со стороны не открывающихся дверей, сидел парнишка лет четырнадцати, который мусолил беломорину и в голос о чём-то плакал.
Перейдя через узкую тёмную площадку в тамбур другого вагона, Степан и там оказался лишним. Двое подвыпивших друзей сомнительного вида, занятые разбором спорного дела, при виде постороннего человека, на мгновение смолкли и с нетерпением косились на него, дожидаясь того, что он пройдёт в вагон и оставит их наедине. Приходилось входить в вагон.
В вагоне стоял гул, в котором можно было различить и взрослый смех, и детский плач и обрывки брошенных на ветер фраз. Четверо мужчин, слева от Степана, положив «дипломат» на колени, играли в карты, двое сидевших с ними рядом, с интересом следили за игрой и дожидались своей очереди. Сидевшие по другую сторону спорили.
Сухощавый мужичок с бурым лицом, размахивая руками, убеждал:
– А я говорю, что ни один бюрократ рабочим не был. Прихожу к нему, говорю – дайте справку, что я у вас живу! А, он мне: «вы сначала принесите справку, что действительно у нас живёте».
– Да, я знаю, – вторила ему женщина с дыней в руках. – Они пригреваются, где получше.
Степан хотел пройти через вагон в другой тамбур, но только сделал несколько шагов в том направлении, дверь, к которой он направлялся, открылась, и из неё вышел ему навстречу просящий милостыню. Неожиданно дерзко войдя в вагон, этот просящий стал пересчитывать выручку, полученную в предыдущем вагоне и одновременно с этим, дурным, наглым, гортанным голосом, рассказывал свою легенду:
– Дорогие маменьки и папеньки, – начал сорокапятилетний дядька явно не для него сочинённую сказку. – Год назад, когда я и моя сестра спали в собственном доме, случилось короткое замыкание, и возник пожар. Я получил тяжёлые ожоги и успел выскочить из дома, а родная моя сестра не успела выскочить из дома и, получив тяжёлые, ожоги сгорела. Подайте, кто сколько может на дорогу и лечение.
С этими словами он пересчитанные деньги сунул в карман и двинулся вперёд. Не дойдя трёх шагов до Степана, дядька остановился и стал осматривать его с ног до головы колючим взглядом. Осмотр закончился пристальным всматриванием в глаза. Степан также с интересом осмотрев наряд «нищего», остановил свой взор на хитрых глазах проходимца. На протяжении нескольких секунд оба смотрели друг другу в глаза, словно соперничая, и вдруг в глазах говорившего «папеньки и маменьки» что-то дрогнуло. Вопреки правилам, «сын вагона» смутился, повернулся кругом и выбежал в ту же дверь, в какую вошёл. Что так смутило человека просящего на лечение, никто и не понял. Не понял и Степан, так и оставшийся стоять среди вагона.
Степан ехал на малую родину.
Ему вспомнился деревенский дом, в котором он родился и провёл раннее детство, синенькие, резные наличники, забор заросший вьюном, вековые ивы в три обхвата, древние, как мир, но продолжавшие жить и зеленеть, лес, к которому стоило только подойти, как он начинал шелестеть листьями, словно приветствуя.
Пять лет прошло с тех пор, как он в последний раз приезжал к матери.
Выходя из электрички какие-то добродушные люди дали ему пакет с ванильной пастилой, при этом сказав зачем-то, что заяц по-казахски «коян». С этим пакетом Степан в деревню и пришёл.
Не узнал деревни.
Там, где предполагал увидеть заросли черёмухи, были только пеньки. Вековые ивы рассохлись и развалились. Всё казалось чужим, непривычным. Дорога, проходящая через деревню, была разбита, появились лужи, которые не просыхали, грозя со временем превратиться в маленькие, тухлые, болотца. Всё это подействовало на Степана удручающе.
У дома лаем встретила незнакомая белая собачонка. Правда, когда он высыпал ей пастилу из пакета, и та съела её, то сразу же лаять перестала, а стала вилять хвостом и отзываться на кличку «Коян», которую тут же ей Степан и подарил. Под далеко не синенькими, облупившимися наличниками не было цветов, как прежде, а рос бурьян, крапива с лебедой. Вьюна на заборе тоже не было, была навешана всякая дрянь: стеклянные банки, ржавые обручи, проволока. Только в доме всё осталось таким, каким помнилось Степану с детства. Блестящая никелем железная его кровать, белые подушки, белоснежные подзоры, и русская печь, тоже белая. Дом внутри был не крашен, бумагой не обклеен, были обычные брёвна, с торчавшей между ними паклей. На окнах были длинные, голубые занавески, длинными делались из расчёта, что сядут, но они не сели, так и остались длинными. Как много всё это ему говорило и как взволновало в первый момент, но приятные волнения долгими не были, снова посетила грусть. Мать совсем превратилась в старуху, и хотя лицо её всё ещё оставалось чистым и красивым, было заметно, что уже вошла она в ту пору жизни, название которой – старость. Не ожидая увидеть, и не желая видеть её такой, Степан опять впал в тоску и уныние.
Через полчаса, после того, как перешагнул порог, он уже сидел за накрытым столом, будучи переодетым в свитер и чёрные брюки. В углу, перед иконою, горела лампадка. В том же углу, на полу, стояла заряженная мышеловка с приманкой, кусочком сала, а точнее, с корочкой, шкуркой от сала. Висевшие на стене ходики громко тикали. Рядом с ходиками, в раме под стеклом, помещалась большая семейная фотография, на которой была мама, отец и Степан в возрасте одного года, уверенно сидевший на сильных, отцовских руках. В этой же раме, под стеклом, в нижнем левом углу, была фотография смеющегося отца, стоящего на Красной площади, на фоне собора Василия Блаженного.
На столе, за которым сидел Степан, стояли тарелки с солёными огурцами, квашеной капустой и калиной-ягодой, сделанной без сахара в собственном соку. Лежали хлеб и зелень, только что принесённая с огорода. В комнату вошла мать в повязанном на голове платке, поставила на стол бутылку водки и пустой стакан.
– Ой, мам, не надо, – отодвигая рукой бутылку, сказал Степан.
– Что, не такая? – Испугалась родительница, взяла бутылку в руки, осмотрела её со всех сторон и сказала. – Какая уж есть.
– Да, такая. Такая, – успокоил её он. – Просто не хочу. А откуда она у тебя? – Поинтересовался Степан, между прочим.
– У меня нет, она в магазине. В Москву за ней ездила. Да, пока купила, в очереди с милиционером отстояла четыре часа.
Пожаловавшись, матушка подошла к печи и, долив молоко в чугунок с картошкой, стала разминать её большой, удобной толкушкой.
– Всё теперь только за водку делается. – Говорила она. – Деньги никому не нужны. Не берут. А сделать чего, всё пол-литра давай. Да, пол-литрой одной не упоишь. Вон, Илюха Игнатьев, дрова пилил, три бутылки выпил. Десять минут поработает и бежит, кричит – водку неси. Кулаком по столу бьёт. А, пила сломалась, так и не допилил, хоть и обещал.
– В Москву приезжала? Чего же не зашла? – Спросил Степан, перебивая, желая перевести разговор на другую тему.
– Да, как к тебе зайдёшь? Ты на мать ругаешься, занят всё. – Разгорячаясь, ответила матушка, вынимая из чугунка толкушку.
– Ну, вспомнила, – виновато опустив голову, произнёс сын, припомнив эпизод из своей жизни, когда, стесняясь матушкиных наставлений, её грубо осадил при Марине. – Будешь теперь всю жизнь вспоминать.
– Да, будешь вспоминать. Старой стала, всю жизнь одна прожила. Одно слово, что сын есть. Думаешь легко жить одной, без помощи? Деньги пришлёшь и ладно. А приедешь раз в десять лет, сядешь как гость, всё тебе неси да поставь.
– Ну, что ты, мам, завелась, – еле слышно произнёс Степан, моля о пощаде.
– Заведёшься, – не слушая мольбы, продолжала матушка. – Приехал, не спросил: мам, может, что помочь, где? Что где сделать? Нет. Сразу за стол сел, что Илюшка Игнатьев. Да, тот хоть бензопилу принесёт да дрова попилит, воду носит, а ты… Даже не поинтересуешься.
– А, откуда мне знать? Говори, что нужно, я сделаю.
– Сделаешь, – продолжала матушка своё. – Языком сделаешь. Сам сегодня же соберёшься и назад мотнёшь.
Степан молча встал из-за стола и тихо вышел. Через минуту вернулся, держа в руках ружьё.
– Отцовское, – сказала Ирина Кондратьевна, предвидя вопросы. – Лет двадцать уже лежит, заржавело, небось.
– Пойду-ка я в лес, поохочусь, – сказал Степан, хмуря брови.
– Какая охота? Ты, что? Лес вырубили давно, одни просеки вокруг. Там не то, что зверя, птиц не осталось. – Испуганно заговорила Ирина Кондратьевна, чувствуя сердцем, что-то недоброе.
– Сядь, поешь. Я сейчас тебе колбаски нарежу, хорошей, московской. Какая охота?
– Что-то тянет в лес. Похожу, погуляю, – упрямо заявил Степан и, надев сапоги, ушёл.
– Я ему картошку намяла, всё с пылу, с жару. Ну, смотри, смотри, теперь вырос, сам себе на уме, не слушаешься, – говорила Ирина Кондратьевна, оставшись одна.
Одетый в свитер, брюки и сапоги, с ружьём за плечом, Степан шёл по лесу быстрыми шагами. Наступив на гриб, остановился. Не нагибаясь, думая о своём, ковырнул его мыском сапога.
Оглядевшись, прислушался, скинул с плеча ружьё и зарядил его патроном с пулей. Тут же, как по команде, совсем близко послышался треск сучьев и шорох раздвигающихся еловых ветвей. Кто-то шёл прямо на него. Проведя несколько мгновений в напряжённом раздумье, Степан всё-таки решился и, перевернув ружьё дулом к голове, потянулся к спусковому крючку. Шорох прекратился. Мысль о том, что кто-то смотрит на него со стороны, не позволила нажать на курок. Он даже, как ему показалось, разглядел среди ветвей, стоящего за ёлкой и ехидно улыбающегося мужика.
Закинув ружьё на плечо, Степан пошёл прочь от того места.
На лужайке, два распетушившихся мальчугана лет восьми, махая кулачками в воздухе, атаковали девочку тех же лет, отобравшую у них лягушку и не желавшую её возвращать.
Маленькая беловолосая девочка, одетая в короткое розовое платьице, безуспешно закрываясь одной рукой, то и дело получая удары в грудь и плечи, мужественно держала другую руку, с находящейся в ней лягушкой, в стороне от нападающих. Разделившись и обойдя неприступную крепость с двух сторон, будущие атаманы кинулись было на свою жертву, как вдруг увидели вышедшего из леса и идущего прямо на них незнакомого дядьку с ружьём.
Не сговариваясь, позабыв в один миг и о лягушке и о девочке, они кинулись наутёк. Девочка, обернувшись и увидев незнакомого дядю, в первое мгновение тоже испугалась, и даже от растерянности и страха прижала ручки к груди, но, всмотревшись пристальнее в приближающегося, испуг у неё исчез и она улыбнулась.
Улыбнулась так, как улыбаются дети при виде им близкого и дорогого человека. Степан, увидев эту улыбку и бездонные детские глаза, совершенно обессилел и, встав на колени, а затем, упав навзничь, лицом в траву, громко заплакал.
Плач его сопровождался гортанными криками и стенаниями. Девочка, подойдя к нему и сев на корточки рядом, стала гладить его по голове и говорить при этом наивные, чисто детские утешения. И потихоньку к дрожавшему от рыданий Степану стало приходить успокоение.
Дело в том, что Степан никогда не плакал. Даже в детстве. Он считал себя сильным и в этом видел главное своё достоинство. Даже тогда, когда схватился за верёвку над головой, он об этом не забывал.
«Я сам. Я смогу», – говорил он себе.
Теперь же, валяясь в траве у ног маленькой девочки, он плакал и сильным себя не чувствовал, ощущал слабым. И именно от слабости испытывал неизъяснимое блаженство.
А, главное, – не было стыдно. Было легко и хорошо. Степан всегда пытался доказывать окружающим, а прежде всего себе самому, что он самый сильный. А, теперь был слаб, не стеснялся слёз, и как камень упал с души.
«Как же оказывается, приятно, – думал он, – почувствовать себя слабым, маленьким, беззащитным на этой земле».
Он понял, отплакав, простую истину, что его слабого, не в силах никто обидеть, его маленького, беспомощного, беззащитного – всё бережёт, всё вокруг охраняет. Этот лес, с берёзами, липами и елями, всякая травинка, былинка, каждое облачко на небе и уж конечно эта светловолосая, маленькая девочка. Нет, теперь его никто не обидит.
По лесной тропе, мимо лип, тополей и елей, шли рядом девочка и Степан. Продолжая держать в своих тоненьких руках лягушку, из-за которой столько претерпела, девочка рассказывала своему спутнику о том, как мальчишки хотели «пучеглазую квакушу» привязать за лапы к берёзам и разорвать пополам.
– А вот и волшебное озеро, – восторженно крикнула она, подходя к мосткам, ведущим на воду.
Пройдя следом за ней на мостки, Степан увидел перед собой обыкновенное, заросшее ряской озерцо. Встав коленями на гладкие досочки, девочка выпустила лягушку в воду. Квакуша энергично заработала задними лапами и исчезла в глубине. Наблюдая за тем, как беспокойно лягушка прячется, девочка улыбнулась и, посмотрев на стоящего за спиной Степана, спросила:
– Правда, красиво тут?
Степан улыбнулся и молча кивнул головой.
– Мне пора. Я побегу, – сказала девочка, поднимаясь с мостков.
– Как? А, как же я? – Опомнился Степан, находящийся в блаженном состоянии души. – А, завтра придёшь?
– Приду. Я буду здесь, на волшебном озере, – твёрдо пообещала девочка и побежала по тропинке туда, откуда они пришли.
После рыданий Степан словно заново родился. Ему приятно было идти по земле, от самой ходьбы получал удовольствие. Почувствовал аромат леса, запах хвои, листьев, цветов, грибов и ягод. Увидел красоту, прелесть леса, которая прежде была для него незаметна. Жизнь опять стала радостью.
Степан смеялся, глядя на солнце и пробовал петь. Чудесно блестела вода в «волшебном озере», в низкой траве, занятые своими тайными промыслами, копошились насекомые. Рыжий муравей, бежавший своей дорогой, забрался к нему на подставленный палец и тут же забегал, заволновался, сообразив, что попал куда-то не туда. Степан улыбнулся и, положив руку на землю, дал возможность муравью сбежать.
«Как много жизни кругом! А, сколько радости и красоты в самой жизни», – думал он и от этой мысли получал наслаждение.
В деревню Степан возвращался по пыльной неровной дороге. Перепрыгивал через ямы, переходил с одной её стороны на другую.
– Салют охотникам! – Услышал он за спиной сиплый мужской голос, и, обернувшись, тотчас узнал в догонявшем его на велосипеде человеке соседа, друга детства, Илью Игнатьева.
– Здорово! Как жись? – Кричал Илья, с той силой, с какой позволяла ему это делать его дыхалка.
Подъехав к остановившемуся Степану, он спешился и после формальных расспросов о делах, о здоровье, стал рассказывать о том, что в этом году просто беда, кроты заели. У всех перерыли огороды. Подробно расписал то, как ходил за бутылки ставил капканы на кротов, а затем, как носил шкурки попавшихся в капканы, сдавать и получал наличными.
Поведал о том, что недалеко от деревни продали поле под дачные участки, где всегда он пасётся. Кому выроет что, кому что зароет. Со смехом рассказал о том, что на дачах и мужики и бабы, все, как дети малые, ходят в коротких штанишках.
– В шортах, – сказал Степан.
– Во-во, в чёртах. И сами, как черти, грязные, – засмеялся Илья. – Мыться им негде, к нам на пруд ходят. Придут, по сторонам оглядываются, чтоб значит, никто не видел, и раздеваются догола, голенькими остаются.
Местные в пруду не купались. В пруд в своё время спустили нечистоты с коровника, отравили всю рыбу. Он сказал, что знает место, где дачники моются и пригласил Степана на просмотр:
«Особенно хорошо, когда ты её в одежде видел, знаешь, а тут она безо всего».
Игнатьев называл дачников москвичами, ругал их, совершенно забыв о том, что Степан тоже из Москвы.
– Сейчас жить можно, – говорил Илья. – Возьмёшь тракторишко с кузовком и на ферму. С отстойника накидаешь в прицеп навозу и на дачи. Вот тебе и бутылка, а то и две. Сейчас не жись, а мальё. Можно каждый день пить водку и есть жареное мясо.
Увидев сына, идущего рядом с соседом и о чём-то с ним мирно беседующего, стоявшая у калитки Ирина Кондратьевна пошла к нему навстречу и, не дойдя до него, расплакалась.
– Ну, как же, Илюша! – Обратилась она к Игнатьеву, ставшему её утешать. – Ты бы видел, каким он приехал: весь мокрый, страшный, чужой. Лица на нём не было. Взял ружьё и ушёл, а я-то, дура старая, отпустила. А сама сижу, жду, места себе не нахожу. Не знаю, что и подумать. Ну, разве так можно? – Добавила она, обращаясь к сыну.
– Ну, вы тоже, извиняюсь, тётя Рин, как скажете… – засипел Илья с деланной нежностью в голосе. – Не стреляться же взял он ружьё, в самом деле.
– Ой, всё равно страшно, – ответила Ирина Кондратьевна и, взглянув на сына, снова расплакалась.
– Ладно, разбирайтесь тут сами, – нетерпеливо сказал Илья, обращаясь к Степану. – А, как стемнеет, приходи к ферме.
Спотыкаясь, волоча рядом с собой велосипед, Игнатьев пошёл к дому. Шёл он, опустив голову и чуть было не налетел на ребёнка, бежавшего с хворостиной в руках за двумя серыми овечками. Ребёнок был годков четырёх, он сам и погонял и побаивался овец, которые и без его команд с успехом пришли бы домой. Всё это забавно выглядело.
Увидев кормильца, Коян завилял хвостом и стал приветливо заглядывать ему в лицо.
Погладив собаку, Степан вошёл в дом и, зачерпнув кружкой воду из ведра, стоящего на скамейке в сенцах, не глядя, стал пить.
Не находя других причин, чтобы выбранить сына за принесённое волнение, Ирина Кондратьевна уцепилась за воду.
– Ты, когда черпаешь, всегда смотри воду, – сказала она. – А, то проглотишь головастика, будешь мучиться потом всю жизнь. Я девчонкой была – сама видела. Соседка моя, Катерина, проглотила. Года два потом, как погода к дождю – так она там у неё квакала.
– В животе? – Засмеялся Степан.
– В животе, – серьёзно подтвердила мать, обрадованная тем, что сын развеселился.
– Быть такого не может.
– Вот тебе и не может. Говорю, что сама видела. Уж не на операцию ли в город возили, потому что Катерина высохла вся. Говорили, что лягушка от жажды печёнку и сердце у неё сосала.
Вспомнив о ребёнке с овцами, Степан спросил у матери:
– Тут, смотрю, у вас овец держат. А шерсть они не продают?
– Продают. Только дорого просят.
Мать назвала смехотворно низкую цену, Степан улыбнулся.
– А зачем тебе шерсть? – Поинтересовалась Ирина Кондратьевна.
– Носки шерстяные хочу. Помнишь, в детстве у меня были. Колючие, но тёплые.
– Если будешь носить, я свяжу. Это не долго, – успокоила сына мать. – А с Игнатьевым не ходи, туда, куда он тебя звал. Ты, знаешь, чего он удумал? Пришёл ко мне соседский мальчик. Смотрю, держит руку в кармане. Спрашиваю: Ваня, что у тебя там? Отвечает: маленькие зайчики. Дядя Илья дал, дома пустить велел. Сказал: принесёшь, и пустишь в погреб и будет много зайчиков. Достаёт, показывает, а в руке прижатые, красненькие, голенькие мыши. Где вы их взяли, спрашиваю. Говорит, на поле в копнах. Пришёл ко мне после этого Илья, я ему выговорила, а он смеётся, говорит: пусть у тёти Маруси зайчики будут. Ну, что ты на это скажешь?
Степан ничего не сказал. Вечером, только стемнело, к Степану пришёл Илья. Он протянул для рукопожатия руку, но тут же отдёрнул её. Коян, усмотрев в этом движении угрозу для кормильца, кинулся на Игнатьева и неистово залаял.
– Смотри, ты… Давно ли хозяина обрёл, а туда же. Ты чем его кормишь, что так защищает?
– Фу, Коян! Перестань! – Сказал Степан, и собака тут же осеклась, умолкла. Отойдя в сторону, нашла щепку, легла и, поудобней устроившись, стала грызть её с таким наслаждением, словно грызла мозговую, сахарную косточку. При этом безучастно поглядывала, то на Степана, то на Илью.
– Я за тобой, – сказал Игнатьев. – Там костёр развели, пойдём. Посмотришь на наше веселье, а заодно и прогуляешься перед сном.
Степан не желавший прогуливаться, попробовал отговориться.
– Не пойду.
– Почему?
– Боюсь.
– Чего? – Тревожно спросил Илья.
– Боюсь, по зубам дадут.
– Кто? Что, ты! Брось! Сами всем по зубам дадим. Пойдём, не бойся.
Делать было нечего, желая поговорить, Илья отговорок не понимал. Однако, выйдя на улицу, разговора между друзьями детства так и не получилось.
– Ты в колхозе? – Спросил Степан.
– Не-а, – ответил Илья. – Сам по себе. В прошлом году курей-бройлеров держал. Не птицы, а драконы. Они у меня в огороде пожрали всё, что только росло и шевелилось. Ты себе брюхо распори, ляжь полежать, за пятнадцать минут ничего не будет. Всё растащат. Я их долго терпел. Ну, а уж когда до картошки добрались, стали из земли выкапывать и жрать, я их всех под нож пустил. Ну, и куры были! По пять, по шесть кило, да жир один.
– А, разве так можно – в колхозе не состоять? За тунеядство под суд, в лагеря не боишься? Придут, скажут: собирайся, пойдём.
– Скажут, пойду. Всё лучше, чем дурачком жить. А у тебя там как, в городе?
– В городе у меня плохо. Живу дурачком.
– Так ты из-за этого в лесу стреляться мостился?
– А, это ты, значит, за ёлкой стоял, улыбался?
– За ёлкой стоял я, а кто улыбался, не знаю.
На этом разговор и закончился. Они молча подошли к костру, разведённому у фермы.
В шагах пяти от костра, на двух брёвнах, положенных углом, сидели молодые девчата и парни. Были включены сразу три магнитофона, с разной, громко звучащей музыкой. Пятеро парней, стоя звездой вокруг костра, толкали по очереди одного, которому всякий раз после толчка приходилось перепрыгивать костёр, чему, похоже, он и сам был рад.
Всякий раз, прыгая через костёр, толкаемый кричал:
– Я Иисус Христос, Сын Божий! Сгораю за людей!
– Чего это он кричит? На костре же Джордано Бруно сожгли, – сказал Степан шёпотом. Игнатьев понял его слова как упрёк и стал оправдываться.
– Да, это так, шелупонь, салаги. Не обращай внимания, не обижайся. Магазин грабанули, догуливают. Им уже и на хвост сели, со дня на день должны повязать. Ты постой тут, осмотрись, я сейчас.
Илья побежал к сидящим у костра. Поговорил с одним, с другим, у третьего взял две бутылки. Возвращаясь к Степану, по дороге поймал за грудки того, что прыгал да кричал и что-то сурово ему втолковал.
Подойдя к другу детства, Илья спросил:
– Ну что, не приглядел себе никакую? – И, протягивая Степану коньяк, и вино под названием «Алазанская долина», пояснил. – Сухим будешь запивать.
Степан взял бутылки, выпил из горлышка коньяку и запил его сухим. За ним следом приложился к спиртному и Игнатьев. Как только выпитое вино улеглось и позволило Игнатьеву говорить, он опять принялся за сватовство.
– Хочешь, познакомлю. Есть девчонки хорошие.
– Устал, пойду спать, – сказал Степан тоном, не терпящим возражений.
– Хорошо, высыпайся, – согласился Илья. – А, завтра я за тобой заеду, будешь нашим болельщиком. С пионерлагерем в футбол играем. Я маечки специальные для такого случая сделал. Фирменные. Сами красные на спине жёлтой нитрой номер, а спереди трафаретка: «Лимония – страна чудес». Как?
– Здорово. Только я не смогу. У меня завтра встреча в лесу.
– Лба с двустволкой? – Усмехнулся Илья. – Успеешь. После игры время будет.
– Да, нет. Мне нужно из лагеря кое с кем…
– Так на футболе и встретишься. Завтра весь лагерь на стадионе будет.
– Ну, тогда договорились, – сказал Степан и, пожав Илье руку, пошёл в темноту, и сразу же, споткнувшись, чуть не упал.
– Левее. Левее бери, ты прямо в колею полез, – закричал Илья.
От костра, оставшегося за спиной, доносились крики:
– Я Джордано Бруно! Я сгораю за людей!
* * *
В пятницу, на следующий день после разговора с Карлом, Галина, в тайне от него, посетила квартиру, в которой тот жил. Долго говорила с соседями и услышала о нём только хорошее.
В её жизни наступила пора, когда она особенно нуждалась в поддержке и опоре, в светлом примере. Говоря Степану о том, что неравнодушна к новому соседу, она и представить не могла, насколько близка была к истине. По-настоящему же поняла это только теперь, когда их продолжительная беседа и лестные отзывы бывших соседей Карла слились в одну неразрывную цепь.
Глядя на него, сидящего в креслах, она спрашивала себя, что так притягивает к нему? Жалость? Нет. Жалости он совсем не вызывал, так как ни жалким, ни несчастным не был. И слова-то говорил самые простые, обыкновенные, но ей они почему-то казались значительными. Самыми важными из всего того, что когда-либо слышала.
«Он интересен, жизнелюбив, свободен. А за тем, как рисует или вырезает, – думала она, – можно наблюдать часами».
За один день, за пятницу, он из буковой ножки сломанного табурета, при помощи перочинного ножа, по памяти, вырезал её бюстик.
С ним было хорошо, тепло, уютно. Хотелось сидеть рядом и никуда не уходить.
Отправив братьев в деревню и оставшись одна, Галина принялась хозяйничать и наготовила Карлу с дюжину разных блюд. Карл, говоривший, что есть не любит, что сухари с чаем для него лакомство, не сопротивляясь, ел всё подряд и только похваливал.
Эта суббота стала в жизни Галины самым настоящим праздником.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































