Текст книги "Люблю"
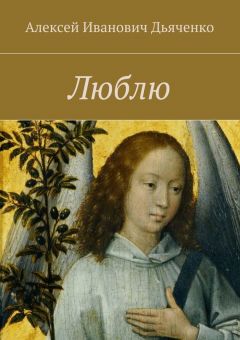
Автор книги: Алексей Дьяченко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 31 страниц)
Часть десятая
Пятница. Двадцать шестое июня
Утром Степан и Фёдор отправились к Черногузу, так и не дозвонившись до него, не договорившись предварительно. Шли той же знакомой дорогой, через чужую калитку и чужой сад. Подходя к дому Корнея Кондратьевича, Фёдор подставил ладонь и поймал пёрышко, летевшее с неба. Он приметил его заблаговременно, поймал, а затем, разжав пальцы и сказав «лети», сбросил с ладони.
Степан стоял рядом и спокойно наблюдал за другом. Они находились на свободной площадке за домом, усыпанной гравием, и ожидали появления Богдана. Но Богдан не вышел, и, совместив ожидание Богдана с перьевыми манипуляциями, какое-то время, для приличия выждав, друзья вошли в дом. Все двери были нараспашку, и изо всех щелей несло керосином.
– Тараканов, что ли, морит? – Сказал Степан, поднимаясь по лестнице.
Ни Богдана, ни Марко по пути следования не встретили. Корнея Кондратьевича нашли на третьем этаже в кабинете. Он был сильно потрёпан и казался растерянным. Выглядел скверно. Глаза бегали, губы дрожали, был небрит, в одежде наблюдался полнейший беспорядок.
Весь пол в кабинете был завален перьями, он подбирал их горстями, подбрасывал, и с каким-то особенным сладострастием в голосе, сам себе говорил: «Какая красота».
– А-а, хлопцы! – Радостно закричал он, заметив племянника с другом. – Возьмите, спробуйте сами! – Обратился он к ним.
Корней Кондратьевич подбросил очередную порцию, умилился тому, как перья летают, и, повернувшись к Степану и Фёдору, потребовал поддержки:
– Красиво? Скажите… А, вот и Амельян!
В кабинет вошёл Емельян, был он в белой, широкой, рубашке с красными райскими птицами на груди.
– Истинный Бог, Корней Кондратьич, это последняя, – сказал он, показывая маленькую, шёлковую подушечку. – Больше нет.
– Кромсай! Кромсай, не разговаривай! Не люблю болтунов. Слишком много, Амельян, болтаешь. Ах, я же позабыл совсем. Вам же гроши нужны? Вы же за деньгами? Сейчас, сейчас, – засуетился Черногуз, высыпая ворох перьев из подушечки на пол, себе под ноги, вместо того, что бы подбросить его в воздух. – Сейчас, сейчас, – повторил он, стряхивая с рук прилипшие перья.
– Нет, – как-то вдруг, неожиданно для себя самого, сказал Фёдор. – Я как раз пришёл поблагодарить Вас и сказать, что деньги не нужны.
– Да? Хорошо, – произнёс Черногуз, наклонив голову в сторону и, обращаясь к Емельяну, тихо шепнул. – Видишь. Есть всё-таки на земле люди, которым деньги не нужны. А мы с тобой ради них жизнь прожили.
– Не знаю я таких людей, чтобы деньги не были нужны, – проворчал Емельян и, видимо по заранее оговорённому плану, зашёл в ту комнату, где стоял рояль, взял там два тяжёлых чемодана и, ни слова никому не говоря, пошёл на выход.
– Видите, какой у нас беспорядок? – Сказал Корней Кондратьевич, разводя руками. – Извините, переезжаем. Так что, сейчас, принять не смогу.
– Мы тогда, наверное, пойдём? – Обратился Фёдор одновременно и к Черногузу, и к Степану.
– Идите, – с готовностью отозвался Черногуз. – Вдовиченка на два слова оставьте, – попросил он вдогонку.
– Подожди на улице, я скоро, – сказал Степан Фёдору, возвращаясь в кабинет.
Оставшись с племянником наедине, Черногуз достал носовой платок, высморкался, пристально посмотрел Степану в глаза, после чего, взяв его за руку, повёл через комнату с роялем в свою спальню.
Проходя через комнату с роялем, Степан эту комнату не узнал, так всё было побито и поломано, что казалось, сил человеческих не хватит, чтобы содеять подобное. Рояль, на котором он играл, был превращён в груду щепок и проволоки. Зеркала, лакированные табуреты, столики – всё было обращено в пыль. Сами стены и те многократно были истыканы и пробиты. Зрелище было ужасное. Единственно, что находясь в этой комнате, имело нетронутый вид, были взявшиеся неведомо откуда, три железные канистры, коричневый кожаный чемодан и кайло, коим, видимо, и был учинён весь этот разгром.
В спальне, куда Степана привёл Черногуз, кровати не было, и вообще ничего не было, кроме двух человеческих тел, лежащих на полу, накрытых простынями. Подойдя к одному из тел, Черногуз стянул простынь и Степан увидел мёртвую Жанну с четырьмя пулевыми ранениями, с запёкшейся кровью и с чуть заметной ссадиной на лбу. Не говоря ни слова, не спрашивая разрешения, Степан кинулся к другому телу и, только убедившись, что под простынёй не Максим, а Марсель, позволил себе спокойно отдаться рвотным позывам. Его тотчас стошнило.
Марсель был мёртв и так же, как у Жанны, имел следы от четырёх огневых ран в области живота.
– Я Константину всегда говорил, что он подлец, – вдруг неожиданно высоким слогом и высоким голосом, заговорил Черногуз. – А, тебя, Степан, я всегда ценил и считал первым из всех. Хотя, положа руку на сердце, надо сознаться, что ты хуже худшего, а Константин против тебя чистое золото. Скверно было, что он бабник, и что она к нему бегала. Путалась она с ним. Бодя видел, что даже по городу обнявшись, гуляли. Ну, что ж, пущай всегда будут вместе.
Больше Черногуз ничего сказать не смог, на него напал внезапный чих. Он стал чихать и, не говоря более ни слова, жестом показав, что надо уходить, пошёл прочь из спальни. Степан последовал за ним и, пройдя комнату, лежащую в руинах, догнал дядю в кабинете.
Дядя уже не чихал и не подбрасывал, как прежде, перья в воздух, стоял лицом к окну и расчёсывал свой «ёжик» редким гребнем.
Заметив Степана, он кинул гребень на стол, подошёл к нему и, касаясь рукой плеча, заговорил:
– Ты был совсем маленьким, не помнишь. Я приезжал к Филиппу, к сестре Ирине. Ты сидел на крыльце и играл с муравьём. Я сказал – дай поглажу. Брехал. Задавить хотел. А ты не дал, и говоришь: нельзя, он маленький. Муравей в трещину спрятался, а ты мне шепчешь: домой пошёл, детям кашу варить.
Корней Кондратьевич с тоской в глазах посмотрел на молчавшего Степана и вдруг, сказал:
– Кот сбежал. Плохая примета. А у меня ведь тоже был сын. Не знал об этом? Знай. Баба мне родила. У неё своих трое было, так она, дура, ещё рожать вздумала. Сам я у неё роды принимал. Сын мой в рубашке был, весь в плёнке родился. Счастливый, значит. Я его, как он был, в ватное одеяло закутал, снёс в сад и там под яблоней зарыл. Своими руками, своими руками…
– Там в спальне… Их… Это ты? – Еле слышно спросил Степан, чувствуя, как по позвоночнику побежала холодная струйка пота.
– Бодя, – передразнивая его, отвечая таким же шёпотом, сказал Черногуз и, сходив в проходную комнату, вынес оттуда коричневый кожаный чемодан.
– Всё, что мог, для тебя я сделал. Что обещал, выполнил, – говорил Корней Кондратьевич, будто отчитываясь. – Прощай, не помни зла. На, возьми и иди, – он пододвинул к племяннику чемодан. – Тут и тебе, и твоему лейбшему корешу.
Степана долго уговаривать не пришлось. Не прощаясь, стараясь не глядеть в сторону дяди, он взял чемодан и не пошёл, а побежал прочь из этого дома. Только выскочив на улицу, он ощутил в полной мере тяжесть своей ноши. Когда нёсся по лестницам, чемодан казался невесомым.
Фёдор, выйдя от Черногуза, провёл в одиночестве минут двадцать. Начиная беспокоиться, он собрался было снова зайти узнать, что за причина задержки, как вдруг навстречу выбежал Степан.
Степан бежал с большим, тяжёлым чемоданом. Пробежал мимо него и только сделав ещё шагов пять-шесть, остановился.
– Это нам, на двоих, – пояснил он, когда Фёдор подошёл. – Давай посмотрим, что там и сразу же пойдём. Ты только помни, что нам скорее отсюда надо уходить.
Степан присел на корточки, положил чемодан на бок и открыл крышку. В чемодане поверх всего лежала бархатная, малиновая скатерть с бахромой по краям. Откинув её наполовину и увидев золото в слитках (слитки были в форме ванночек), Степан сразу же схватил два из них и стал запихивать в боковые карманы пиджака.
– Не тащить же чемодан через весь город, – так он объяснил свои действия, встретившись глазами с Фёдором. Он, конечно, прекрасно видел, но не хотел замечать того, что слитки лежали на прозрачном пакете, в котором находились золотые коронки и даже целые, литые челюсти, некогда помогавшие кому-то пережёвывать пищу, а теперь обратившиеся в золотой лом.
– Брось, – сказал ему Фёдор, – пойдём отсюда.
– Как это – брось? Нет. Слитки, в любом случае, возьмём, – возразил ему Степан и, поднявшись, отбросил ногой скатерть со второй половины чемодана.
От увиденного оба пришли в оцепенение. Там, во втором углу, на горе из бриллиантов, изумрудов, рубинов и жемчуга лежала отрезанная голова. По белым ресницам на одном глазу друзья сразу же угадали, что голова эта была когда-то на плечах у Богдана. Степан и Фёдор молча глядели то на голову, то друг на друга. Первым в себя пришёл Фёдор, он отшатнулся от чемодана и стал Степану говорить:
– Брось! Брось, тебе говорю!
Степан достал слитки из карманов, один кинул на землю, к чемодану, а другим попытался разбить окно кабинета, находящееся на третьем этаже. Слитки были весом то ли восемь, то ли девять килограммов. Слиток не долетел, ударился о стену дома и упал. Раздосадованный Степан, споткнувшийся к тому же о чемодан, не выдержал и во весь голос крикнул:
– Ты мне не дядя! Ты гад! Я не хотел! Не просил тебя!
Друзья стояли на площадке, усыпанной гравием и ожидали, что откроется окно, и Черногуз ответит. Но ответа не последовало.
Вместо этого они вдруг услышали треск и какой-то подозрительный, неприятный шумок, доносящийся из дома, который с каждой секундой всё увеличивался и нарастал. Не сговариваясь, интуитивно ощущая опасность, Степан и Фёдор побежали подальше от дома, и тут же, через каких-то несколько мгновений, из открытой двери вырвалось огромной силы пламя и стало лизать рыжим языком дом снаружи. В том, что и внутри всё полыхает и горит, ни Степан, ни Фёдор не сомневались. Шли по разлитому, на первых двух этажах, керосину и хорошо представляли, как это может гореть.
– Знаешь, зачем он меня оставлял? – Громко и спешно заговорил Степан, как бы боясь того, что досказать не успеет. – Он показал убитых. Там, в той комнате, где ты спал. Там… Там, Жанна, жена молодая его и Марсель, оба мёртвые. Он решил, что они любовники и убил их. Не сам убил, велел это сделать Боде, а сам потом и Бодю, вроде как для меня. А я не просил убивать, он это всё сам придумал!
Степан неожиданно для Фёдора перекрестился и закричал:
– Вот истинный крест! Ты может, думаешь, – я Корнею говорил: отруби голову, а потом мы вместе посмеёмся? Верь мне, и в мыслях не было! Но это неважно, – сказал он, задумавшись, понижая голос, сказал так, как будто вдруг опомнившись, старался не забыть, не упустить что-то главное. – А важно то, что Максим, твой Максим был у Жанки в любовниках! Я это точно знаю и надо немедленно найти его и схоронить. Ой, прости, сболтнул, не подумав. Я в том смысле, чтобы спрятать. Потому, что это маньяк, убийца, страшный человек. Видишь, он не выходит, а дом уже весь горит. Дом поджёг, а сам… Думаешь, где он?
– Максим? – Рассеяно спросил Фёдор. – Разве точно, Максим?
– Максиму сразу же, сейчас же позвоним, – сказал Степан, как бы косвенно подтверждая, что «точно Максим».
– Да, да, – рассеянно согласился Фёдор. – Надо будет сейчас же… А, где же Черногуз? Почему он, действительно, не выходит? – Поинтересовался Фёдор, становясь как бы блаженным, человеком переставшим ощущать реальность.
– То-то и оно! – Обрадовался Степан вопросу. – Он следы заметает. Смотри. Так он переезжает, гад! Я уверен, что есть в доме подземный ход и он как раз через него теперь.
Степан не договорил, стекло на третьем этаже со звоном вылетело, и из окна повалили перья. В проёме окна показался Черногуз, захохотал нечеловеческим, сильным смехом и закричал на всю округу:
– Красота!
Фёдор со Степаном стояли и смотрели на него в недоумении. Дом настолько сильно был объят пламенем, что даже стоя от него на довольно значительном расстоянии, было нестерпимо жарко, а яблони, росшие чуть ближе к дому, так те просто горели. Было непонятно, каким образом Корней Кондратьевич мог там находиться, оставаясь при этом живым. Он снова выкинул из окна перья, прокричал «красота» и исчез. Его не было видно и слышно долгих секунд пять.
– Сгорел, – тихо сказал Степан.
И тут же, как бы в опровержение его словам, из горящего дома донёсся знакомый выкрик. Шум от пожара стоял такой, что невозможно было бы услышать ничего из того, что говорилось или кричалось в доме. Будь то усилено даже в сто раз. Однако, голос Черногуза, покрывая весь этот шум, как голос самого Сатаны, внезапно заговорившего прямо из преисподней, с неземной, с сатанинской силой, разносил над посёлком, как заклинание, одно и тоже слово.
Люди, собравшиеся со стороны парадного крыльца, плакали и причитали. Бабы голосили, как на похоронах.
Терем, к которому привыкли и без которого каждому из них не представлялся родной посёлок – горел. Горел вместе с хозяином, который хоть и кричал, но не звал на помощь, выкрикивал непонятное для собравшихся слово.
Пожарная команда, находящаяся в двухстах шагах от дома Черногуза, на той же улице, где собрался народ, так и не соизволила принять меры к тушению. Да и чем бы они помогли, если разыгравшаяся вдруг со страшной силой гроза, одна из тех, которые случаются только на юге, когда в течение нескольких секунд на голову сваливается целая стена воды, и та оказалась бессильна. Пламя от проливного дождя не затухало, и казалось, что даже наоборот, только сильнее разгорается. Невозможно было оторвать глаз от этой мистерии. Проливной дождь, гром и молнии, пожарище, стенания людей, и голос подземелья, кричащий «красота».
Фёдор и Степан, собиравшиеся бежать, спасать Максима, промокли до нитки, но продолжали стоять и следить за происходящим. Жутко и сладостно было созерцать дом, который со всех сторон лизало пламя, ощущать себя участниками всего этого. Степан и Фёдор, временами переглядывались, ни слова друг другу не говоря, и снова молча продолжали смотреть на огонь. Огонь был главным героем мистерии. Синие, зелёные, малиновые языки пламени, выскакавшие то здесь, то там, не так увлекали, как сама стихия пожара. Казалось, что огонь – живое существо, чудовищных размеров зверь, постепенно проглатывающий дом. Он заталкивал его в своё горло и чем более дом поддавался, тем он становился всё более нетерпеливым. Он спешил, торопил свою жертву, был недоволен её медлительностью, злился и ревел.
Обгорела и обвалилась крыша, почернели горящие брёвна, а крики Черногуза были всё ещё слышны. Это было невозможно, но, тем не менее, слово «красота» неслось над посёлком.
* * *
С раннего утра Максим ждал звонка от Жанны, он просто поверить не мог в то, что сегодня она ему не позвонит. Позвонила бы – он простил бы ей всё. Всё, чего б там ни было, но звонка всё не было, и он переживал.
«Сняла квартиру, – думал он, – мужик-хозяин должен был прийти, вешалку прибить».
Он ревновал её к этому хозяину-мужику, ко всем мужикам сразу. Вспомнив, с какой решительностью она оттолкнула его в вагоне метро, у него в голове вдруг промелькнула мысль:
«Уж не влюбилась ли она в того самого Балденкова Котьку, жившего с ней в одном доме?».
Но он тут же эту мысль отбросил, как чересчур безумную.
Разглядывая её фотографию и сжимая в кулаке брошь-талисман, подаренную ею, он старался думать о приятном. Вспоминал её ласковый голос, покорный, любящий взгляд, слова, сказанные в метро: «жадина, ты мой любимый», и на сердце становилось сладко. Вспоминал, как внимательно следила Жанна за каждым его жестом, как осторожно трогала его лицо, и как частенько, прямо среди беседы, прижималась и, закрыв глаза, просила, чтобы поцеловал, а то и сама целовала без всякого спроса. Ему казалось, что он и теперь ощущает прикосновения её губ и пальцев. Вспоминал первую встречу, разлитое шампанское, гусарский наряд, купание в пруду, и даже следы от резинок, оставшиеся у Жанны на ногах, после того, как она сняла с себя белые гольфы.
В ожидании звонка Максиму так захотелось целовать эти следы от резинок, что он просто пришёл в бешенство. В нём с каждой секундой нарастала тёмная сила, которой не находилось выхода. Предчувствуя появление этой силы, и боясь оказаться в её власти, Максим ещё в четверг, сразу же после избиения Маслова, просил Назара прогулять практику и быть неотступно всю пятницу с ним. Объяснил это так:
«Не знаю, что со мной происходит, но чувствую, за мною надо смотреть. Не оставляй меня, ни на минуту».
Назар с лёгкостью прогулял практику и с такой же лёгкостью согласился следить за Максимом и, как понял он свою роль, в случае чего его сдерживать.
Ожидание телефонного звонка становилось невыносимой мукой. Не зная, чем занять себя, Максим Назару предложил сыграть в карты. Игра не клеилась, да вдобавок ко всему, как нарочно, с дачи вернулась Полина Петровна, стала спрашивать, почему они не на практике. Пришлось лгать, говорить, что у них сегодня свободный день.
Следом за Полиной Петровной в квартире появилась Фрося, пропадавшая более недели, и в доме сразу всё пошло кувырком. Настолько кувырком, что Максим на какое-то время, ни то что о игре, но и о звонке, которого так напряжённо ждал, совершенно забыл. Пьяная, загорелая Фрося появилась не одна, завалилась с гостями. С участковым Шафтиным и монтёром Лёней. Пришла пить, гулять, отмечать возвращение.
– Я твоих денег не тратила, – кричала Фрося на всю квартиру из своей комнаты, обращаясь к Карлу. – Меня ограбили, из поезда вышвырнули. Я от самой Тулы пешком шла, побиралась. А ты у меня и не прописан! – Кричала она. – Так что вот тебе, тут и власть, участковый, он скажет тебе законы. Короче, – выметайся в два счёта! Чтоб духу тваво здесь не было! Вот и весь сказ!
По просьбе Полины Петровны и Галины Максим вошёл в комнату к Фросе и предложил Карлу спуститься на улицу, часок погулять. С тем, чтобы его мать и сестра могли с соседкой без него кое о чём переговорить. Максим был к соседке, по своему человеческому складу, ближе других и когда было нужно, входил без стука. Карл согласился и при помощи Максима и Назара этот замысел стал осуществляться.
Тем временем, не дожидаясь, пока за Карлом закроется дверь, Фрося кричала направлявшейся к ней Полине Петровне:
– Соседка, не говори ничего! С фашистом жить всё одно, не буду! И слушать тебя не стану!
Но пришлось не только слушать, но и перепугаться. Галина не из праздного любопытства ездила на прежнюю квартиру к Карлу, узнала, что хотела и разъяснила, что смогла. Карла хоть и выписали из квартиры, с таким же успехом были готовы снова туда прописать, ибо перепуганные насмерть соседи с Фросиной распиской о получении пяти тысяч и своими пояснениями к ней обратились в милицию, и там уже было заведено уголовное дело.
– Так что не горланить тебе надо, а бегать, деньги потраченные искать. Карл к себе и так вернётся. А, тебя, за афёру, судить станут, – закончила Полина Петровна свою речь, которой повергла в глубочайшее уныние и трепет не только Фросю, но и её гостей.
Пьянку-гулянку они, конечно, не отменили, но настроение у них испортилось. И только Шафтину сообщения Полины Петровны и сложившаяся после них ситуация пошли на руку, ибо совершенно неожиданно он обрёл заинтересованных помощников в тёмном и тайном деле своём. Руками Фроси и сожителя её он решил избавиться от немца, о чём настоятельно его просил Черногуз. А просьба Корнея Кондратьевича, он ещё не знал, что тот мёртв, была для него важнее приказа командования.
До пролёта, соединяющего четвёртый этаж с третьим, Карла донесли прямо в кресле, а там обязанности у друзей разделились, пока Назар сажал Карла на подоконник, Максим отнёс кресло на улицу. Оставив кресло у подъезда и, доверив приглядывать за ним Матвею Ульянову, гулявшему во дворе с мальчишками, он тут же вернулся.
Сложив руки замком и посадив на них Карла, они стали медленно спускаться. Выйдя из подъезда, Максим увидел, что Матвей сидит в креслах и под смех мальчишек катается, рулит колесами, при этом сам смеётся. Посадив Карла на скамейку, он кинулся к Матвею.
Назар, пристально следивший за ним и предварительно разглядевший в друге неладное, тут же схватил Максима за руку и попытался удержать. Максим вырвался, высвободил руку, но тут же Назар, с силой, ухватился за другую. Но силы были не равны, с Максимом действительно что-то происходило, он находился в каком-то сумасшедшем восторге, и Назар не мог его сдерживать. Максим засмеялся нервным смехом, ударил Назара по рукам, оттолкнул и, подбежав к креслу, стал с силой бить Матвея по лицу.
Матвей не понимал, в чём дело, даже не закрывался. Он настолько привык к тому, что его никто не трогал, наоборот, только защищали, что просто не знал, как на происходящее реагировать. Сам Максим был первым ревностным его защитником. Кровь мгновенно брызнула из разбитого носа и лопнувшей губы, стала капать на белую рубашку, в которую Ульянов был одет.
Сообразив, что Матвея больше бить нельзя, Максим забежал в подъезд и там, ударив с силою несколько раз кулаками по стене, от чего посыпалась штукатурка, горько заплакал.
Во дворе все те, кто оказались свидетелями происшедшего, пришли в недоумение. Тот, кто первый вставал на защиту Матвея, кто учил не давать его в обиду, сам, на глазах у всех, ни за что, за то, что тот сел в кресло с колёсами, так зло и жестоко избил его.
Как и все находящиеся во дворе, так и сам Максим, избивая Матвея, который никогда не дал бы ему сдачи, чувствовал, что делает что-то страшное. Чувствовал, но не владел собой, не мог управлять своими действиями, не в состоянии был остановиться.
Плача в подъезде и облизывая в кровь разбитые руки, Максим вслух, как бы обращаясь к кому-то невидимому, приговаривал:
– Видишь, что ты со мной делаешь. Как мучаешь.
Заметив вошедшего в подъезд Назара, Максим постарался скрыть слёзы, сказал ему, что всё будет нормально, пусть только тот теперь от него уйдёт. Его начинала бить изнутри точно такая же дрожь, как когда-то Назара.
«Да, он был прав, – думал Максим. – Лучше от женщин держаться подальше. Никогда я так раньше не мучился».
– Ты с Карлом побудь минут пять, – сказал он, ёжась. – А, я скоро выйду, к вам подойду.
Назар, которому никогда прежде не приходилось видеть слёз Максима, послушно оставил его и вернулся к Карлу. Вернулся с тем, чтобы везти его по двору, то есть, гулять. Но ему этого сделать не дали. Из подъезда на улицу, следом за ним, как угорелые, выбежали Шафтин и Лёня.
Выбежали и попросили Карла подняться наверх, якобы для чрезвычайно важного разговора. Что Карл с их помощью, но без особого удовольствия, и исполнил.
Узнав об избиении Матвея, Галина, взяв брата за руку, пошла с ним к Ульяновым. Она вела его просить прощения, захватила с собой четвёртую часть от большого, открытого, клубничного пирога, утром испечённого, а также новую рубашку, купленную для Максима.
Мама у Матвея была под стать сыну, такой же тихой и безответной, о чём красноречиво свидетельствовал диван, красовавшийся на шкафу, поставленный туда паркетных дел мастерами, якобы подготавливавшими себе пространство для работы, а на деле пускавшими пыль в глаза. Диван так и простоял на шкафу два года, и всё это время Ульяновы, мать и сын, безропотно спали на полу.
Подарки и извинения Матвей принимал с тем же непониманием, с каким недавно сносил побои. А его мама, наотрез отказывалась от всего, мотивируя это тем, что сын сам заслужил то, что получил, и если кому и просить прощение, так это Матвею у Максима и никак не наоборот. Сошлись на том, что оба виноваты и стали общими усилиями, по предложению Галины, снимать со шкафа диван.
Придя вместе со Степаном к себе домой и, узнав, что Максим жив, Фёдор успокоился. Но длился покой недолго. Полина Петровна, со слезами на глазах, сказала:
– Собирайся, пойдёшь со мной к Павлику. Звонила какая-то Нина Георгиевна, сказала, что он болен и просил, чтобы я пришла обязательно вместе с тобой.
Полина Петровна расплакалась.
– Да что ты? – Растеряно спросил Фёдор, который хотел отказаться от похода к двоюродному брату. – Чего плачешь?
– Говорит, совсем плох, – пояснила мать, вытирая слёзы. – Говорит, при смерти. С вами замоталась, совсем про него забыла.
– Оставайся. Переодевайся, – говорил Фёдор Степану, уходя. – Дождись Максима, расскажи ему всё, или нет, не надо. Лучше ничего не говори. Сам сообразишь, как поступить. Действуй по обстоятельствам. Если будет нужно, побудь с ним. А если не будет нужно, беги к Марише. Она, наверное, тоже тебя заждалась.
Сам Фёдор переодеваться не стал, Полина Петровна торопилась, и он не хотел её задерживать. Всю дорогу матушка нервно рассказывала про печника, с которым Фёдор клал печь, как тот напился у Укатаевых и трое суток спал.
– Как проснётся, так просит похмелиться. Они ему поднесут, он выпьет и снова спать. Так печь им и не выстроил.
Она рассказывала с тем, чтобы не думать о племяннике, чтобы отвлечься, но то и дело, прерывая свой рассказ о печнике, охала и принималась нервно повторять одну и ту же фразу:
– С вами замоталась, совсем о нём забыла.
Фёдор шёл молча рядом с ней, ничего не спрашивая и ни на что не отвечая. Подходя к знакомому дворику, в котором когда-то жил и дядя Петя, Фёдор заметил чрезвычайные перемены.
На улице, вдоль дома, стояли крытые, военные машины, весь двор был огорожен специальными металлическими конструкциями, вдоль которых плотной стеной стояла милиция. За оградой наблюдалось большое скопление народа, беспрестанно толкавшегося и бездумно передвигавшегося.
Спецавтобус, с решетками на окнах, стоящий у входа во двор, крики полковника в мегафон, предлагавшего, в сотый раз, очистить двор, непривычные дружинники, с фиолетовыми вместо красных, повязками на рукавах – всё это настораживало и вызывало чувство неприязни, по отношению ко всем находящимся, как во дворе, так и за его пределами.
Наблюдая за происходящим, Фёдор никак не связывал всё это с братом, к которому они шли, но, приглядевшись и заметив, что с фиолетовыми повязками на рукавах стоят исключительно знакомые лица, стал думать иначе, и пока шли, попытался самостоятельно разобраться в том, каким образом брат мог быть с ними связан, но сколько не думал, ничего в голову не пришло. А с повязками стояли: Глухарёв, грузчик Валентин, и знакомые по поминкам дяди Петра, Кирькс и его дочь.
Прямо у спецавтобуса, с решётками на окнах, Фёдора и Полину Петровну встретила солидная, представительная женщина, представившаяся Ниной Георгиевной. Сказав полковнику «это они», провела их через ограду и далее сопровождала по двору. Во дворе, при всей казавшейся с наружи бездумности, в движении наблюдался порядок, имелся коридор и такая же, как снаружи своя, внутренняя ограда, у прохода через которую и стояли те самые дружинники с фиолетовыми повязками и знакомыми лицами.
Дружинники вели себя так, словно получили высокий чин, особые полномочия. На проходящих мимо них Полину Петровну и Фёдора они смотрели, как начальники на подчинённых, то есть – с неизбежным холодком во взоре, не допускающим панибратства и слегка рассеянно, дескать, может, мы и знакомы, ну так что ж с того, много было ненужных знакомств, всех не упомнишь.
Они испытывали заметное наслаждение от своего нового положения. Только после этих высокомерных лиц Фёдор окончательно утвердился в мысли, что всё происходящее вертится вокруг брата. Оставалось непонятным, почему, кому и зачем это нужно, но всё это он надеялся скоро узнать.
Пашка тем временем, лёжа на тахте, оставшейся от бабушки, слушал посетившую его Трубадурову.
Тахта была покрыта фиолетовым шёлком, Пашка полулежал-полусидел, подложив под себя для удобства мягкие, шёлковые, фиолетовые подушечки. Под головой у него была белоснежная салфетка. Волосы были намазаны маслом, издававшем благовоние, и зачёсаны назад. У иконы, забранной теперь в серебряный оклад, горело восемь лампад.
– Как только я к тебе вошла, ты сразу со мной поздоровался, – говорила Трубадурова. – А Марков? Уж кто-кто, а Марков. Представляешь, встречаю на остановке – не узнаёт. Проходит мимо. В другой раз встречаю у школы, столкнулись нос к носу, – идёт, не здоровается. А вчера, в булочной, поймала его за руку, спрашиваю: ну, что, и теперь не узнаёшь? Так он, что ж ты думаешь? Он, подлец, только хмыкнул и пошёл своей дорогой. Был первым учеником, я ему только пятёрки ставила и вдруг такой хамелеон. За что? Ну, за что? Я этого не пойму.
Трубадурова была в новом, выходном платье, напудренная, надушенная, с губами, жирно намазанными помадой. Такой бывала только на уроках, за которыми следили проверяющие.
– А у тебя пришла, прощения попросить, – продолжала она, – ведь я же не знала, что ты верующий. Думала, дурачишься. И потом, ты должен понимать, кричала я не на тебя, а на этих идиотов, которым из года в год за их обещание уйти из школы, вынуждена ставить тройки. Всё годами копилось.
Трубадурова прервала свою речь, так как в комнату вошли Нина Георгиевна, Полина Петровна и Фёдор.
Однако, что же предшествовало этому их приходу?
Двор, в котором жил Пашка, из-за огромного скопления народа, желающего в него попасть, был оцеплен третьи сутки. Вход во двор закрыт, жильцов пускали по предъявлению прописки в паспорте. Нина Георгиевна была единственным человеком, которого слушался и собравшийся народ, и власти. Она регулировала процесс посещения, отвечала за порядок, за дежурных у подъезда, а также за питание для тех, кто толкался во дворе, надеясь попасть на приём к Пашке.
Милиция предприняла накануне попытку очистить двор от собравшихся, но попытка оказалась безуспешной. Не были приняты и приехавшие вслед за этим, для переговоров, районные начальники. Назревал серьёзный конфликт.
Узнав, что многие из собравшихся хотят только посмотреть на него, Пашка пообещал, что в субботу выйдет к людям. И, хотя был слаб, и с тех пор как слёг, не вставал, он почему-то был уверен, что сделать это сможет.
На всякий случай позвал к себе крестную, да брата Фёдора.
Увидев их, Трубадурова встала и, говоря «сколько можно жаловаться, пойду», дополнительно пожаловалась:
– Полина мои беды знает, – говорила она. – Паркет паразиты не стелят. Родные дети, как тараканы, разбежались кто куда. Ну, не буду мешать, пойду. Выздоравливай. До свидания.
Трубадурова ушла, а Фёдор и Полина Петровна сели на поданные им Ниной Георгиевной стулья. Сама Нина Георгиевна села тут же, рядом с ними.
– Привет, – сказал смущённый Фёдор. – Вот, притащила матушка, говорит, собирайся, пойдём. Я под дождь попал, так даже мокрую одежду на сухую поменять не дала. Пока до тебя добрались, понасмотрелся. Через три кольца оцепления шли, там и решётки, и автобусы с решётками на окнах. В мегафон кричат, кругом люди, – сумасшедший дом. А как пробирались, и докладывать не стану, спасибо Нине Георгиевне, люди прямо кидались, не верили, что брат. В подъезде на всех ступенях сидят, как собаки бездомные. Поверить не могу, что это ты такую кашу заварил. А эти гости, они постоянно в твоей комнате? – Спросил Фёдор, кивая головой на двух женщин, сидящих в углу, на тюфяках. Спросил, пытаясь пошутить.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































