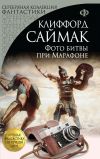Текст книги "Братство талисмана"

Автор книги: Клиффорд Саймак
Жанр: Героическая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 71 страниц)
Глава 4
С высоты плоскогорья, где сел Корабль, поверхность планеты просматривалась до дальнего и очень резкого горизонта – мощные синие ледники замерзшего водорода, сползающие по склонам черных безжизненных скал. Солнце планеты было так отдалено, что казалось звездочкой, – может, чуть побольше и поярче других. И все же звездочка умирала и тускнела, да и расстояние до Земли было столь велико, что у нее не было ни имени, ни хотя бы номера. На звездных картах не было даже точечки, отмечающей ее местонахождение: слабенький ее свет никогда не регистрировался на фотопластинках земных телескопов.
«Корабль, – позвал Никодимус, – неужели это все, что мы можем сделать?»
Корабль отозвался:
«Больше ничего сделать нельзя».
«Мне кажется, – настаивал Никодимус, – жестоко оставлять их в таком захудалом месте».
«Мы искали место уединения, – ответил Корабль, – место достойного одиночества, где никто не отыщет и не потревожит их, не станет исследовать останки под микроскопом и не выставит в музее. Это, робот, мы должны были для них сделать, но теперь, когда сделали, мы им больше ничего не должны».
Никодимус стоял у тройного гроба, пытаясь запечатлеть это место в памяти навечно, – однако, обведя взглядом всю планету, уяснил себе, что запечатлевать, в сущности, нечего. Здесь царило мертвенное однообразие: куда ни глянь, не увидишь ничего нового. А что, если, подумалось ему, это даже хорошо, что анонимность мертвецов будет еще и упрочена безвестностью кладбища?..
Нет, это было не небо. На месте неба – лишь черная нагота космоса, сбрызнутая густой россыпью незнакомых звезд. «Когда мы с Кораблем улетим отсюда, – подумал робот, – только эти суровые немерцающие звезды и будут тысячелетиями взирать на троих лежащих в гробу – не охранять их, а наблюдать за ними ледяным взором древних трухлявых аристократов, заведомо не одобряющих любого, кто проникнет извне в их узенький круг. Но это тоже не играет роли, – возразил Никодимус самому себе, – потому что на свете больше нет ничего, что могло бы повредить усопшим. Им уже нельзя повредить, как нельзя и помочь».
И еще он подумал, что не мешало бы помолиться за них, хотя до сих пор он никогда не молился и даже не помышлял ни о каких молитвах. И он, в общем, подозревал, что молитва в устах такого, как он, окажется неприемлемой ни для людей, простертых в гробу, ни для божества, которое соизволило бы склонить свой слух к его словам, каково б оно ни было. И все-таки молитва выглядела бы подобающим случаю жестом – робкой, неуверенной надеждой, что где-нибудь в неоглядном пространстве скрывается высший заступник.
Но если б он решился на молитву, то что бы сказал? «Господи, мы оставляем эти создания на твоем попечении…» А дальше? Допустим, начало хорошее – а что дальше?
«Можешь попробовать прочесть ему наставление, – вмешался Корабль. – Попытайся внушить ему, как незаурядны эти трое, о которых ты печешься. Или проси о снисхождении к ним, отстаивай их право на снисхождение, хоть им-то теперь не нужны ни твои просьбы, ни твои доводы…»
«Ты насмехаешься надо мной», – сообразил Никодимус.
«Мы не насмехаемся, – ответствовал Корабль. – Мы превыше насмешек».
«Но надо же сказать хоть несколько слов, – упирался Никодимус. – Они вправе ждать их от меня. Земля вправе ждать их от меня. Ты же сам прежде жил в человеческой оболочке. Уж по такому поводу, на мой взгляд, в тебе должно бы проснуться что-то человеческое!»
«Мы горюем, – сообщил Корабль. – Мы скорбим. Мы опечалены. Но опечалены фактом смерти, а не тем, что оставляем мертвецов в подобном месте. Им совершенно все равно, где бы мы их ни оставили».
Все равно надо что-то сказать, мысленно упорствовал Никодимус. Что-нибудь торжественное, официальное, какой-нибудь ритуальный текст, прочитанный внятно и в надлежащих выражениях, – ведь они есть прах Земли, перекочевавший сюда на веки вечные. Да, по логике вещей следовало искать для них место уединенное – но невзирая на логику не надо бы бросать их здесь. Надо бы поискать другую планету, зеленую и приятную…
«Нет таких, – сообщил Корабль, – зеленых и приятных планет поблизости нет».
«Раз у меня не находится подходящих слов, – обратился робот к Кораблю, – ты не возражаешь, если я просто побуду здесь еще немного? Мы должны по меньшей мере проявить деликатность и не взлетать сию же минуту…»
«Можешь торчать там, сколько хочешь, – согласился Корабль. – В нашем распоряжении вечность».
– И знаете, – заявил Никодимус Хортону, – я так и не нашел что сказать…
Но тут заговорил Корабль:
«У нас гость. Спустился с холмов и ждет возле трапа. Надо бы выйти к нему. Однако будьте настороже, соблюдайте правила безопасности и захватите личное оружие. Судя по его виду, субъект препротивный».
Глава 5
Гость остановился футах в двадцати от нижнего края трапа и ждал не шевелясь, пока Хортон с Никодимусом спустятся к нему. Он был ростом с человека и держался на двух ногах. Однако руки, праздно свисающие по бокам, заканчивались не пальцами, а пучками щупалец. Одежды он не носил. Тело было покрыто скудной линяющей шерстью. Более чем очевидно было, что это самец. Голова представляла собой попросту голый череп. Она не ведала ни волос, ни меховой опушки, кожа туго обтягивала костный остов. Мощные челюсти выпячивались, образуя здоровенное рыло. Верхние резцы свисали почти как клыки у допотопных саблезубых тигров Земли. А длинные заостренные уши, понизу прижатые к вискам, выдавались над куполом голого черепа и стояли торчком. И каждое ухо было увенчано ярко-красной кисточкой.
Как только они спустились до нижних ступенек трапа, странное существо возвестило голосом гулким как барабан:
– Приветствую вас на этой хреновой планете…
– Черт побери, – выпалил пораженный Хортон, – откуда ты знаешь наш язык?
– Я усвоил язык от Шекспира, – ответило существо. – Шекспир обучил меня ему. Но Шекспир ныне умер, и мне его безмерно недостает. Без него я вполне безутешен.
– Постой, ведь Шекспир жил в глубокой древности, и откуда же…
– Отнюдь не тот, что в древности, – ответило существо. – Хоть он тоже не был молод, в нем жила болезнь. Шекспир утверждал, что он человек. И был весьма похож на тебя. Делаю вывод, что и ты человек, а другой, что с тобой, не человек, хоть у него имеются человеческие черты.
– Ты прав, – заявил Никодимус. – Я не человек, но почти един с человеком. Я друг человека.
– Тогда прекрасно! – возрадовалось существо. – То есть просто замечательно! Потому что я был этим самым другом для Шекспира. Лучший друг, какой у меня был во все времена, – так говорил Шекспир. Мне его, несомненно, недостает. Я восхищен им чрезвычайно. У него было столько умений. Одного он не умел – выучить мой язык. Так что пришлось мне вольно-невольно выучиться его языку. Он говорил мне о больших судах, несущихся с грохотом в пространстве. Так что, услышав ваш грохот, я поспешил быстро, как мог, в надежде, что сюда пожаловали люди Шекспира.
Хортон обернулся к Никодимусу:
– Тут что-то не сходится. Не мог человек забраться в такую космическую даль! Конечно, Корабль валял дурака, тормозил у разных планет, и это съело порядочно времени. И все равно мы почти в тысяче световых лет от Земли…
– А может, на Земле, – возразил Никодимус, – уже построены лучшие корабли, летающие во много раз быстрее скорости света? Мы барахтались в космосе, а тем временем многие корабли опередили нас. Выходит, как это ни удивительно…
– Вы двое рассуждаете о кораблях, – перебило существо. – Шекспир поведал мне о кораблях, однако ему корабль был не нужен. Он прибыл через туннель.
– Послушай, – не выдержал Хортон, начиная сердиться, – попытайся говорить потолковее. Что это за туннель, что ты имеешь в виду?
– Разве тебе неизвестен туннель, проложенный среди звезд?
– Никогда о нем не слышал, – сказал Хортон.
– Погодите, – предложил Никодимус, – попробуем вернуться назад и начать по порядку. Правильно ли я понял, что ты уроженец этой планеты?
– Уроженец?
– Да, я сказал – уроженец. Спрошу иначе. Ты местный? Это твоя родная планета? Ты здесь родился?
– Ни в коем разе! – воскликнуло существо с пылом. – Будь моя воля, я б на этой планете помочиться побрезговал! Не задержался бы здесь на самое малое время, выпади мне шанс выбраться отсюда. Затем я и поспешал, чтоб выторговать себе возможность отбыть вместе с вами обоими, когда вам придет пора улетать.
– Значит, ты очутился здесь так же, как Шекспир? Через туннель?
– Разумеется, через туннель. Как бы иначе мог я сюда попасть?
– Тогда и расстаться с планетой должно быть легче легкого. Ступай в этот самый туннель и отбывай восвояси.
– Не могу, – захныкало существо. – Треклятый туннель вышел из строя. Совершенно разладился. Работает только в одну сторону. Сюда доставляет охотно, отсюда не хочет нипочем.
– Ты же сказал, что туннель проложен среди звезд. У меня сложилось впечатление, что он ведет ко многим звездам.
– К такому их числу, что разум не в силах сосчитать, но здесь ему требуется починка. Шекспир пытался, и я пытался, но мы не могли его поправить. Шекспир молотил по нему кулаками, пинал его ногами, кричал на него и обзывал ужасными именами. Однако туннель все равно не работает.
– Если ты не с этой планеты, – вмешался Хортон, – то, может, скажешь нам, кто ты такой?
– Охотно. Все очень просто – я Плотояд. Вы двое знаете плотоядов?
– Это пожиратели иных форм жизни.
– Я Плотояд, – объявило существо, – и очень тем доволен. Горд тем, что такова моя природа. Среди звезд живут многие, кто смотрит на плотоядов с неудовольствием и ужасом. Они ошибочно полагают, что поедать других живущих неправильно, недостойно. И даже говорят, что это жестоко, а я утверждаю, что жестокости нет. Быстрая смерть. Чистая смерть. Свободная от страданий. Куда предпочтительней недугов и старости.
– Хорошо-хорошо, – перебил Никодимус. – Нет нужды продолжать. Мы не имеем ничего против плотоядных.
– Шекспир говорил, что человек тоже плотояд. Но не настолько, как я. Шекспир делил со мной мясо тех, кого я убивал. Мог бы убивать сам, но не с такой ловкостью, как я. Я рад был убивать для Шекспира.
– Нетрудно догадаться, – ввернул Хортон.
– Ты здесь один? – спросил Никодимус. – Здесь нет других таких же, как ты?
– Я одинок, – подтвердил Плотояд. – Прибыл сюда потаенным образом. Никому о том не проболтался.
– А этот твой Шекспир тоже прибыл сюда потаенным образом, как и ты? – спросил Хортон.
– Были безнравственные существа, жаждущие его отыскать, дабы обвинить в том, что он якобы нанес им вред. И он не желал, чтобы его отыскали.
– Но теперь Шекспир умер?
– О да, он умер, не сомневайтесь. Я его съел.
– Что-что?
– Только и исключительно плоть, – сообщил Плотояд. – Весьма старался не есть костей. И не возражаю поведать, что плоть у него оказалась жесткой и жилистой и пахла не так, как я люблю. У Шекспира был неприятный привкус.
Никодимус поспешил вмешаться и сменить тему.
– Мы будем рады, – заявил он, – пойти к туннелю вместе с тобой и посмотреть, нельзя ли его починить.
– Вы согласны предпринять это дружбы ради? – спросил Плотояд, вне себя от признательности. – Я питал надежду, что вы поступите так, и именно так. Вы можете починить треклятый туннель?
– Пока не знаю, – сказал Хортон. – Но посмотреть можно. Я ведь не инженер…
– Я, – заявил Никодимус, – могу стать инженером.
– Черта с два, – сказал Хортон.
– Мы посмотрим, что можно сделать, – повторил безумец в облике робота.
– Значит, все решено и условлено?
– Можешь на нас рассчитывать, – заявил Никодимус.
– Хорошо, – откликнулся Плотояд. – Тогда я покажу вам древний город и…
– Тут есть древний город?
– Я выразился преувеличенно, – сказал Плотояд. – Позволил, чтобы радость по поводу починки туннеля отвлекла меня. Может быть, не вполне город. Может быть, лишь сторожевая застава. Очень древняя, вся развалилась, но, может быть, вам интересно. Однако сейчас я должен идти. Звезда спускается низко. Когда на эту планету падает темень, лучше находиться под крышей. Счастлив встретить вас. Счастлив, что прибыли люди Шекспира. Привет и прощайте! Увижу вас утром, и туннель да починится…
Он круто повернулся и рысцой устремился к холмам, ни разу не бросив взгляда назад. Никодимус задумчиво покачал головой.
– Тут много загадок, – заявил он. – Много пищи для размышлений. Много вопросов, которые предстоит выяснить. Но сперва я должен приготовить вам ужин. Вы вышли из холодного сна достаточно давно, чтобы принять еду, не подвергая себя опасности. Добротную, питательную еду, только для начала совсем немного. Сдерживайтесь, не будьте прожорливы. Входите в норму постепенно.
– Погоди-ка минуточку, черт тебя побери, – сказал Хортон. – Ты не находишь, что сперва должен мне кое-что растолковать? Чего ради, например, ты решил отвлечь меня, когда увидел, что я собираюсь расспросить это чучело о съедении человека по кличке Шекспир, кто б он на самом деле ни был? И что ты имел в виду, утверждая, что можешь стать инженером? Ты же чертовски хорошо знаешь, что никакой ты не инженер,
– Всему свое время, – ответил Никодимус. – Как вы справедливо отметили, нужно объясниться. Но прежде всего вам нужно поесть, а солнце уже почти село. Вы слышали совет этого существа, что после захода солнца лучше быть под крышей.
Хортон фыркнул:
– Предрассудок. Бабушкины сказки.
– Бабушкины или не бабушкины, – заявил Никодимус, – но пока мы не выясним все доподлинно, разумно руководствоваться местными обычаями.
Глянув вдаль по-над морем колышущейся травы, Хортон увидел, что горизонт уже рассек солнце надвое. Травяная ширь обернулась сплошным листом мерцающего золота. На глазах Хортона солнце погружалось в это золотое сияние, и по мере погружения небо на западе приобретало болезненный лимонно-желтый оттенок.
– Странные световые эффекты, – отметил он вслух.
– Хватит, поднимайтесь на борт, – торопил Никодимус. – Что бы вы хотели поесть? Предлагаю протертый куриный суп с овощами – как вы к нему относитесь? А потом ребрышки с печеной картошкой…
– Хорошее меню, – сказал роботу Хортон.
– Я дипломированный шеф-повар, – ответил тот.
– Интересно, есть такая профессия, которой ты не владеешь? Инженер и шеф-повар. И что еще?
– О, профессий у меня много. Я могу выступать в разных качествах.
Солнце зашло, и чудилось, что с неба течет пурпурная дымка. Дымка нависла над желтизной травы, и та немедля окрасилась под старую полированную медь. Горизонт стал черным как смоль, только на месте заката еще виднелся зеленоватый проблеск цвета молодых листьев.
– Приятно, – заметил Никодимус, наблюдая за игрой красок, – очень приятно для глаза.
Краски стремительно гасли, и с темнотой на планету спустилась прохлада. Хортон стал взбираться по трапу. Но в ту же секунду нечто навалилось на него сверху, схватило его и завладело им. Не то чтобы схватило буквально – не было ровным счетом ничего, чем бы оно могло хватать, – и все же некая сила повязала его, обволокла и обездвижила. Он пытался бороться с этой силой, но не мог пошевелить ни одним мускулом. Вознамерился крикнуть, но гортань и язык окаменели. И внезапно он оказался нагим, ощутил себя нагим, лишенным не столько одежды, сколько всякой защиты, распростертым и вскрытым так ловко, что любой сокровенный уголок его существа оказался выставленным на всеобщее обозрение. Пришло противное чувство, что его изучают, исследуют, подвергают экспериментам, анализируют. Изучают голенького, освежеванного, распятого, чтоб исследователь мог докопаться до самой тайной его мечты, до последнего чаяния. Словно, мелькнула мысль в закоулках сознания, Бог снизошел с небес и предъявил на него права, быть может заодно определяя, чего он стоит.
Хотелось удрать и спрятаться, натянуть содранную кожу на тело и отчаянно закутаться в ней, прикрыть ею свое распятое и разверстое убожество, сшить на живую нитку лохмотья человеческой сущности. Но бежать было немыслимо, спрятаться негде, и оставалось лишь стоять столбом и терпеть, что тебя изучают.
Вокруг ничего не было. Ничто ниоткуда не появлялось. И все же нечто схватило его, обволокло и раздело донага – и тогда он нацелил свой разум на то, чтоб увидеть это таинственное нечто и разобраться, что же оно такое. И как только он сделал такую попытку, ему почудилось, что череп раскололся и мозг выбрался на волю, расширяясь, раскрываясь и впитывая в себя истины, каких никто из людей доселе не постигал. Потом его охватила паника: казалось, мозг расширился до того, что заполнил всю Вселенную, цепляясь шустрыми пальцами мыслей за все непознанное в мерзлом пространстве и быстротечном времени. И на мгновение, только на мгновение, он вообразил себе, что вгляделся в суть конечных целей бытия, укрытую в самых дальних пределах мироздания.
Затем мозг съежился, кости черепа встали на место, нечто отпустило его. Он пошатнулся и не удержался бы на ногах, если бы не вцепился в перила трапа. Никодимус подскочил, поддержал, осведомился встревоженно:
– Что случилось, Картер? Что на вас нашло?
Хортон держался за перила мертвой хваткой, словно они оставались единственной доступной ему реальностью. Тело ломило от напряжения, однако мысль еще сохраняла остатки небывалой остроты, хоть он и сознавал, что острота постепенно тускнеет. С помощью Никодимуса ему наконец-то удалось выпрямиться. Он помотал головой, моргнул раз-другой. Краски на поверхности травяного моря снова переменились. Пурпурная дымка сгустилась в глубокий полумрак. Медный отлив травы смягчился до свинцового оттенка, а небосвод почернел окончательно. В вышине вспыхнула первая яркая звездочка.
– Что случилось, Картер? – повторил робот.
– Ты что, ничего не почувствовал?
– Что-то такое было, – ответил Никодимус. – Что-то пугающее. Стукнуло по мне и соскользнуло. Стукнуло не по корпусу – по мозгу. Будто кто-то замахнулся психическим кулаком, но промазал, только задел мой мозг по касательной.
Глава 6
Разум, что некогда был монахом, перепугался, и испуг породил честность. Исповедальную честность, уточнил он для себя, хотя никогда ни на одной исповеди не бывал он так честен, как сейчас.
«Что это? – спросила светская дама. – Что такое мы чувствовали?»
«Руку Бога, – ответил он. – Руку Бога, коснувшуюся нашего чела».
«Смехотворно, – объявил ученый. – Данный вывод не подкреплен ни достоверными данными, ни объективными наблюдениями».
«Какой же вывод делаете вы?» – осведомилась светская дама.
«Никакого, – ответил ученый. – Я взял случившееся на заметку, вот и все. Проявление какой-то силы. Возможно, это сила космического порядка. Отнюдь не связанная с данной планетой. У меня сложилось четкое впечатление, что сила не местного происхождения. Однако пока не накопится больше данных, нерационально давать ей какие-то уточняющие характеристики».
«Сущая белиберда, – объявила светская дама, – самая жуткая белиберда, какую я слыхивала на своем веку. Наш коллега священник был более убедителен».
«Не священник, – поправил монах. – Сколько раз повторял и повторяю снова. Монах. Простой монах. Самый завалящий из всех монахов…»
И ведь это правда чистой воды, заявил он себе, продолжая честную самооценку. Он был монахом, и никем более. Ничтожнейшим монахом, ополоумевшим от страха смерти. Отнюдь не святым, каким его нарекли, а дрожащим трусом и лицемером, убоявшимся смерти, – ведь тот, кто боится смерти, просто не может быть святым. Ибо для истинного святого смерть должна означать не конец, а обещание нового начала. А он, оглядываясь назад, знал доподлинно, что ни на миг не мог представить себе смерть иначе, чем конец и небытие.
И, задумавшись над этим, он впервые признал то, чего не признавал никогда – по неспособности или от недостатка честности: за возможность послужить науке он ухватился именно затем, чтоб избежать страха смерти. Хотя, конечно, он понимал, что купил себе лишь отсрочку, ибо отвратить смерть нельзя, даже став Кораблем. Точнее, нельзя обрести уверенность, что смерть отвращена навсегда. Остается шанс, пусть мизерный, – ученый и светская дама обсуждали это много веков назад, а он побоялся вступать в дискуссию и промолчал – остается шанс, что спустя тысячелетия они трое, если проживут так долго, станут чистым разумом, и ничем, кроме разума. В таком случае, размышлял он, они стали бы бессмертными и вечными в самом точном значении этих слов. Но если этого не случится, им все равно предстоит взглянуть смерти в лицо, так как космический корабль, увы, тоже не вечен. Рано или поздно, по той ли, по другой ли причине, Кораблю суждено превратиться в разбитый, изношенный остов, дрейфующий среди звезд, а со временем даже остов рассыплется в пыль на космическом ветру. Однако, обнадежил себя монах и вцепился в эту надежду, такого не будет еще долго-долго. Если не изменит удача, Корабль продержится еще очень долго, быть может, несколько миллионов лет, и такого срока им троим действительно может хватить на то, чтобы стать чистым разумом, – конечно, если чистый разум возможен вообще.
«Откуда этот всеподавляющий страх смерти? – спросил он себя. – К чему мне раболепствовать перед нею? Я не просто уклоняюсь от смерти, как всякий нормальный человек, а пресмыкаюсь до одержимости, избегая самой мысли о ней. Не потому ли, что я утратил веру в Бога или, быть может, еще хуже – никогда и не постигал веры? Но если так, зачем я стал монахом?»
И уж начав предаваться честности, он дал себе честный ответ. Он избрал монашество своим занятием (не призванием, а именно занятием) оттого, что страшился не только смерти, но и самой жизни, и тешил себя надеждой, что монашество – легкая работа и к тому же укрытие от мирских тягот, которых он страшился.
Так или иначе, в отношении легкой работы он ошибся. Монашеская жизнь оказалась отнюдь не легкой, но когда это обнаружилось, он испугался опять – испугался признать свою ошибку, испугался признаться даже себе, что погряз во лжи. И остался монахом, а по прошествии времени неведомо как (вероятно, по чистому стечению обстоятельств) заслужил репутацию монаха набожного и благочестивого и стал объектом полугордости-полузависти со стороны братьев-монахов, хотя кое-кто из них не брезговал подпустить в его адрес едкую, не приличествующую послушникам шпильку. Опять-таки непонятно почему, но с годами слух о нем ширился и достигал все большего числа людей – не потому, что он сделал нечто особенное (ибо, по правде говоря, делал он очень мало), а в силу идеи, которую он якобы отстаивал, в силу избранного им пути. Ныне, размышляя обо всем происшедшем, он спрашивал себя, не было ли тут недоразумения – его благочестивость проистекала не от набожности, как все почему-то думали, а попросту от страха и от намеренного самоуничижения, которое, в свою очередь, являлось следствием страха. Трусливая мышь, сказал он себе, провозглашенная святой мышью именно вследствие своей трусости.
И как ни парадоксально, он в конце концов стал Символом Веры в материалистическом мире, и некий писатель, взявший у него интервью, назвал его человеком Средневековья, уцелевшим до нынешних времен. Интервью было напечатано в журнале с большим тиражом и к тому же подготовлено человеком впечатлительным, не постеснявшимся ради пущего эффекта кое-что слегка приукрасить, – и образ, выписанный интервьюером, дал толчок к тому, что два-три последующих года вознесли его к славе: вот-де простой человек, у которого хватило душевного прозрения вернуться к основам веры и отстаивать ее от лихих наскоков гуманистической мысли.
Он мог бы стать настоятелем, подумалось не без внезапной гордости, а то и подняться еще выше. Ощутив приступ гордости, монах сделал усилие отогнать ее – усилие слабенькое, почти символическое. Ибо гордость, рассудил он ныне, гордость и запоздалая честность – вот и все, что от него осталось. Когда прежнего настоятеля призвал Господь, монаху дали понять разными непрямыми средствами, что он может стать преемником усопшего. Но он убоялся снова, на сей раз сана и связанной с ним ответственности, и слезно просил не трогать его, оставить в простенькой келье и с простенькими обетами. Поскольку монашеский орден весьма дорожил им, прошение было удовлетворено. Хотя ныне, проникнувшись честностью, он позволил себе подозрение, возникавшее и прежде, только он подавлял свое подозрение и не формулировал в открытую. А что, если прошение было удовлетворено не потому, что орден так уж дорожил им, а потому, что знал его подноготную и понимал, что настоятель из него получится никудышный? Более того: что, если само предложение было вынужденным – о нем много писали, его восхваляли выше некуда и тем самым поставили орден перед необходимостью хотя бы выступить с таким предложением? И что, если, едва он отказался от сана, по всему монастырю разнесся единодушный вздох облегчения?
Страх, страх, страх. Теперь-то он сознавал, что был затравлен страхом – если не перед смертью, то перед жизнью. А может, в конце-то концов страшиться было и нечего? Всю жизнь он стращал себя, – а может, не было предмета для страхов? Более чем вероятно, что в великий пожизненный страх его вогнала лишь собственная неполноценность и скудость разума.
«Я по-прежнему думаю как человек из плоти и крови, – уличил он себя, – а не как мозг вне тела. Плоть до сих пор цепляется за душу, и кости не истлели…»
А ученый между тем продолжал разглагольствовать.
«В особенности надлежит воздержаться от того, – поучал он, – чтобы автоматически расценивать недавнее проявление как имеющее мистическую или религиозную основу».
«Просто явление природы», – объявила светская дама, всегда расположенная к компромиссу.
«Мы должны твердо усвоить, – изрек ученый, – что во Вселенной нет простых явлений. Ни одно явление нельзя отбросить походя, без обдумывания. В любом происшествии есть определенный научный смысл. Есть вызвавшая его причина, и, можете быть уверены, со временем проявятся и следствия».
«Желал бы я, – сказал монах, – судить обо всем с такой же уверенностью в себе».
«А я желала бы, – объявила светская дама, – чтоб мы вообще не садились на этой планете. Нервотрепное местечко».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.