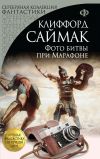Текст книги "Братство талисмана"

Автор книги: Клиффорд Саймак
Жанр: Героическая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 41 (всего у книги 71 страниц)
Глава 20
– Этот ваш Шекспир, – сказала Элейн, – был, по-видимому, философ, однако не слишком уверенный в себе. Лишенный серьезной подготовки.
– Он был человек одинокий, больной и испуганный, – ответил Хортон. – И записывал все подряд, что приходило на ум, не заботясь ни о логике, ни о слоге. Он писал для себя, не предполагая, что кто-нибудь когда-нибудь прочтет его каракули. Если бы такое пришло ему в голову, он, наверное, предпочел бы выражаться осмотрительнее.
– По крайней мере, он был честен сам с собой, – сказала Элейн. – Вот послушайте хотя бы:
«У каждого времени свой запах. Возможно, это самоуверенно с моей стороны, но я убежден, что прав. Состарившись, время пахнет кислым и затхлым, а запах юного времени в начале творения должен был быть сладким, пьянящим и неудержимым. Размышляю: что, если по мере того, как события следуют к неведомому нам концу, мы будем отравлены едкими запахами прежних времен, вполне подобно тому и с тем же финалом, как былая Земля была отравлена рвотой заводских труб и гноем ядовитых газов? А если и смерть самой Вселенной грядет в отравлении временем? Если запахи прежних времен сгустятся до того, что никакая жизнь не сможет существовать ни на одном из тел, составляющих космос, и, возможно, сама материя Вселенной обратится в злокачественную гниль? Если эта гниль так засорит физические процессы, действующие во Вселенной, что они попросту прекратятся и сменятся хаосом? Но если так, что принесет с собой хаос? Не обязательно конец Вселенной. Хаос сам по себе есть отрицание всей физики и всей химии и, допускаю, положит начало непредставимым комбинациям, отвергающим все предшествующие концепции, а потому способным привести к беспорядку и неточности, которые, в свой черед, сделают возможными события, по мнению нынешней науки, совершенно невероятные…»
А послушайте дальше:
«Возможно, некогда была такая ситуация – чуть не написал „было время“, но это привело бы к путанице в понятиях, – что до возникновения Вселенной не существовало ни времени, ни пространства, а соответственно, не существовало и координат той массы, которой предстояло взорваться, дабы положить начало Вселенной. Разумеется, разум человеческий не в силах представить себе ситуацию вне времени и пространства, хотя можно допустить, что и то и другое было потенциально заложено в космическом яйце, – а оно само по себе есть тайна, не поддающаяся воспроизведению в зрительных образах. И тем не менее интеллекту ведомо, что подобная ситуация действительно имела место, если только вся наша наука не заблуждается в корне. Однако закрадывается и сомнение: если не было ни времени, ни пространства, в какой же среде пребывало космическое яйцо?»
– Звучит дерзко, – высказался Никодимус, – но не содержит никакой информации, ничего, что было бы полезно узнать. Этот тип пишет так, будто живет в вакууме. Такую околесицу можно было сочинить где угодно. Он почти не упоминает эту планету, разве что мимоходом бесчестно смеется над Плотоядом.
– Он старается забыть об этой планете, – предположил Хортон, – старается уйти в себя и не обращать на нее внимания. В сущности, он пытается создать себе псевдомир, который принес бы ему нечто иное, чем постылая планета.
– По каким-то причинам, – продолжила Элейн, – его очень заботило загрязнение окружающей среды. Вот послушайте еще одно рассуждение на этот счет:
«Убежден, что появление разума ведет к нарушению экологического равновесия. Другими словами, разум – величайший загрязнитель природы. Как только существо начинает овладевать своим окружением, все ввергается в беспорядок. Пока этого не случилось, в природе действует система проверок и противовесов, логичная и эффективная в своей основе. Разум разрушает и видоизменяет эту систему, даже если усердно старается оставить ее в покое. Нет и не может быть разума, живущего в гармонии с биосферой. Пусть он полагает, что достиг гармонии, пусть хвалится этим, но интеллект дает ему преимущество над природой, и всегда есть соблазн использовать преимущество к собственной выгоде. Итак, разум может дать огромный выигрыш в борьбе за существование, однако выигрыш этот краткосрочен, и в конечном счете разум оборачивается не созидателем, а разрушителем».
Она пролистала страницы, бегло вглядываясь в записи, и сказала:
– Так забавно читать на старшем языке! Я была не вполне уверена, что смогу.
– Шекспир владел пером не самым лучшим образом, – заметил Хортон.
– Достаточно хорошо, чтоб его писанину можно было прочесть. Надо только чуть-чуть приноровиться. Слушайте, тут что-то диковинное. Он пишет про Божий час. Странное выражение…
– Однако довольно точное. По крайней мере, на этой планете такой час существует. Надо было сказать вам об этом раньше. Что-то нисходит с неба, хватает вас и раздевает душу донага. Нисходит на всех, кроме Никодимуса. Никодимус едва замечает Божий час. Похоже, что источник Божьего часа – вне пределов планеты. По словам Плотояда, Шекспир считал, что час приходит из какой-то точки дальнего космоса. А что пишет он сам?
– Очевидно, запись сделана на основании долгого опыта, – ответила Элейн. – Судите сами:
«Чувствую, что наконец-то научился я мириться с явлением, которое окрестил, за неимением лучшего определения, Божьим часом. Плотояд, бедняга, все еще негодует на Божий час и боится его, да и я, наверное, тоже боюсь. Однако к настоящему времени, испытывая его день за днем в течение многих лет и осознав, что от него не спрячешься и не убережешься, научился я принимать его как нечто неизбежное. В то же время обладает он свойством выводить человека за собственные пределы и выставлять перед лицом Вселенной, хотя, правду сказать, будь у меня выбор, вряд ли я или кто-либо другой пожелал бы выставляться подобным образом столь часто.
Беда, разумеется, в том, что в Божий час видишь и испытываешь слишком многое и бо́льшую часть – а если не лукавить, то все без исключения – не понимаешь и потом остаешься как был, удерживая в памяти лишь обрывки испытанного. И, ужасаясь, спрашиваешь себя: а если человеческий интеллект и не годен на большее, если он способен воспринять лишь самую малость из того, перед чем его обнажали? Подчас недоумевал я: не есть ли это преднамеренный обучающий механизм? Но если так, то обучение ведется сверх всякой меры и развернутые научные тексты предъявляются бестолковому студенту, не ведающему азов того, чему его пытаются учить, а потому бессильному даже смутно уловить принципы, необходимые хотя бы для зачаточного понимания предмета.
Истинно, возникало во мне недоумение, однако и оно не шло дальше первичного и зачаточного. А с течением времени все более и более склонялся я к выводу, что Божий час, как я воспринимаю его, не предназначен ни для меня, ни для кого бы то ни было из людей; Божий час, каков бы ни был его механизм, исходит от сущности, совершенно не ведающей о нашем человеческом бытии. Возможно, сущность сия задохнулась бы в космическом хохоте, узнай она о том, что во Вселенной обитает такая козявка, как я. И постепенно пришел я к убеждению, что меня просто задевает рикошетом, отдельными шальными дробинками, а выстрел нацелен в иную, более крупную дичь.
Однако и к данному убеждению пришел я не ранее, чем осознал со всей остротой, что источник Божьего часа каким-то образом и хотя бы мельком учуял меня, а потом непонятно как покопался в моей памяти и в душе, поскольку время от времени я стал обнажаться не перед космосом, а перед самим собой. Я обнажался перед прошлым и в течение некоего времени переживал вновь, пусть с известными искажениями, события прошлой жизни, почти неизменно неприятные до крайности, разные моменты, выхваченные из навоза моей души, где они лежали доселе глубоко захороненными, где я в стыде своем и раскаянии и держал бы их вечно. Но вот их выкопали и раскрыли передо мной, покуда я корчился, смущенный и оскорбленный при виде их, принужденный переживать заново те страницы жизни, какие я спрятал тщательно не только от взора других, но и от себя самого. И даже того хуже – не только события, но и фантазии определенного свойства, возникавшие исподволь в тайниках моей души. Я же и сам ужасался, когда сознавал, о чем фантазирую, – и все же, как ни извивался я, протестуя, их вытащили из моего подсознания и в безжалостном параде продемонстрировали мне сызнова. И не ведаю я, что хуже: раскрыться перед Вселенной или раскрыть собственные тайны перед самим собой.
И отдал я себе отчет, что Божий час каким-то образом учуял меня, – вероятно, не меня как личность, а искорку материи, мерзкой и отвратительной, – и отразил на меня свое раздражение, что такая мерзость живет на свете. Не удосужился он причинить мне вреда, не раздавил меня, как раздавил бы я насекомое, а попросту смахнул или попытался смахнуть в сторону. И как ни странно, приободрило меня это отчасти, ибо, если Божий час еле-еле ощутил меня, не угрожает мне от его лица никакая действительная опасность. И коль скоро уделяет он мне лишь мимолетное внимание, стало быть, нацеливается он на более крупную дичь. А единственно страшно в Божьем часе то, что дичь сия должна быть поблизости, на этой самой планете. И не просто на планете, а на данном участке планеты – она должна быть поистине очень близко от нас.
Вывернул я себе мозги в потугах сообразить, что это за дичь и обитает ли здесь она и поныне. Был ли Божий час нацелен на тех, кто населял заброшенный город, а если так, как могло случиться, что сила, ответственная за Божий час, не ведает, что они ушли? Чем больше думаю, тем явственнее убеждаюсь, что и люди города ни при чем, что Божий час нацелен на нечто пребывающее здесь и поныне. Осматриваюсь тщетно, что бы это могло быть, и не приближаюсь к ответу. Одержим я чувством, что гляжу на цель день за днем и не опознаю ее. Горестное это чувство и жуткое – размышлять подобным образом. Приходишь к тому, что глуп и невосприимчив, а по временам пугаешься, и отнюдь не шуточно. Если человек столь невосприимчив к реальности, так слеп по отношению к среде, так бесчувствен к повседневному окружению, тогда человечество и впрямь более немощно и неприспособленно, чем мы порою воображали».
Дойдя до конца записи, оставленной Шекспиром, Элейн подняла голову над страницей и спросила, смерив Хортона пристальным взглядом:
– Вы согласны с ним? Как вы реагируете на этот Божий час – так же или по-другому?
– Я пережил его пока только дважды. Итог моим впечатлениям можно выразить просто – полное замешательство.
– Шекспир уверяет, что от Божьего часа нет спасения. Что от него никак и нигде не спрячешься…
– А Плотояд прячется, – заметил Никодимус. – Залезает под крышу. Утверждает, что под крышей ощущение не столь скверное.
– Сами все поймете, осталось недолго ждать, – сказал Хортон. – Интуитивно я пришел к выводу, что пережить Божий час легче, если не пытаешься сопротивляться. А описать его невозможно. Надо испытать самому, чтобы понять.
Элейн рассмеялась, звонко и немного нервно, и сказала:
– Жду не дождусь…
Глава 21
Плотояд вернулся, тяжело ступая, за час до заката. Никодимус уже нарезал мясо и присел над костром, обжаривая бифштексы. Небрежным жестом он показал на самый толстый ломоть, который лежал отдельно на подстилке из листьев, сорванных с ближайшего дерева.
– Это для тебя. Тебе я выбрал самый вкусный кусок.
– Пропитание, – отозвался Плотояд, – есть то, в чем я испытываю нужду. Благодарю тебя от имени моего живота.
Без промедления он подхватил мясо щупальцами обеих рук и скрючился перед самой поленницей, где сидели Элейн и Хортон. Поднял кусок к рылу и решительно вонзился в него клыками. По щекам заструилась кровь. Увлеченно жуя, он поднял взгляд на двух сотоварищей по лагерю.
– Надеюсь всячески, что не раздражаю вас своей неопрятной едой, – произнес он. – Великий голод терзал меня. Возможно, долженствовало немного подождать.
– Ничуть, – ответила Элейн. – Валяй ешь. Наши тоже будут готовы спустя минуту-другую.
И все же она не могла отвести болезненно-восхищенных глаз от кровавого пиршества – кровь стекала не только по рылу, но и по щупальцам Плотояда.
– Любишь хорошее красное мясо? – поинтересовался он.
– Привыкаю помаленьку.
– Никто вас не заставляет, – сказал Хортон. – Никодимус может найти для вас что-нибудь еще.
– Когда путешествуешь по многим мирам, – покачала она головой, – встречаешь множество обычаев, странных на первый взгляд. Иные из них наносят удар по давним предрассудкам. Однако при моем образе жизни предрассудкам нет места. Надо сохранять беспристрастие и восприимчивость, надо заставлять себя быть непредубежденной.
– Именно поэтому вы заставляете себя есть мясо вместе с нами?
– Поначалу так оно и было. Да отчасти и сейчас еще так. Но я, пожалуй, могу развить в себе любовь к животной плоти без большой натуги. Ты уверен, – обратилась она к Никодимусу, – что моя порция будет хорошо прожарена?
– Уже прожарена, – заверил Никодимус. – Я начал жарить для вас гораздо раньше, чем для Картера.
– Много раз говорил мне мой старый друг Шекспир, – ввернул Плотояд, – что я совершенный неряха без всякого представления о приличиях, зато с грязными слюнявыми привычками. В опустошение, сказать вам правду, ввергает меня такая оценка, но слишком я стар, чтоб менять привычки, и ни при каких обстоятельствах не мог бы я стать завзятым денди. Если уж я неряха, то счастливый неряха, ибо неряшливость весьма уютна для того, кто ее исповедует.
– Ты неряха, спору нет, – откликнулся Хортон, – но, если это делает тебя счастливым, не обращай на нас внимания.
– Благодарен я вам за вашу доброту, – заявил Плотояд, – и рад, что не придется мне изменяться. Изменить себя мне трудно весьма. – Тут он, в свою очередь, повернулся к Никодимусу. – Ты уже почти исправил туннель?
– Не только не исправил, – ответил робот, – но почти пришел к убеждению, что исправить его нельзя.
– Ты имеешь в виду, что он не поддастся починке?
– Именно так, если только кого-нибудь не посетит какая-нибудь блестящая идея.
– Ну что ж, – заявил Плотояд, – хоть надежда всегда дрожит в печенках, я не удивлен. Длительно я гулял сегодня, беседуя с собой, и внушал себе, что слишком многого ожидать не приходится. Уговаривал я себя, что жизнь не обходилась со мной сурово и давала мне много счастливых минут, стало быть, с учетом этого не должен я угнетаться отдельными несчастливыми событиями. И искал я наедине с собой каких-то альтернативных путей. Сдается мне, что стоило бы испробовать магию. Ты говорил мне, Картер Хортон, что не доверяешь магии и не понимаешь ее. Ты и Шекспир – одно и то же. Потешался он над магией нещадно. Говорил, что нет от нее проку ни на грош. Но может, наша новая подруга не думает так жестоко?
Он умоляюще посмотрел на Элейн.
– Ты пробовал применять свою магию? – спросила она.
– Пробовать-то я пробовал, – ответил он, – но под презрительное улюлюканье Шекспира. Улюлюканье, понял я, лишает магию силы, ослабляет ее, вплоть до полной недееспособности.
– Не знаю, лишает ли силы, – сказала Элейн, – но уверена, что не доводит до добра.
Плотояд глубокомысленно кивнул.
– И спросил я себя: если магия откажет, если робот не справится, если окажется все ни к чему, что мне делать тогда? Остаться здесь, на планете? Я ответил себе, что нет, разумеется, нет. Разумеется, новые друзья найдут для меня местечко, когда отлетят отсюда в глубины пространства…
– Теперь ты решил напирать на нас, – посетовал Никодимус. – Валяй хнычь. Катайся по земле, сучи ногами, вой волком. Только все это ни к чему. Мы не можем ввести тебя в холодный сон, и…
– По крайней мере, – заявил Плотояд, – я среди друзей. И буду, пока не умру, среди друзей и далеко отсюда. Я не займу много места. Скорчусь где-нибудь в уголке. Умерю себя в еде. Не встряну у вас на пути. И буду держать свой рот на запоре.
– Вот будет праздник! – отозвался Никодимус.
– Решать Кораблю, – сказал Хортон. – Я потолкую с Кораблем насчет тебя. Но не могу обещать ничего определенного.
– Вы сознаете, – продолжал Плотояд, – что я есть воин. А воину пристойно умереть лишь одним образом – в кровавой схватке. Хотел бы я умереть именно так. Но возможно, такая смерть мне не выпала. Склоняю голову перед судьбой. Тем не менее не желаю умереть здесь, где некому свидетельствовать мою смерть, некому погоревать о бедном Плотояде, покинувшем сей мир. Не желаю влачить свои последние дни в ненавистной никчемности этой планеты, обойденной временем…
– Вот оно! – вдруг воскликнула Элейн. – Время! Как же я раньше не подумала!
Хортон удивленно взглянул на нее:
– Время? Что вы имеете в виду? При чем тут время?
– Куб, – сказала она. – Куб, найденный нами в городе. С существом. Этот куб – замороженное время.
– Замороженное время? – переспросил Никодимус. – Время нельзя заморозить. Можно заморозить людей, и пищу, и многое другое. А время не замораживают.
– Хорошо, – согласилась она, – остановленное время. Есть рассказы, легенды, что время можно остановить. Оно ведь течет. Движется. Остановить поток, застопорить движение. Ни прошлого, ни будущего, одно настоящее. Вечное настоящее. Настоящее, выхваченное из прошлого и продленное в будущее, которое для нас ныне стало настоящим.
– Ты просто как Шекспир, – пробурчал Плотояд. – Шекспир всегда извергал тарабарщину. Блям, блям, блям. Говорил вещи, лишенные смысла. Только чтоб послушать собственную речь.
– Ничего подобного, – настаивала Элейн. – Я говорю правду. На многих планетах рассказывают, что временем можно управлять, что существуют способы его контролировать. Правда, никто не может назвать никаких имен…
– Может, это умели строители туннелей?
– Никогда никаких имен. Только легенда, что это возможно.
– Но почему именно здесь? Зачем понадобилось замораживать во времени это существо?
– Быть может, чтоб оно дождалось чего-то. Быть может, наступит день, когда в нем возникнет нужда. Быть может, те, кто заморозил существо во времени, не знали точно, когда такая нужда возникнет.
– И оно ждало здесь века, – подхватил Хортон, – и будет ждать еще тысячелетия…
– Но вы не поняли! – ответила Элейн. – Века или тысячелетия – для него нет разницы. В замороженном состоянии оно не ощущает времени. Оно живет и продолжает жить в одной застывшей микросекунде…
И тут ударил Божий час.
Глава 22
В первое мгновение Хортона разбрызгало по Вселенной, и он испытал то же мучительное ощущение бесконечности, что и раньше, – но затем брызги собрались воедино, Вселенная сузилась, странные ощущения прекратились. Время и пространство вновь вступили в согласие, скрепились друг с другом, и он понял, где находится, хотя при этом его собственное «я» почему-то раздвоилось. Впрочем, раздвоенность не причиняла ему никаких неудобств и даже казалась вполне естественной.
Он сидел на корточках на теплой, черной и тучной земле меж двумя овощными грядками. Грядки убегали вдаль двумя зелеными линиями, разделенными полоской черноты. А слева и справа шли еще и еще зеленые линии, параллельные и бессчетные, с разделительными черными полосками, хоть эти полоски приходилось додумывать: зелень грядок сливалась, образуя сплошной темно-зеленый ковер.
Он сидел на корточках, и почва грела его босые подошвы. Глянув через плечо, он увидел позади себя, далеко-далеко, край зеленого ковра – тот упирался в здание такой высоты, что крыша терялась в пухлых белых облаках, пришпиленных к голубизне неба.
Он был маленьким мальчиком и собирал бобы, густо облепившие каждое растение на поле. Левой рукой раздвигал кустики, чтобы легче добраться до стручков, прячущихся в листве, а правой срывал стручки и бросал в корзину, стоящую перед ним на черном междурядье. Корзина была полна наполовину.
Но тут он приметил то, на что до сих пор не обращал внимания: впереди между грядок поджидали и другие корзины, расставленные примерно с равными интервалами. Кто-то заранее прикинул, на каком расстоянии корзина заполнится и понадобится новая. А позади него тоже были корзины, но уже полные доверху и готовые к погрузке в тележку, которая пройдет по междурядьям и подберет корзины с бобами, только она прибудет попозже.
И еще одно он осознал не сразу: на поле он был не один, было много других сборщиков, по большей части дети, но еще старики и старухи. Некоторые сборщики обогнали его – работали то ли быстрее, то ли менее тщательно, – другие поотстали.
Небо было испятнано облаками, ленивыми курчавыми облаками, но в данный момент они не прикрывали солнце, и оно палило свирепым теплом, прожигающим тоненькую рубашку. Он полз вдоль грядок, стараясь работать добросовестно, оставляя мелкие стручки висеть, чтоб дозрели через день-два, и срывая остальные, – а солнце жгло спину, пот сбегал от подмышек и щекотал ребра, зато ноги нежились в мягком тепле хорошо вспаханной, окультуренной земли. Мозг бездействовал, сосредоточившись на настоящем, не заглядывая ни в прошлое, ни в будущее, а довольствуясь настоящим, словно он был не мальчик, а тоже растение, поглощающее тепло и странным образом извлекающее пропитание из почвы, в точности как созревшие для сбора бобы.
И все-таки дело обстояло сложнее. На поле был мальчик лет девяти-десяти, а рядом или где-то невдалеке расположился нынешний Картер Хортон, отдельный и как будто невидимый, наблюдающий за мальчиком, каким он сам был когда-то, заново ощущающий и испытывающий то, что ощущал и испытывал тогда. Но знающий неизмеримо больше мальчика, знающий то, о чем мальчик и не догадывался, впитавший в себя годы и события, что пролегли между обширным бобовым полем и нынешней секундой в космосе, за тысячу световых лет от Земли. И, в частности, знающий недоступную мальчику истину, что взрослые мужчины и женщины в гигантском здании за полем и во множестве таких же зданий по всей Земле уже угадали приближение очередного кризиса и в тот самый момент искали, как его разрешить.
Ну не странно ли, размышлял Хортон нынешний, что даже по второму кругу человечество не поумнело – надо было дойти до кризиса, чтобы додуматься наконец, что единственный выход из тупика – перебраться на другие планеты, в другие гипотетические солнечные системы, и попробовать начать там все сначала. Пусть на каких-то планетах попытки потерпят крах, зато на других, не исключено, приведут к успеху.
Ведь менее чем за пять столетий до этого утра на бобовой делянке Земля уже пережила нечто подобное, обессилев не вследствие войн, а в результате развала экономики в мировых масштабах. Когда система, основанная на погоне за прибылью и частном предпринимательстве, развалилась по трещинам, которые стали заметны еще в начале двадцатого века, когда бо́льшая часть основных природных ресурсов исчерпала себя, когда население росло не по дням, а по часам, а заводы, не считаясь с этим, вырабатывали все больше сберегающих труд устройств, когда былой избыток пищи ушел в прошлое и земляне уже не могли прокормиться, – когда все это накопилось, грянули и последствия: голод, безработица, инфляция и потеря доверия к мировым лидерам. Правительство рухнуло, промышленность, связь и торговля заглохли, и на Земле воцарились анархия и хаос.
Затем из недр анархии вылупился новый образ жизни, рекомендованный не политиками, не государственными мужами, а учеными, экономистами и социологами. Но прошло всего несколько сот лет – и новое общество опять предъявило симптомы, пославшие ученых в лаборатории, а инженеров к чертежным столам с задачей сконструировать звездолеты, способные унести человечество в космос. Симптомы были прочитаны правильно, сказал себе второй, невидимый, Хортон, поскольку не далее как поутру (но в какой день? в этот же самый или в какой-то другой?) Элейн сообщила ему, что и тот образ жизни, который экономисты с социологами мастерили столь тщательно, рухнул необратимо.
Земля слишком тяжело больна, подумал он, слишком опозорена, истощена и отравлена прошлыми ошибками человечества. Выжить она просто не может.
Он вновь ощутил почву под босыми ногами и дуновение ветерка, что пронесся над полем и овеял пропотевшую, перегретую солнцем спину. Уронив в корзину горсть бобов, он передвинул ее немного вперед, переполз следом и потянулся к новому кустику. Кустикам, казалось, не будет конца. Корзина была почти полна, но уже совсем рядом его поджидала следующая, пустая.
Он начал уставать. Глянул на солнце и убедился, что до полудня остается еще час, если не больше. В полдень вдоль грядок покатит обеденная повозка, потом получасовой перерыв, а потом предстоит опять собирать бобы до самого заката. Вытянув правую ладошку перед собой, он принялся сгибать и разгибать пальцы, чтоб перестали хрустеть и чуть-чуть отдохнули. Ладошка и пальцы были перепачканы зеленью.
Он устал, ему было жарко, он уже проголодался, а впереди лежал еще весь долгий день. Но продолжать сбор бобов – это был его долг, как и долг сотен других сборщиков, самых малых и самых старых: каждый обязан делать то, что ему посильно, освобождая более умелых для иных, более важных, работ. Опершись понадежнее на пятки, он уставился на необъятный зеленый простор. Сейчас бобы, а позже пойдут другие овощи сообразно сезону, и весь урожай надо убрать в срок, чтоб жители башни могли прокормиться.
Прокормить жителей башни, подумал Хортон (второй, бестелесный, невидимый Хортон), прокормить свое племя, свой клан, свою общину. Свой народ. Наш народ. Один за всех, и все за одного. Башни для того и строили высокими, выше облаков, чтоб они занимали как можно меньше земли. Города торчали вертикальными карандашами, чтоб почва оставалась свободной и давала пищу, необходимую жителям башен-карандашей. А внутри башен люди жили в тесноте, потому что, как бы ни наращивать башни, они должны строиться экономно до предела.
Довольствуйся малым. Не расточай. Обходись без излишеств. Выращивай и собирай пищу, ползая на карачках, поскольку топлива совсем мало. Питайся углеводами, поскольку на их производство уходит меньше энергии, чем на производство белков. Строй и производи товары на длительный срок, а не потому, что прежние вышли из моды, – как только люди отказались от погони за прибылью, выбрасывать устаревшие вещи стало казаться преступным, да что там, просто смешным.
Когда промышленность развалилась, подумал он, мы начали выращивать пищу сами для себя, мы стали сами стирать белье для себя и для соседей. Главное – уцелеть, свести концы с концами! Мы вернулись к племенным обычаям, разве что предпочли примитивным хижинам здания-монолиты. В свое время мы насмехались над прежними временами, над участием в прибылях, над производственной этикой, над частным предпринимательством, но сколько бы мы ни насмехались, в нас по-прежнему живет хворь, присущая всему человечеству. Что бы мы ни затевали, сказал он себе, в нас живет хворь. Неужто человек органически не способен достичь гармонии со своим окружением? Неужто человечество, чтобы выжить, должно каждые несколько тысячелетий насиловать новые планеты? Мы что, навек обречены мигрировать, как стая саранчи, по Галактике, по всей Вселенной? И что, Галактика, космос обречены нас терпеть? Или настанет день, когда Вселенная поднимет бунт и сметет нас – не во гневе, а из раздражения? Да, в нас есть, подумал он еще, известное величие, но величие разрушительное и самовлюбленное. С тех пор как возник человеческий род, Земля вытерпела около двух миллионов лет, хотя по большей части эти годы не были столь разрушительными, как сейчас, – понадобилось время, чтоб наша разрушительность набрала полную силу. Но коли мы начали, как сейчас, осваиваться на других планетах, долгий ли срок нужен для размножения смертельного вируса, овладевшего человечеством, много ли надо, чтобы болезнь пошла в рост?
Мальчик в очередной раз раздвинул кустики и в очередной раз потянулся сорвать выглянувшие из кустиков бобы. Какой-то червяк, сидевший на листьях, а теперь потерявший опору, отвалился и плюхнулся вниз. Стукнувшись оземь, червяк свернулся шариком. Едва ли отдав себе отчет в том, что он делает, и не прерывая работы, мальчик шевельнул ногой, поднял ее и опустил, вдавливая червяка поглубже в почву.
Вдруг откуда-то поднялся серый туман, стирая бобовое поле да и здание-монолит, поднявшееся в небо на целую милю, и там вдали, посреди неба, укутанный в серый туман, появился череп Шекспира. Туман вился прихотливыми прядями, а череп взирал на Хортона сверху вниз – не глядел презрительно, не усмехался, а взирал почти общительно, словно оба они существовали во плоти, словно барьера смерти между ними не было вовсе.
К собственному удивлению, Хортон обратился к черепу:
– Что это значит, давний товарищ?
Обращение, что ни говори, было странным, поскольку Шекспир не был и не мог быть его товарищем. Если только в том смысле, что все люди – товарищи по несчастью, ибо все принадлежат к небывалой и устрашающей расе, размножившейся на одной планете, а затем не от смелости, а скорее от отчаяния ринувшейся в Галактику и забравшейся бог весть как далеко: ведь сегодня ни один человек не скажет точно, как далеко забрались остальные.
– Что это значит, давний товарищ?
И выбор слов был странен не в меньшей мере, поскольку Хортон знал, что в такой манере не говорил ни с кем и никогда, – словно он прибег к адаптации речи, какую использовал в своих пьесах тот, первоначальный Шекспир, и адаптация-то была дурацкой, достойной Матушки Гусыни[3]3
От имени Матушки Гусыни в Лондоне в 1760 году была издана одна из первых детских книжек.
[Закрыть]. Словно и сам он был уже не Картером Хортоном, а еще одной адаптацией в духе Матушки Гусыни, механически изрекающей истины, о каких он, человек, в свое время грезил. Он даже осерчал на себя за то, что изображал кого-то другого, – но как ни старался, найти себя прежнего больше не мог. Душа чересчур запуталась с этим мальчишкой, раздавившим червяка, и с внезапно заговорившим иссохшим черепом, и у него не осталось ни дороги, ни тропинки к самому себе.
– Что это значит, давний товарищ? – вопросил он. – Ты говоришь, что мы все заблудились, что мы затеряны. Где мы заблудились? Как? Почему? Докопался ли ты до истоков нашей затерянности? Она в наших генах или с нами что-то случилось? И только ли мы одни такие заблудшие или есть и другие такие же? А может, затерянность – врожденное свойство разума, любого разума?
И череп ответил, клацая костлявыми челюстями:
– Мы затеряны. Вот и все, что я сказал. Я не стал копаться в философских основах этой затерянности. Мы заблудились, потому что утратили Землю. Заблудились, потому что не знаем, где мы и куда идем. Потому что не можем найти дороги домой. Для нас не осталось места, где преклонить голову. Мы бредем диковинными дорогами по диковинным землям, и все, что попадается на пути, для нас лишено смысла. Когда-то мы знали какие-то ответы, потому что знали, какие задать вопросы, – теперь мы не можем найти ответ ни на один вопрос, ибо не знаем, что спрашивать. Когда другие, кто населяет Галактику, протягивают нам руку и пытаются вступить в контакт, мы не ведаем, что им сказать. Мы попали в положение безмозглых идиотов, лишившихся не только цели, но и здравого смысла. Там и тогда, на твоей замечательной бобовой делянке, тебе было всего-то десять, но у тебя было какое-то чувство цели и понимание, куда идти, а теперь у тебя не осталось ни того ни другого…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.