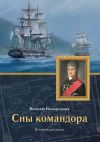Текст книги "Пионеры Русской Америки"
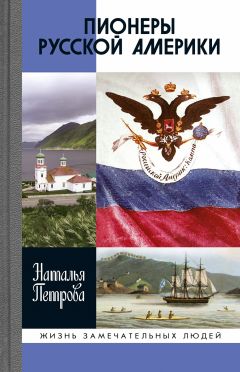
Автор книги: Наталья Петрова
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
Одними угрозами колоши не ограничились – они толпами собрались под стенами нижней крепости. Дело принимало нешуточный оборот. Хотя крепость и окружал частокол, но он был ненадежен: «Стена, ограждавшая церковь, адмиралтейство, казармы и магазины, состояла из толстого частокола, или тына, что было вполне достаточно против стрел или даже пуль диких, в случае их нападения; но, к несчастию, каменистая почва не дозволяла везде углублять тын в самую землю, а его вдалбливали в толстые брусья и поддерживали с обеих сторон боковыми подпорками». Достаточно было выдернуть подпорки, и частокол упал бы сам – через несколько лет колоши именно так и поступили.
Чтобы не подпускать нападавших близко, на верхнем укреплении держали наготове пушки. Но то ли артиллеристы сплоховали, то ли случилось что-то непредвиденное, только колоши вдруг оказались прямо под стенами.
Лазарев, как только увидел грозящую крепости опасность, немедленно начал действовать. К этому времени офицеры основательно исследовали и промерили глубины залива, проходы между мелкими островами, некоторые из проходов оказались настолько глубоки, что фрегат мог подойти прямо к крепости. Лазарев приказал поставить фрегат так, чтобы он мог продольным огнем обстрелять частокол. Колоши не обратили внимания на приготовления на корабле, а когда главный правитель через переводчика указал им на фрегат – было поздно. Один вид заряженных картечью орудий охладил воинственный пыл колошей и заставил выдать виновных. Впрочем, их вскоре отпустили, пригрозив в случае повторения подобных действий запретить ловить сельдь в заливе. На том всё и успокоилось.
Завалишин рассказывал, что со временем Лазарев даже разрешил вождям племен подняться на корабль. Колошей более всего заинтересовали две вещи: пушки и… тромбон, восхитивший их вовсе не величественным и трагичным звучанием, как можно подумать, а раздвижной трубой.
Эта самая труба приводила в восторг всех аборигенов Бразилии, Тасмании, Новой Зеландии; извлечение звуков с ее помощью представлялось им каким-то магическим действием, а сам музыкант – полубогом и, разумеется, важнейшим лицом на корабле. На Таити, едва шлюпка причаливала, тромбониста несли на берег на руках – единственного из всей команды.
«Крейсер» находился у берегов Русской Америки с сентября 1823 года по декабрь 1824-го, а Завалишин уехал в мае 1824 года. Офицеры промеряли глубины, уточняли карты, наблюдали за ремонтом фрегата, сверяли хронометры. Скучную, однообразную жизнь на берегу скрашивали соревнования по стрельбе из ружей между промышленниками и колошами. В свободное время охотились. Особенно любопытна была охота на колибри – пистолеты для этого заряжали песком. Завалишин обращает внимание: «В такой широте (57° сев.) может водиться колибри, доказательство умеренности в Ситхе климата».
Еще одним развлечением в Ситхе был театр – его устроил один из промысловиков. «В первом ряду были места, разумеется, для офицеров, на стульях, а “дамы” (жены приказчиков и пр.) сидели во втором ряду на скамейках; за ними помещалась уже остальная публика – стоя; музыка была, конечно, с фрегата». Пьесы для постановки выбирались веселые, например комическая опера «Со всем прибором сатана, или Сумбурщица жена». Порой после окончания спектакля дирижер объявлял: «Завтрашний день, по случаю отправления директора театра на работу, представления не будет». Офицеры от души веселились, слушая такие объявления, находили театр забавным и – вновь приходили на спектакли, потому как других развлечений там не было.
Когда заканчивался сезон лова сельди, между матросами фрегата и туземцами устраивались гонки на лодках. Моряки выходили в море на шлюпках, колоши – на батах, алеуты – на байдарках, мичманы судили соревнования.
«Колоши в наших колониях имели выдолбленные боты (баты. – Н. П.), не уступавшие в ходу лучшим гребным судам, даже вэль-ботам и гичкам английской постройки, а алеуты носились даже по океану в своих байдарках и ботах или кожаных байдарах».
Некоторые наблюдения Завалишина оказались интересными и, можно сказать, уникальными – например, описание редута Озерского в 1824 году. «Недалеко от Новоархангельска существует озеро, называемое Глубокое; это в миниатюре изображение Байкала, длиною верст тридцать и очень узкое». Почему озеро напомнило Завалишину Байкал? – И то и другое имеет вулканическое происхождение, и горячие ключи в окрестностях Глубокого – неоспоримое доказательство сходства. «Из этого озера вода стремится по утесам и каменьям водопадом в один из заливов океана, и на этих-то утесах и каменьях устроено, как бы висящее в воздухе, деревянное укрепление, составляющее так называемый редут». На фрегатском баркасе от Новоархангельска до редута нужно было пройти верст 25–30, потому что приходилось добираться кружным путем, по глубине. А Завалишин обыкновенно брал байдарку, чтобы плыть напрямик, и только в одном месте, на мелководье, приходилось ее перетаскивать; если же в заливе случалось волнение, байдарку перекатывало через песчаный перешеек.
Редут состоял из небольшого укрытия и водяной мельницы, на ней мололи купленное в Сан-Франциско зерно, и мичман ездил на мельницу следить за помолом. Начальником редута в 1824 году был Шмаков, мещанин из Томска, человек в тех краях легендарный. Когда Завалишин познакомился со Шмаковым, тому было уже 68 лет. В редуте висела картина, изображавшая один из многочисленных подвигов начальника – единоборство с медведем, из которого охотник вышел победителем, о чем и сообщала подпись под картиной.
Рассказывал Шмаков об этом невероятном поединке без тени хвастовства и обращал внимание слушателей исключительно на «бесчестность» медведя.
– А в чем бесчестность-то? – спрашивали заинтригованные слушатели.
– Нет чтоб на равных схватиться, крест на крест, а он, подлец, под силки хватает. Тулуп спас. Ну вот, стал он, значит, драть меня. А я ему как рявкну в глаза! Медведь, трус, хватку и ослабил. Тут уж я кулаком да в морду ему, в морду! Оба глаза вышиб, морду в кровь размозжил.
– И что же?
– Ну, он меня из лап-то и выпустил.
Дивились, хмыкали, смотрели на кряжистого мужика с могучими кулаками, без единого седого волоса на голове, с полным ртом крепких зубов и… верили.
Другой его подвиг имел и свидетелей, и вещественные доказательства. Однажды на редут напали несколько сотен колошей с винтовками, а в редуте всего 17 человек вместе с начальником. Но отсиделись, дождались подмоги. Шмаков с гордостью показывал всем многочисленные пули, засевшие в стенах укрепления, – доказательство осады.
А вот о том, как колоши едва не захватили его в плен, рассказывать не любил – стыдился. Между тем дело было так.
Однажды Шмаков, выйдя из леса на берег, случайно наткнулся на пятерых колошей. Те радостно закричали – мол, наконец-то ты нам попался, – на что он хладнокровно отвечал:
– Еще бы не попался! Я вас сам искал.
– Зачем ты нас искал? – удивились туземцы.
– А чтобы узнать, кто лучше стреляет – вы или я. Пойдемте в крепость, там уже и цель готова. Пусть стреляет лучший из вас. Если я проиграю – с меня две бутылки рома; проиграет ваш стрелок – мне бобра.
«Колоши насчет искусства в стрельбе очень самолюбивы, – отмечает Завалишин, – но к крепости не поехали, не желая упустить случая овладеть Шмаковым; но и отказаться от состязания было стыдно».
Посоветовавшись между собой, туземцы объявили:
– В крепость не пойдем. Здесь давай стрелять!
– Здесь так здесь, – отвечал Шмаков как можно равнодушнее. – Будь по-вашему. Только пусть сначала самый лучший из вас стреляет, а потом я.
– А во что целить?
– Вот хоть шапку мою на сук повесьте, – сказал он, снимая меховую шапку и показывая на далеко стоящее одинокое дерево.
Когда один из колошей отправился вешать шапку и отошел уже на достаточное расстояние, а другой начал целиться, Шмаков с усмешкой сказал остальным:
– Да крикните, чтоб шапку не держал. А то ваш стрелок еще в лоб его хватит.
Двое колошей пошли по направлению к дереву, чтобы товарищи лучше их расслышали. Шмаков только этого и ждал: мигом выхватил ружье у приготовившегося стрелять, повалил его, отпихнул другого и бросился к стоявшей неподалеку лодке. Оттолкнулся веслом от берега – и лодка понеслась по протокам между островами. Так и спасся.
Завалишин старался и в ссылке читать всё, что печаталось в журналах о Русской Америке, «бывшей некогда поприщем и целию моей самой напряженной деятельности», – писал он в 1849 году из Читы в Тобольск Ивану Пущину. Он внимательно следил за публикациями, перебирал в памяти события, чтобы вновь убедиться: его предложение присоединить Калифорнию было вполне жизненно. Более того, история подтвердила его правоту: в 1824 году у России шансов на это было больше, чем у США.
Узнав о смерти Петра Ивановича Полетики, бывшего посланника России в США, Завалишин припомнил когда-то произошедший между ними разговор.
– Все это совершенно справедливо, – услышав предостережения Завалишина о захвате Калифорнии США, сказал Полетика. – Впрочем… это не сбудется еще и через сто лет.
Завалишин не согласился – и двадцати лет может быть достаточно. Разговор происходил в 1825 году. «В 1846 г. Соед(иненные) Шт(аты) заняли окончательно Калифорнию, – писал он Пущину. – Итак, мы оба ошиблись – я одним годом, он целым почти веком!» Но видеть подтверждение своей прозорливости ему было горько. «Странно только, как мало справедливого во всем том, что пишут о этой стране», – сетовал он. И потому взялся за перо.
Вся жизнь Завалишина и в ссылке, и по возвращении была проникнута самыми разнообразными общественными заботами; недаром братья Бестужевы в шутку называли его «наш Пик-Мирандоль»[10]10
Джованни Пико делла Мирандола (1463–1494) – итальянский гуманист эпохи Возрождения.
[Закрыть] (и «l’omniscient[11]11
Всеведущий (фр.).
[Закрыть] Завалишин»).
Спустя годы он сохранил эти качества и всё так же поражал широтой своих интересов. Вот каким увидел его в 1860 году писатель-народник С. В. Максимов: «…среднего роста, сухой и подвижный старичок, судя по возрасту (уже тогда под 50 лет), по внешним приемам и по виду казавшийся нервным юношей. Только глубокие морщины на лице выдавали следы тяжело прожитого прошлого, и русый паричок не скрывал следов долгих лет, проведенных в неустанных умственных занятиях». При этом он сохранил не только стройность фигуры и военную выправку, но и юношеский интерес ко многим вещам: «…сельская жизнь одинаково увлекала его живую натуру, как и книги, и литературные занятия, посвященные на этот раз исключительно Амуру и судьбе выселенных туда забайкальских казаков». Завалишин по-сибирски приветливо принимал знакомых и незнакомых, угощал собственноручно выращенными огурцами, вишнями, дынями и арбузами, потчевал домашними сливками «поразительной густоты и аромата». Внимательно слушал собеседника и сам занимательно рассказывал о житье своих товарищей в Чите и Петровском Заводе. «…никто, идущий на Амур и обратно, не обходил оригинального и уютного домика». Конечно, от собеседника не ускользнула склонность Дмитрия Иринарховича к хвастовству, но «рядом с этим, и как заслоняющая ширма, выделяется его и полная отрешенность от всяких личных интересов как черта, ярко рисующая характер всей его деятельности и проходящая красной нитью через всю его жизнь».
Забвение личного ради служения – вот стержень характера неугомонного Завалишина, который привел его на край света, в Русскую Америку, чтобы попытаться присоединить Калифорнию к России. Все дальнейшие испытания стали тем оселком, на котором отточились лучшие черты характера этого мужественного человека.
Святитель Иннокентий (Вениаминов)
Апостол Аляски и Сибири
Как Попов стал Вениаминовым
Непросто понять в наш прагматичный век, когда ум сосредоточен на поисках удовольствий и комфорта, и наш внутренний человек, убаюканный достижениями технического прогресса, все чаще молчит: почему Вениаминов вдруг, в один момент, решился оставить устроенную жизнь на обжитом месте и отправиться в далекую Америку просвещать алеутов и тлинкитов? Но то, что для нас сегодня является загадкой, для него самого тайной вовсе не было. «От Господа исправляются человеку пути его и… все мы, служители Церкви Его, не что иное, как орудие в руках Его. Ему угодно было назначить мне поприще служения в Америке – и это исполнилось, несмотря даже на противление воли моей» – так объяснял он свое неожиданное и для него самого решение, которое тем не менее оказалось крепко связано с его сердечным желанием.
Когда имя архиепископа Иннокентия (Вениаминова), будущего митрополита Московского и Коломенского, стало известно всей России, его знакомый по Иркутской семинарии протоиерей Прокопий Громов написал и опубликовал в журнале биографию святителя. В ней он рассказал о необыкновенном мальчике, который в четыре года уже читал Апостол в пасхальную службу, затем окончил семинарию, стал священником и, увлеченный рассказами о неведомых землях, уехал на край света просвещать аборигенов.
Преосвященный Иннокентий прочитал свою биографию – и остался недоволен, но вовсе не потому, что автор допустил неточности. «Не на эти ошибки я хочу указать. Для одного этого не стоило бы и пера в руки брать. Кому, кроме моих родных, какая надобность знать – в тот или другой день я родился, в том или другом месяце помер отец мой? Но далее говорится, что я четырех лет на пятом читал уже Апостол за литургиею. Это слишком много сказано! Этого пропустить уже нельзя; иначе это может подать иным повод думать обо мне что-нибудь необычайное, или приравнивать меня Бог знает к кому! И потому я пройду всю статью, напечатанную в Духовной Беседе, поправляя оную, где нужно, и дополню ее некоторыми сведениями – во славу Божию».
Так благодаря публикации, которая совсем не порадовала архиерея своей очевидной лестью, появилась возможность узнать от него самого, что побудило его совершить миссионерский подвиг, хотя и рассказал он о своей жизни немного и с присущей ему скромностью.
«В метрических книгах, хранящихся в Иркутской духовной консистории, точно написано, что я родился 11 сентября (1797 года), – говорил святитель о своем рождении. – Но мне покойная мать моя сказывала, что я родился в день Андриана и Натальи…», то есть 26 августа (8 сентября по новому стилю). В семье пономаря Евсевия Ивановича Попова и его жены Феклы Саввишны новорожденный был седьмым. Нарекли мальчика именем Иоанн, в память преподобного Иоанна, патриарха Цареградского (VI век).
О первых годах жизни Вани Попова известно мало. Прошли они в селе Анга, что по-сибирски широко раскинулось на обоих берегах реки в 200 верстах к северу от Иркутска. Когда-то он описал свое детство и проделанный им путь из Иркутска в Америку, но в 1858 году во время пожара в Якутске его бумаги сгорели. Больше он к тем записям не возвращался, а в родном селе любил бывать, заезжал туда при первой возможности. И в 1840 году, когда принял постриг и возвращался из Петербурга в Америку уже Иннокентием, епископом Камчатским, Курильским и Алеутским, и когда по нескольку раз объезжал свою обширную епархию, – он непременно сворачивал с тракта, служил молебен в родной Ильинской церкви, заходил в свой старый дом, который с годами сгорбился, врос в землю, так что приходилось низко склонять голову под притолокой, будто кланяясь в пояс родителям, ушедшим в мир иной.
Он вспоминал, что грамоте действительно начал учиться рано – на пятом году жизни; но учил его не дядя, как написал автор биографии, а отец, который тогда тяжело болел и почти всё время проводил в постели. Осенью 1803 года Евсевий Иванович умер, не дожив до сорока шести лет и оставив вдову с четырьмя малолетними детьми без всяких средств. Чтобы не умереть с голоду, Фекла Саввишна отдала шестилетнего Ваню в дом его родного дяди по отцу – Димитрия Попова, который жил здесь же, в Анге.
Семья дяди за богатством не гналась, но хозяйство имела крепкое, дядя умел и плотничать, и столярничать, стоило переступить порог их дома, как сразу было видно мужскую руку и мужской догляд за всем. Он и Ваню стал приохочивать к инструменту.
Дядя служил дьяконом в Ильинской церкви и по вечерам начал обучать Ваню читать Псалтирь, затем Часовник. Вскоре мальчик действительно читал в церкви Апостол – на седьмом или восьмом году жизни, точно не помнит – зато хорошо запомнил, что было это в праздник Рождества Христова. Да и как такое забыть – ведь Апостол обычно читают за литургией взрослые, особенно в большие праздники, а здесь доверили мальчику. И потому он запомнил ту рождественскую службу на всю жизнь.
Обрадованная его успехами мать надеялась, что он станет пономарем в церкви, как отец, и семья получит подмогу. Она подала прошение – но получила отказ. Зато принять мальчика в Иркутскую семинарию епархиальное начальство согласилось. И пришлось Ване на девятом году жизни проститься с матушкой, братьями и сестрами и уехать из родного села в далекий и пугающий своей неизвестностью большой город.
Неблизкий путь из Анги в Иркутск пролегал мимо Качуга, где Лена круто поворачивала свое извилистое русло, будто указуя место для большого села в образовавшейся излучине реки, и где караваны купеческих подвод всегда делали остановку для отдыха. Ваня вместе со взрослыми напился чаю на постоялом дворе, поел напеченных матушкой шанег и пошел к реке.
Кругом было тихо, ни души, только наст скрипел под катанками. Буйная нравом Лена сейчас мирно спала, скованная льдом, и Ваня долго смотрел с высокого берега на ее заснеженное русло, что угадывалось лишь по прибрежным зарослям сухой замершей травы, и казалось, не одна Лена спит – белое безмолвие навсегда сковало все живое вокруг, весна забыла его родную Сибирь и возрождения не будет. По малости лет он еще не понимал, что его жизнь, как и река, тоже делала сейчас крутой поворот, он лишь остро чувствовал тоску по дому, вспоминал ласковые матушкины ладони, которые стискивали его на прощание.
Словно подслушав его безрадостные мысли, внезапно задул злой хиус, стал высекать из глаз невольные слезы, настырно забираться в длинные, не по Ваниному росту рукава отцовского зипуна. Что-то ждет его там, в далеком городе? Как примут в семинарии? Пойдет ли учеба? На память ему приходили рассказы о казаках – первопроходцах Сибири и Америки, кто дерзко и упрямо шел напролом, ночевал в снегу, сплавлялся по рекам, тонул в полыньях, вяз в болотах, но, несмотря на все преграды, все-таки вышел к Великому океану. «Помни: ты – сибиряк, – повторял дядя, – значит, выстоишь». И напоминал слова псалма: «Господь мне Помощник, и не убоюся, что сотворит мне человек». Вспомнил Ваня дядино напутствие – и незнакомый Иркутск представился не таким уж и страшным.
В те годы иркутская семинария располагалась на левом берегу Ангары, в Вознесенском мужском монастыре, где непременно старались побывать все, кто переваливал за Урал, – ехали и шли промышленные, купцы, отставные солдаты, странники-богомольцы. Основал монастырь в XVII веке известный своей благочестивой жизнью старец Герасим, и с тех пор паломники нескончаемой рекой притекали в обитель. Три храма, братский корпус, гостиница для паломников, семинария с большой библиотекой, хозяйственные постройки – все радовало глаз своей обихоженностью в монастыре. Но в XX столетии жизнь монастыря круто изменилась, он опустел, постройки начали хиреть и разрушаться. В единственном уцелевшем Успенском храме сейчас вновь идут службы, монастырь возрождается, но, к несчастью, здание семинарии уберечь не смогли – не так давно оно сгорело. И только старые лиственницы, сквозь воздушную крону которых сияет голубизной небо и по-сибирски бодрое солнце, еще помнят звонкие голоса мальчишек семинарии, среди которых раздавался и голос Вани Попова.
Учился Ваня в семинарии 11 лет. Изучал богословские науки и светские – историю, географию, словесность, языки – латынь и греческий, учился на «отлично», «прекрасно» и «превосходно» – такие оценки проставлены в его ведомости. А вот жилось ему без домашней поддержки трудно и голодно. «Чистого ржаного хлеба (без мякины) до выхода из семинарии не пробовал», – вспоминал Иннокентий. Заметим – ржаного, о пшеничном он, выросший без отца, и не помышлял. У кого из семинаристов был в семье достаток – тем помогали, а мать Вани сама еле концы с концами сводила, уж какая там помощь. Но, видно, сильна оказалась молитва Феклы Саввишны о сыне, раз выдержал Ваня первые, самые сложные, годы учебы, не сбился с пути, а вскоре у него появилась и поддержка – дядя Димитрий, овдовев, принял постриг и переехал в Иркутский Вознесенский монастырь.
Из окон семинарии Ангара видна далеко, и хотя она и крутит порой опасные воронки, но в городе течет приметно тихо, по-домашнему неспешно, будто оглядывая предместья: вот горделиво и осанисто выступают добротные, украшенные затейливыми узорами в тонком деревянном кружеве дома, с крепкими воротами на кованых петлях, из тех ворот выходят по утрам на базар с плетеными кошелками хозяйки, такие же дородные и осанистые, похожие на свои дома. А вот там прилепились неказистые, ссутулившиеся, стесняющиеся своей неприглядности домишки, как родной дом Вани в Анге, с подслеповатыми, вросшими по самую землю окнами, в которые и солнечный луч боится заглядывать.
По воскресным дням Ваня выходил с друзьями в город. Переправлялись на лодке на правый берег Ангары, шли по деревянным, весело поскрипывающим на разные голоса, словно в перекличке, мостовым, дивились на каменные дома, любовались церквями, возведенными богатыми иркутскими купцами, – Тихвинской, Знаменской, Благовещенской, нарядной Крестовоздвиженской и сохранившейся со времен деревянного Иркутского острога древней Спасской, Богоявленским собором на высоком обрывистом берегу.
Нагулявшись, шли на базар. Не покупать – посмотреть, за погляд, как известно, денег не берут. В рыбном ряду громоздились бочки с омулями и хариусами, рыбины яростно били хвостами, изгибали серебристые спины, норовя выскочить на волю. В другом ряду теснились кадушки с солеными груздями и хрусткой капустой, из третьего подмигивали разноцветными глазками ягоды – брусника, клюква, черника – так и хотелось запустить руку в берестяные туеса да попробовать, рядом – кедровые орехи, мед с пасеки, жирная бурятская сметана, в которой деревянная ложка стоит и не падает, а там – замороженное молоко на палочке, что само просится в рот. Ядреный дух конского навоза и рыбы смешивался с острым, кислым запахом овчинных тулупов, и приправленные крепким морозцем, сдобренные хвоей запахи били в нос, будоражили, глаза разбегались – не устоять! Как говорится, а страсти так и треплют, так и бьют по бокам. Вот потому в город семинаристов отпускали нечасто – слишком много соблазнов таил он в себе, и не каждый мог свои страсти одолеть, голодному, известно, хлеб и во сне видится.
Когда оканчивались классы в семинарии, Ваня отправлялся к дяде и пропадал у него в келье до вечерней службы. Дядя все так же столярничал и слесарничал, как и в Анге, но Ивану более, чем орудовать молотком и стамеской, нравилось разглядывать загадочный часовой механизм – там дело тонкое, оно мастерства, внимания да терпения требует. А дядя нет-нет да и напомнит – терпение ведет к смирению. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Вскоре Иван так приохотился к часовому делу, что дядиных уроков ему стало не хватать.
В это время в Иркутск приехал часовой мастер, чтобы сделать часы на городскую колокольню, поселили его недалеко от семинарии, и Ваня начал к нему захаживать. Сначала Клим учил вытачивать шестерни и колеса, потом Иван сам изготовил из подручных материалов водяные часы, которые каждый час ударяли в колокольчик, чем удивляли и веселили семинаристов. После окончания семинарии он уже и часы чинил, и механические органы с духовной музыкой делал для продажи – вот так бедность заставила Ивана Попова стать мастером на все руки. Это умение впоследствии пригодилось ему в миссионерской службе, а жизнь впроголодь научила переносить терпеливо, без ропота, нужду.
Он и в своих детях старался воспитывать терпение и смирение. Когда его сын Гавриил, став священником, прислал отцу письмо с просьбой выслать денег, тот ответил: «Ты просишь у меня денег. Я бы дал тебе охотно, но гораздо будет лучше, если ты потерпишь нужду. Кто не испытал нужду, тот не может верить нуждающимся и тот худой хозяин, а худой хозяин – худой пастырь…» И денег не выслал. А когда его дочь потеряла первенца, он, плача о своем внуке, писал ее сестре: «Ежели везде будет счастье, то как раз забудешь и Бога и возмечтаешь, что ты необходимо нужный человек».
Одновременно с Ваней в семинарии учились несколько Поповых, и чтобы их как-то различать, к фамилии прибавляли название места, откуда они родом. Так, Ваню называли Попов – Ангинский, другого Ивана Попова – Тункинский. Но случалось, семинаристы-однофамильцы получали и новые фамилии, как они сами шутили, «по церквам, по цветам, по камням, по скотам, и яко восхощет его преосвященство». Из семинарий выходили Борисоглебские и Космодемьянские, Тюльпановы и Туберозовы, Бриллиантовы и Жемчужниковы, Смарагдовы и Яхонтовы. Одинаковые фамилии иногда переводили на греческий или латынь, и тогда Соловьев становился Аэдоницким, Зайцев – Лаговским. Нерадивых нарекали Фараоновыми и Лентовскими (от лат. лентус – медлительный) или как Попова-Тункинского, любившего заложить за воротник, – Дулькамаровым («сладко-горьким»).
Добрых нравом и прилежных в учении нарекали Добролюбовыми, Правдолюбовыми, Усердовыми и Добронравовыми, а кого-то и Фортунатовыми (от лат. фортуна – удача). И Ваня тоже мог получить такую благозвучную фамилию – по отзывам преподавателей он показывал хорошие способности, однако его преосвященство «восхотело» наградить ученика иначе.
В ту пору епископом Иркутским и Нерчинским был Вениамин (Багрянский), известный своей миссионерской деятельностью. В свое время он рукоположил во епископа Кадьякского Иоасафа (Болотова) и активно выступал за прославление святителя Иннокентия Иркутского (Кульчицкого). В 1814 году епископ скончался, и ректор решил наградить прилежного ученика Попова фамилий Вениаминов – в память о почившем епископе. Выбор был, конечно, не случайным – можно сказать, его путь к миссионерству начался с перемены фамилии. Впоследствии новая фамилия сохранилась как единственная, с нею он и был прославлен в 1977 году в лике святых.
Пока Иван учился в семинарии, матушка Фекла Саввишна не оставляла попыток устроить его пономарем на место отца, подавала прошение за прошением – и отказ следовал за отказом. Отчего? – Ведь в те годы в Иркутской епархии остро не хватало и духовенства, и церковнослужителей. Остается только плечами пожать на такую несообразность, но Иннокентий увидел в этом промысел: «потому, что мне суждено служить не на месте моей родины, а в Америке».
Ректор семинарии обратил внимание на Ивана Попова – Вениаминова и рекомендовал для поступления в Духовную академию в Санкт-Петербурге, их было всего двое из выпуска, кто должен был поехать в столицу. Учиться в академии было перспективно: выпускник мог рассчитывать на самые высокие ступени церковной иерархии. Однако двадцатилетний семинарист мечтал о другом – он решил жениться и в марте 1817 году подал прошение на имя епископа о вступлении в брак с дочерью священника Екатериной Ивановной Шариной. Ректор своего согласия, конечно, строптивому семинаристу не дал бы. Но получилось иначе.
К тому времени семинария переехала в новое здание на правом берегу Ангары, а ректор остался жить в монастыре и каждый день, отправляясь в семинарию, переправлялся через реку. «Река Ангара… в тот год (1817), при вскрытии своем, на многие дни прекратила всякое сообщение монастыря с городом, – вспоминал Вениаминов. – Лед на ней сначала прошел было почти совсем, а потом опять остановился на несколько дней и так плотно, что известный тогда в Иркутске монастырский послушник Иванушко перешел чрез него с одного берега на другой».
Ректор – не послушник, по льду переходить с одного берега на другой не будет. И оказался он надолго отрезанным от города, чем и воспользовался Попов-Вениаминов. Когда лед сошел, семинарист был уже женат. «Не будь этого случая – тогда, конечно, ректор не позволил бы подавать мне просьбы о женитьбе. И тогда мне пришлось бы ехать в академию, а не в Америку». Вот так, не по его воле, а по промыслу, строилась лестница, по которой, ступенька за ступенькой, ему предстояло дошагать до неведомой земли на краю света.
По окончании семинарии он был рукоположен во диакона и назначен служить в Благовещенской церкви и в приходском училище учителем 1-го класса. А вскоре, в мае 1821 года, его рукоположили во священника.
Благовещенская церковь и ее прихожане
Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы располагалась на углу Большой и Благовещенской улиц (ныне Карла Маркса и Володарского), в центре Иркутска, и была построена в 1758 году на средства знаменитого иркутского купца Ивана Бечевина. Он прославился тем, что выстроил три храма в Иркутске и снарядил за свой счет экспедицию для изучения «полуденных и северных стран». Бот «Святой Гавриил» ушел к Алеутским островам, где энтузиасты исследовали и описывали новые земли, открыли остров Унга – самый большой из островов Шумагина, и, наконец, достигли Аляски.
Матерая Америка влекла купцов и промысловиков не одной корыстью и торговой выгодой, она тянула к себе не знавших крепостной тягости сибиряков, как всякая новая и еще неизведанная земля, не давала им спать спокойно, пока оставались неоткрытыми и неизученными реки, горы, острова и проливы, неувиденными племена, живущие на островах и в глубине материка.
Благовещенский храм, где отец Иоанн начинал свое служение, до наших дней не сохранился, и не ветхость была тому причиной – иркутские купцы строили надежно и основательно, ему бы еще стоять и стоять не одно десятилетие. Но в 30-е годы XX века по распоряжению властей храм разобрали, чтобы на его месте выстроить жилой дом. Будто предвидя печальную судьбу своего первого храма и желая сохранить память о нем, Вениаминов, став архиепископом, заложил в 1858 году вместе с генерал-губернатором Николаем Муравьевым на Амуре собор во имя Благовещения, который со временем дал имя городу Благовещенску.
Приход у молодого священника был самый что ни на есть сибирский: на службы чинно шествовали со своими семействами и становились у самой солеи разбогатевшие на торговле чаем и пушниной купцы, поодаль занимал места городской люд победнее и попроще, среди них мелькали лица крещеных бурят и алеутов, а в притворе переминались отбывшие каторгу и оставшиеся в Сибири политические и уголовники, – словом, как на ковчеге: «каждой твари по паре». Особенно много было в приходе промысловиков из Российско-американской компании, они возвращались с Алеутских островов, Аляски, из Калифорнии и оседали в Иркутске.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.