Текст книги "Московские тайны: дворцы, усадьбы, судьбы"
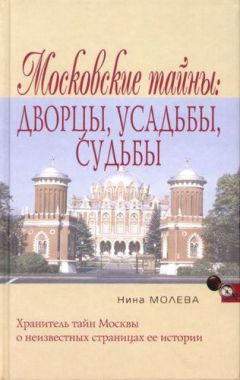
Автор книги: Нина Молева
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
Если расшифровать эти туманные пояснения, генерал Черняев хотел, чтобы никакие политические и межгосударственные разборки не сказывались на жизни простых людей. Или вернее – как можно меньше сказывались. И чувствовал себя за это в ответе. Как русский офицер. Как русский. Как человек.
Национальные колонии
Колония скандинавов насчитывала в Москве 267 человек, принадлежавших к наиболее состоятельным кругам общества и потому не считавших необходимым заботиться о благосостоянии своих земляков. Зато при их поддержке создается Общество любителей скандинавской литературы имени Генрика Ибсена. Его целью было изучение литературы скандинавских стран в подлинниках, почему организаторы финансировали открытие школ и курсов шведского, норвежского, финского, датского и древнескандинавского языков. В арендуемом ими помещении в Большом Чудовом переулке устраивались литературно-музыкальные вечера, концерты, чтения, лекции, а также литературно-научные собрания, становившиеся практикумом одного из языков.

Почтальон. Типы Москвы начала XX в.
148 москвичей-сербов имеют собственное общество «Невесинье» – память об их Куликовом поле, располагавшееся в Сербском подворье на Солянке. Их, как и всех западных славян, деятельно поддерживают два московских общества – Славянское вспомогательное и Славянской культуры. Первое, во главе с известным врачом Николаем Степановичем Спасокукоцким, добивалось «духовно-культурного сближения со славянами и материальной их поддержки». Во главе второго стоял Федор Евгеньевич Корш, особенное внимание уделявший культурно-литературным связям с соплеменниками.
Число чехов было значительно большим: оно достигала 600 человек. В Москве, на Кузнецком мосту, 16, существовал Чешский комитет и имени Яна Гуса Русско-чешское общество, едва ли не первым открывшее практику нашей нынешней туристики. Общество Гуса знакомило русскую публику с культурной, экономической и политической жизнью чешского народа, но и оказывало всяческую помощь русским в путешествиях по Чехии. Вместе с тем приезжавшие в Россию чехи получали возможность познакомиться с Россией во всех областях и могли рассчитывать на юридическую поддержку.
Одна из самых многочисленных, французская колония, насчитывавшая до 3 тысяч человек, основывалась на мощной материальной поддержке из поколения в поколение работавших в Москве французских фабрикантов. С 1829 года существовало французское благотворительное общество, возглавлявшееся в начале XX века П. Жиро и А. Брокаром. В руководстве Французским обществом взаимного вспомоществования присутствуют имена Ш.-А. Сиу, Ю. П. Гужона и многих других, в том числе руководителей русских банков.
Общество имело Французский детский приют, помещавшийся в Доме французского правительства в Милютинском переулке, в который принимались дети живущих в России французских граждан, но и – по специальному ходатайству Московской управы – дети любых национальностей, хотя и за большую плату. Приют имел места для постоянно живущих и приходящих детей. Располагало Общество и двумя собственными средними учебными заведениями, приравненными в правах к русским государственным гимназиям. Это было реальное училище Св. Филиппа Нерийского, куда принимались ученики всех национальностей и вероисповеданий и женская французская гимназия Св. Екатерины.
Политика изоляционизма исключалась не административными мерами со стороны правящей администрации Москвы, скорее ясной перспективой будущего образования и возможности службы питомцев. Французские школы отличались блестящей постановкой преподавания безукоризненного французского языка, необходимого, в частности, для дипломатов, итальянского и естественных наук, так что многие выпускники приобретали впоследствии профессии врачей. Они заранее ориентировали себя на работу в России и даже собственно в Москве из-за отличной лабораторной базы, которой обладали исследовательские московские учреждения, и очень высоких заработков, намного превосходивших европейский уровень. Если же прибавить к этому, что Москва на рубеже XX века оставалась самой дешевой столицей Европы, при том что по численности населения она занимала девятое место в мире и второе в России, выбор был понятен.
Руководителем обеих французских школ был кюре церкви Св. Людовика, но в их стенах давали уроки учителя всех конфессий, начиная с православного священника. В Москве не ставилось никаких препон для деятельности Евангелического попечительства о бедных женщинах и детях. Попечительства о бедных евангелического вероисповедания (находившегося под покровительством великой княгини Марии Павловны) и располагавшего большим фондом для выдачи пособий и Евангелической богадельней на полтораста мест (Благотворительному обществу вспомоществования бедным римско-католического исповедания) с большим детским приютом на Большой Богородской улице в селе Богородском, Итальянскому благотворительному обществу, которое возглавлял генеральный консул Италии и банкир М. М. Ломбарде, Швейцарскому благотворительному обществу, специально опекавшему приезжавших в Россию на работу многочисленных нянь и гувернанток). Для их удобства, на время смены хозяев, была устроена гостиница-пансион с бюро труда, которое подыскивало соответствующие места.
Едва ли не самой деятельной была группа живших в Москве литовцев и латышей, в общей сложности насчитывавшая чуть больше 1400 человек. Московское латышское общество возникает в 1895 году. К своей цели – «заботиться о духовном развитии и материальном благополучии членов, доставлять им приятное и полезное времяпрепровождение, а в случае необходимости и пособия» – Общество идет достаточно сложными путями. Его члены и их семьи могли рассчитывать на низкопроцентные или вообще беспроцентные ссуды, единовременные, периодические или пожизненные пособия в связи с семейными обстоятельствами, особенно в случае болезни и смерти. Входившие в Общество латыши пользовались удешевленными или бесплатными медицинскими и юридическими советами, получали в аптеках лекарства по сниженным ценам, как и продукты в специальных магазинах. От городской думы Общество получило право по мере надобности открывать собственные амбулатории, больницы, приюты, школы с преподаванием на родном языке, детские сады, летние колонии, столовые, потребительские лавки и ссудо-сберегательные кассы.
Латышское общество славилось превосходными концертами, спектаклями, лекциями ученых. Москвичи не упускали возможности поиграть у латышей на бильярде и посетить единственный в городе кегельбан. Для вступления в Общество национальность значения не имела, но весь круг преимуществ распространялся только на латышей. Латышским был и принадлежавший Обществу библиотечный фонд.
По сравнению с Латышским Литовское вспомогательное общество сосредоточивалось на решении сугубо материальных и житейских проблем. Это была аналогичная система ссуд, медицинских и юридических советов, но к тому же забота о призрении, воспитании и образовании осиротевших детей о погребении умерших членов. Литовское общество брало на себя заботу о младших братьях и сестрах умерших соотечественников, их престарелых родителях. Большой раздел его деятельности составляло приискание работы – так называемый рекомендательный отдел, библиотеки и культурного центра Общество не имело, несмотря на то, что в его правление входил замечательный русский и литовский поэт Серебряного века Юргис Балтрушайтис.
Самой большой колонией в Москве была немецкая – около 20 тысяч человек. Но собственного культурного центра немцы не создавали, настолько тесной была их связь с культурой русской. Немецкий язык преподавался в каждом учебном заведении, немецкие книги были представлены во всех, в том числе школьных, библиотеках. В Москве действовали лютеранские кирхи со школами при них. И снова московская особенность – в эти школы могли поступать и очень охотно поступали дожи всех национальностей и вероисповеданий, если родителей привлекала принятая здесь методика, совершенное изучение языка и низкие, сравнительно с русскими школами, цены за обучение.
Те две конфессии, которые сегодня ставятся рядом с православием, мусульманство и иудаизм, в предреволюционной Москве значения не имели. Первая, включавшая татар и башкир общей численностью около четырех тысяч человек, располагала только Мусульманским благотворительным обществом во главе с «бетонным торговцем» Хусейном Байбековым, без школ и культурного центра. Еврейская община имела около пяти тысяч членов. В зависимости от нее находились Московское общество пособия бедным евреям и Московское еврейское благотворительное общество «Знание». «Знание» объединяло еврейскую интеллигенцию, стремившуюся способствовать общему и профессиональному образованию «беднейших еврейских детей» в Москве, оплачивая право обучения, выдавая одежду, денежные субсидии, посредничая в приискании подросткам рабочих мест.
Напротив Московское общество пособия бедным евреям объединяло денежных и промышленных тузов, начиная с мультимиллионера В. Полякова, одного из руководителей Общества богатырей Ярославско-Костромского земельного банка. Кроме того, в Москве существовало еще Общество взаимопомощи рода Поляковых и Общество врачей-евреев Москвы и Московской губернии, преследовавшее как благотворительные, так и профессионально-информативные цели.
Суммируя положение в Москве предреволюционной с ее многонациональным населением, можно сказать, что руководство города никогда не прибегало к тем идеологическим рычагам воздействия, которыми так судорожно манипулировали руководители коммунистические. И, пожалуй, точнее всего об этом сказал в одном из выступлений в Городской думе бессменный сословный старшина присяжный поверенный: Василий Егорович Гринев: «Грешно и бессмысленно мешать человеку обращаться к родительским корням. Когда он удовлетворит натурой самой заложенную тягу к ним, то с таким же пониманием будет смотреть и на соседей своих, как бы они от него ни разнились. Это как трава в поле: каждая былинка проклевывается от своего корешка, а там, глядишь, уже шумит в общем поле колосинок… сама собой любуется и другим должное отдает».
Романовка
Сколько раз можно встретить это название в материалах о Москве рубежа XIX–XX веков. О Романовке вспоминают Качалов и Шаляпин, Римский-Корсаков и Константин Коровин, Горький и Маяковский. Дом на углу Малой Бронной и Тверского бульвара под № 27.
В середине XVIII столетия земля на этом участке – за стеной белого города, в Бронной слободе, принадлежала полковнику Грушецкому, участнику присоединения к России Крыма. От Грушецкого он перешел в 1771 году к Голицыным, один из которых строит в 1770-х годах большой дом с двумя боковыми, выходившими к стене Белого города флигелями. Автором проекта был сам Матвей Казаков.
Почти сто лет казаковский ансамбль сохранялся без изменений, хотя его и пришлось восстанавливать после пожара 1812 года. Зато в 1880-х годах трехэтажные флигели были соединены между собой и надстроены, образовав вытянувшееся вдоль Тверского бульвара четырехэтажное здание, получившее по имени владельца название Романовка.
В Романовке размещались дешевые меблированные комнаты, которые облюбовали ученики Консерватории и достаточно удаленного Московского училища живописи, ваяния и зодчества.
Обстановка была скудной. Повсюду висевшие красные штофные занавески и портьеры дочерна затерты. Одинаковая мебель – круглый стол, несколько венских стульев, кровать, комод – делала все комнаты схожими. Тем легче было толпам студентов кочевать от одного хозяина к другому – двери в Романовке притворялись только на ночь.
Живет здесь в годы консерваторской учебы замечательный композитор симфонист В. С. Калинников, названный критиками «Кольцовым русской музыки». Остро нуждаясь, Калинников принужден был подрабатывать в оркестре театра «Парадиз» (ныне в здании размещается Театр имени Маяковского). Приезжая в столицу уже известным музыкантом, Калинников предпочитал останавливаться только в Романовке. Здесь он играет в 1895 году навестившему его С. И. Танееву свою приобретшую мировую известность Первую симфонию.
В конце 1880-х годов в Романовке возникает своеобразный музыкальный салон. У поселившегося в ее номерах известного музыкального деятеля С. Н. Кругликова собирается вся труппа Русской частной оперы С. И. Мамонтова. Часто бывают Римский-Корсаков, Константин Коровин и М. А. Врубель с женой, знаменитой певицей Забелой-Врубель, которую Римский-Корсаков считал непревзойденной исполнительницей своих произведений. Любит петь у Кругликова и Шаляпин. В непринужденной обстановке здесь происходили и первые репетиции опер для мамонтовского театра.
В те же годы к основному зданию, протянувшемуся по бульвару, пристраивается по Малой Бронной так называемая Романовская зала – для концертов и театральных представлений, которую сегодня занимает Театр на Малой Бронной. Именно здесь рождался Художественный театр. До появления у него собственного здания в Камергерском переулке труппа использовала Романовскую залу для репетиции. На одной из них 2 сентября 1900 года побывал Горький: «Я был на репетиции без костюмов и декораций, но ушел из Романовской залы совершенно очарованный и обрадованный до слез… Художественный театр – это также хорошо и значительно, как Третьяковская галерея, Василий Блаженный и все самое лучшее в Москве».
Еще через несколько лет в номерах Романовки впервые решится прочесть свои стихи Маяковский, тогда еще ученик Московского училища живописи. Встречаются здесь Велимир Хлебников, Давид Бурлюк, Крученых. Когда Маяковского спросят о впечатлениях тех дней, он ответит: «Что ж, как в Латинском квартале. Только теплее. Гораздо теплее».
Мать и дочь
Кто не знал ее братьев – знаменитых фабрикантов Морозовых?
Предпринимательская и благотворительная деятельность Саввы и Сергея Тимофеевичей оставила следы по всей Москве. Юлия Тимофеевна отличалась не меньшей деловитостью и размахом. И – все, что она предпринимала, она проводила в жизнь быстро и под собственным присмотром. В Москве смеялись, что утаить копейку от Юлии Тимофеевны было делом невозможным.
Город испытывал немалые трудности с так называемой чернорабочей больницей. Предназначенная для наименее обеспеченного населения, она располагалась в нескольких местах. Наиболее тяжелым было положение со Старо-Екатерининской больницей на 3-й Мещанской (ул. Щепкина, 61/2). Хотя в течение 1877–1881 годов на средства жертвователей удалось построить целый больничный городок, отмеченный даже медалью на Международной выставке в Брюсселе, его деревянные корпуса быстро ветшали и требовали постоянного ремонта. В мае 1907 года Юлия Тимофеевна берет на себя строительство каменного корпуса для хронических больных, выделив на него 50 тысяч рублей, не считая средств на необходимое медицинское оборудование. Для исполнения своего замысла Ю. Т. Крестовникова назначает городского архитектора А. И. Роопа и архитектора А. И. Германа. Одновременно она дает 10 тысяч на переоборудование родильного приюта.
Но работы по перестройке, которые ведет, помимо нее, сама больница, не устраивают Юлию Тимофеевну. В 1908 году она обращается к городскому голове с очередным заявлением: «Мать моя Мария Федоровна Морозова и брат мой Сергей Тимофеевич Морозов передали в мое распоряжение каждый соответственно средства на предмет постройки в Старо-Екатерининской больнице двух корпусов размерами приблизительно такими же, как построенный мною корпус. Первый для нервных больных в память Саввы Тимофеевича Морозова, а второй для родильного приюта его, Сергея Тимофеевича, имени, о чем настоящим заявлением довожу до вашего сведения и покорно прошу о принятии этих пожертвований городом и соответственных распоряжениях для возможности в ближайшее время приступить к работам. Корпуса эти я предпочитаю возвести в течение настоящего строительного периода с расчетом открыть их осенью 1908 года». Разрешение было получено и корпуса в задуманный срок возведены.
Живя, как и ее мать, в районе Покровского бульвара, Юлия Тимофеевна решает раз и навсегда покончить с беспокоившим их Хитровым рынком. В то время как Мария Федоровна Морозова попросту скупила и закрыла все печально знаменитые ночлежные дома, дочь взяла на себя обязательство построить за свой счет в районе Белорусского вокзала новый ночлежный дом на 800 мест. Дело упиралось в выделение участка под застройку, который немедленно и был предоставлен городом на Пресненском валу, 15. Не прошло и года, как огромное пятиэтажное здание, необходимым образом оборудованное, оказалось в распоряжении города. Морозовы избавились от тяготившего их соседства. Москва получила кров для тех, кто приезжал в нее в поисках работы.
Это было удивительное сочетание образованности и суеверий, религиозности и свободомыслия, романтизма и предельной деловитости, которое отличало супругу Тимофея Саввича Морозова – Марию Федоровну, урожденную Симонову. В своем 20-комнатном доме в Большом Трехсвятительском переулке она не пользовалась электричеством, считая его бесовской силой, и никогда не пользовалась ванной из боязни простуды. Купание заменяло ей протирание одеколоном. Чтение романов совмещалось у Марии Федоровны с богомольностью: зимний сад, который она предпочитала прогулкам под открытым небом, соседствовал в доме с молельной, где служили священники Рогожской старообрядческой общины. Все деловые и семейные вопросы решались М. Ф. Морозовой у себя дома, в специально отводимые для этой цели приемные часы. Благотворительность составляла непременную часть ее жизни, но осуществлялась под неусыпным контролем. Копейка, украденная на благотворительном поприще, представлялась Марии Федоровне самым худшим из преступлений: «У Бога украдена», – говаривала она.
Отдаленность от дел при жизни мужа не помешала Марии Федоровне сразу после его смерти взять все семейное дело в свои руки. По ее настоятельному совету Тимофей Саввич после известной стачки на Никольской ткацкой фабрике организовал акционерное общество, оказавшееся в руках клана тех же Морозовых. Чтобы по возможности ослабить неблагоприятное впечатление от стачки, она же убедила мужа пожертвовать большие средства на строительство здания гинекологической клиники на Девичьем поле. Сама же Мария Федоровна откроет в Москве Биржу труда и будет финансировать строительство Марфо-Мариинской общины сестер милосердия на Большой Ордынке. Она поддерживает дочь Юлию в ее благотворительных проектах и сыновей в их увлечении искусством. Савва Тимофеевич, как известно, помогал Художественному театру, Сергей Тимофеевич создал первый в России музей народных ремесел – Кустарный у Никитских ворот, позднее перенесенный в специально выстроенное здание в Леонтьевском переулке. «Деньгам умный ход давать нужно», – говаривала старая, как ее называли, Морозова.
Тополь на Большой Садовой
Потом приходит ночь, прошитая легкой порошей. С редкими шагами в подъезде. В заплетенном диким виноградом квадрате окна – снег. Фонарь. Укутанный замершими листьями тополь. Он не пожелтел этой осенью и еще пронзительно зеленеет под прозрачным и тонким наплывом льда.
Лев Федорович Жегин всегда говорит: «Лучший в Москве». Наверное, есть «самые», но этот – «лучший». Стоял во дворе дома отца, чью громкую фамилию – Шехтель – он отказался носить. По причине разных взглядов на искусство. Для знаменитого московского архитектора приходивший к сыну Вася Чекрыгин остался всего-навсего недоучившимся богомазом из Киевской живописной школы. Занятия в Московском училище живописи, ваяния и зодчества Федора Шехтеля также мало убеждали. Особенно когда дело касалось другого приятеля сына – Владимира Маяковского, в его бессменной самодельной черной блузе и с еще более невероятным ярко-желтым бантом. Блуза и бант так и остались на обложке первой книги стихов, которую в этом самом доме писал на светочувствительной бумаге Вася Чекрыгин. Иллюстрации и оформление Жегин и Чекрыгин делали вдвоем. Арбитром выступала занимавшаяся в студии Константина Федоровича Юона его сестра Вера Шехтель.
Летом семья выезжала на свою огромную кунцевскую дачу, но с первыми теплыми днями под московским тополем («лучшим!») появлялись садовая мебель и круглая скамья. Кроме молодежи, на ней никто не засиживался. Зато у всех было ощущение городского сада. Отсюда все вчетвером в первых днях апреля 1913 года направлялись в частную типографию на Садово-Каретной – Лев Федорович хранил в памяти дни, адреса, даже самого типографщика с лиловым носом и вытянутыми на коленях штанами.
Корректура была готова через месяц – Маяковский ознаменовал это событие тем, что коротко постригся. Лев Федорович смеялся: сестре очень не понравилось. Ему тоже – почудилась какая-то неприемлемая для него упорядоченность. События показали: длина волос ничего не означала. Триста экземпляров книги нашли своего читателя и критиков. Первым и самым восторженным оказался Корней Иванович Чуковский, с которым у Маяковского не нашлось времени и желания толком поговорить.
В том же мае Маяковский заходит на Большую Садовую, чтобы вместе отправиться на Большую Дмитровку на чествование Константина Бальмонта. Лев Федорович во всех мелочах помнил дорогу. Шли по Большой Садовой, свернули на Тверскую, перешли через Страстную площадь, мимо ворот монастыря, спустились по Большой Дмитровке почти до Столешникова…
Народу было немного. По преимуществу вьющиеся около литературы дамы. Жегин уверял – выступавший с разгромом юбиляра Маяковский был единственным, знавшим на память столько бальмонтовских стихов. «Знать, чтобы спорить; уметь, чтобы отрицать», – им так и не удалось вспомнить, откуда позаимствовали (или все-таки сами придумали?) свой любимый девиз. Маяковский и умел делать, и любил то, что считал несовременным. Но ему никогда не изменяло чувство сегодняшнего дня.
Летом в кунцевской мастерской брат и сестра Шехтели все записывали в висевшей на стене тетради в клетку: «Мое сегодняшнее мнение о моей сегодняшней живописи». Мнения не сходились. Их разнобой, непримиримость, страстность были поисками своего языка, адекватного понимания живописи, жизни и своего способа выражения этого понимания. Одно оставалось очевидным – ничьи приемы, средства, повторения иметь отношения к искусству не могли. Одна из записей Васи Чекрыгина: «В чем живописность? Я думаю, что живописность в самом реальном созерцании предмета и разложении его на холсте так, чтобы он как можно ярче передавал зрителю сущность изображаемого. Живописность в глубоком созерцании предмета».
Тополь на Большой Садовой казался таким же неохватным, как кунцевский дуб, под которым читались стихи и родилась строка трагедии «Владимир Маяковский» «гладьте сухих и черных кошек!». Друзья прикоснутся к его коре – «на счастье», направляясь в соседний Мамоновский переулок, где открывалось футуристическое кафе «Розовый фонарь». От слова «футуристическое» Лев Федорович чуть поеживался: «Как можно испаскудить смысл. Ругать художника за то, что он обращен в будущее».
Маяковскому не смогли помешать взять слово первым:
Через час отсюда в чистый переулок
Вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,
А я вам открыл столько стихов-шкатулок,
Я – бесценных слов мот и транжир.
Праздник не состоялся. О разразившемся скандале Лев Федорович вспоминал со смущенной и чуть озорной усмешкой. Он читал стихи очень тихо, очень отчетливо, не отводя глаз от окна, за которым стоял тот же тополь, постаревший на пятьдесят лет.
«Пока Федор Осипович (Лев Федорович никогда не говорил «отец») строил свой дворец, мы жили вон в этом доме». Дом – прямо за тополем, все в том же дворе, двухэтажный, со скульптурной мастерской на первом этаже и в подвале. Мастерская появилась позже? – Нет, тогда же – ее занимал работавший с Федором Осиповичем лепщик. Единственным украшением были печи. Кафельные. Цветные. Артели «Мурава». Потом мастерскую передали скульптору. Великому. Который делал ручки для саркофага Ленина. Яковлеву».
Это уже в 1950-х арендаторы из Художественного фонда собьют плитку, воспроизводившую ценнейшие образцы XVII века: лев, Феникс, птица Сирин, удивительное смешение, зелено-голубых и желто-розовых тонов. Осколки удастся собрать, чтобы подарить Льву Федоровичу. Те, на которых еще что-то можно было угадать из утраченного узора.
Вряд ли они были уместны в тесной комнатке коммуналки на Зубовском бульваре, где столько лет жил Жегин со своей женой, Зинаидой Тихоновной Зоновой, давней сотрудницей Третьяковской галереи. Но Лев Федорович аккуратно положил их на единственный шкаф, за которым хранились рисунки Чекрыгина – все наследие умершего художника. Если бы не детская дружба с Маяковским и, значит, дорога в музей поэта, эти листы были бы обречены на гибель. Наследников Лев Федорович не имел. Единственный сын Ванечка утонул во время студенческого похода в одной из сибирских рек.
Наверно, это было духом времени, его портретной чертой: они не умели заботиться о своем быте. Метаморфозы истории их ничему не учили, разве что перехватывали дыхание стремительностью перемен. В двадцать лет, сразу после Октябрьской революции, Вася Чекрыгин – член Комиссии по охране художественных ценностей Москвы. В двадцать один – двадцать три года работает над оформлением революционных торжеств в Киеве и Москве и спектаклей Центрального детского театра. В двадцать пять он организатор и учредитель общества «Маковец» с его девизом «Искусство – жизнь». В те же двадцать пять он уйдет из жизни. Ни собственного дома. Ни мастерской. Ни работ в музеях.
Через восемь лет бюро фракции ВКП(б) художественных объединений АХРР, ОМАРХ и ОХС посмертно отнесет Чекрыгина к буржуазным группировкам: «Отражая идеологию враждебных пролетариату классов новой, нэпмановской буржуазии, расцвет букет обществ, начиная от мистического «Маковца», формалистических «4 искусств» до натуралистов – «репинцев», «реалистов», «куинджистов», «Бубнового валета»… Понадобится сорок лет, чтобы на выставке «Москва – Париж» работы Чекрыгина заняли достойное место, и в том числе обложка с желтым бантом, которую он придумал на Садовой.
Лев Федорович показывал чекрыгинские рисунки, ни слова не говоря о себе самом. Для него, соавтора обложки стихов Маяковского, не нашлось места среди биографических справок каталога той же выставки. На это существовало свое оправдание. Причастность к футуризму плотно закрывала двери всех издательств и выставкомов – безоговорочней, чем принадлежность к числу репрессированных. Идти на компромиссы Жегин не умел. Как с фамилией отца. Последней работой, которую он читал у себя на Зубовском бульваре и в квартире Э. Белютина на Большой Садовой, был труд об обратной перспективе в древнерусской иконописи – характерной еще для 20-х годов приверженности к теории. Художник способен работать по наитию, но непременно должен разобраться, чем такое наитие вызвано. Он по-своему высказал общую с Маяковским мысль: «Выбирая какой-нибудь факт из области красоты, история искусства интересуется не техническим способом его выполнения, а общественными течениями, вызвавшими необходимость его появления, и тем переворотом, который вызывается данным фактом в психологии масс». Художнику жизненно необходимо быт сопричастным ко всем происходящим общечеловеческим процессам.
…В провале ворот соседнего дома мертвый отблеск стекол повисшей между этажами огромной мастерской. Наверное, не такой уж и огромный, скорее значительной – по тем, кого она когда-то принимала в своих стенах. Квартира П. П. Кончаловского, куда приезжал и время от времени жил и работал Василий Иванович Суриков. Канун Первой мировой войны. Последние отпущенные ему судьбой годы. От больших холстов, многофигурных композиций он отошел, писал портреты. Особенно следил за новым искусством. Из письма в Париж пианистке и ритмической танцовщице Наталье Флоровне Тиан: «Ходите ли в Люксембургский дворец? Какие там дивные вещи из нового искусства! Мане, Дега, Писсаро и другие многие». Навязчивой даме-ценительнице, из тех, кто отравляет своим присутствием все вернисажи и существует ПРИ искусстве: «Откуда у вас право ругать Сезанна? Я работаю по тому же методу, но у меня не хватает решимости вовремя остановиться, выразив суть вещей, – слишком разрабатываю. Результат – потеря для искусства». Это слова, записанные Максимилианом Волошиным.
Старый плотник, мастеривший подрамники для Кончаловского, при случае не устает повторять, как Петр Петрович перенял – сам говорил! – повадку тестя: проверял уголки, непременно водил пальцем по краям, на которые подворачивался холст, – не остры ли. Щелкал по дереву – должно быть сухим, звонким, даже простая деревянная обкладка, которой обивались холсты, имела свою давнюю историю. Наверное, для других профессий такие мелочи могли потерять былое значение. Но изобразительное искусство, если относиться к нему по-настоящему, должно сохранить и ремесленное, и цеховое начало. Напору и неграмотности заказчиков противостояло чувство ответственности за профессию мастера, который знал, что и как следует делать, и никогда бы не поступился собственной совестью. Профессиональной. В России – это значило гражданской. В первую очередь.
В русской живописи существовала всегда редкая щепетильность в материальных вопросах. Суриков брал за свои картины, лучшие, единственные в истории нашего искусства, по пяти тысяч (салонные пейзажи и уж особенно парадные портреты могли стоить по тридцати) – не потому, что больше не удавалось выторговать. Ему самому больше не нужно было, чтобы скромно (очень скромно!) прожить с семьей те два следующих года, за которые рассчитывал написать очередной холст. Вот так – от звонка до звонка, и ничего лишнего. «Суровая жизнь», – откликнется Репин, побывав в суриковских квартирах, тесных, темноватых, слабо протопленных.
И еще, кроме Сурикова, в том же доме Георгий Богданович Якулов. Его мастерская, где встретятся Есенин и Айседора Дункан. Один из авторов манифеста футуристов, превосходный оформитель спектаклей Камерного театра, сделавший в парижской антрепризе С. Дягилева балет С. С. Прокофьева «Стальной скок». Ему просто посчастливилось уйти из жизни еще в 1928 году: будущие ярлыки его обошли. Алиса Георгиевна Коонен непременно называла и его соседа по дому – Михаила Булгакова («Да вот же, под воротами, второй подъезд налево, а этаж – кажется, верхний!»). Обстоятельства, которых в 1960-х никто не собирался вспоминать. Как и Мейерхольда, узел жизни которого намертво затянулся на соседней площади – то ли Маяковского, то ли снова Садовой-Триумфальной.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































