Текст книги "Московские тайны: дворцы, усадьбы, судьбы"
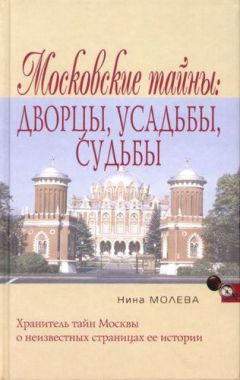
Автор книги: Нина Молева
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 30 страниц)
В столовой, направо от лестницы, мебель ограничивалась удивительным набором белого (!) чиппендейла голландского исполнения – стол, стулья, – находившегося на яхте Петра I. Слева от лестницы шли (в маленькой анфиладе) гостиная, спальня и еще какие-то скрытые от посторонних глаз потаенные уголки.
Как возникла эта совершенно необычная квартира, можно только догадываться. Дом до самой революции составлял собственность Александры Владимировны Станкевич, и, скорее всего, подсказала его зодчему жившая в нем Елена Васильевна Станкевич, связанная с Габричевским. Свою секцию в старом особняке Жолтовский в расцвете славы и признания со стороны советского правительства предпочел любой новой мастерской. Она так и числилась за ним как мастерская. Для жизни Ивану Владиславовичу с женой была предоставлена представительская квартира в доме напротив американского посольства на Новинском бульваре.
Но представительство не понадобилось. Жолтовский не был человеком тщеславным. Он обладал иным, ныне почти совсем забытым качеством – чувством собственного достоинства. Высочайшим. Неколебимым. Перед революцией у него рождается мечта приобрести продававшуюся в Италии виллу Палладио. Несмотря на успешную архитектурную практику, необходимой суммы для покупки у него не было. О займе у жены и ее родственников он не допускал и мысли и на два года, по его собственным словам, отправился на Урал сплавлять лес, чтобы поднакопить средств. Подобное неожиданное решение оказалось одинаково перспективным и бесполезным. Революция поставила крест на всех планах.

МОГЭС. Архитектор И. В. Жолтовский
И снова – Жолтовскому и в голову не приходило присоединиться к волне эмигрантов. При всем том, что до неузнаваемости изменились условия его жизни. Зато открывались перспективы – и какие! – работа, которая значила для него больше, чем что бы то ни было. За рубежом Иван Владиславович просто любил архитектуру. Она была для него искусством, а не простым конструированием стен, окон, пространства, и от архитектуры он ждал и добивался воздействия на человека.
Казалось бы, оторванный обстоятельствами от стремительно развивающейся строительной техники, он продолжает свято верить, что зодчество не только равно живописи и скульптуре, но и превосходит их в возможностях воздействия на человека. Зритель может легко уклониться от воздействия небольшой (независимо от реального размера) живописи или скульптурного произведения, но это гораздо труднее сделать, учитывая объемы и пространства, которыми оперирует зодчий.
Каждый приход в дом на Станкевича открывал для меня новую страницу видения своей профессии Мастером. Жолтовскому представлялось принципиально важным участие архитектора в строительстве. Он и в мыслях не допускал отделения строительного процесса от архитектуры. Как скоро подобное отделение произойдет, утверждал Жолтовский, – архитектор перестанет быть художником, а сама по себе архитектура – искусством. И может быть, самым обидным для Мастера было то, что, восторженно смешивая с грязью его взгляды, его профессиональную практику, «сарабьяновы» осмелились применить к нему понятие «школки». Именно так унизительно и снисходительно – «школка Жолтовского».
Хрущев поторопился поддержать и даже вернуть к творческой жизни Ивана Владиславовича – в 86 лет. А когда Мастера не стало в 1959 году, произошел еще один погром. Вдове было предложено в 48 часов освободить все помещения на Станкевича, 6. Оказывается, они давно стали совершенно необходимыми Моссовету. Растерянная женщина что-то пыталась поместить в квартире на Новинском бульваре, что-то навалом, в полном смысле этого слова, перевезти на дачу в Жаворонки.

Дом на Моховой улице. Архитектор И. В. Жолтовский
Набор петровской корабельной мебели удалось, по счастью, продать П. Д. Корину, недавно получившему государственную премию и потому располагавшему деньгами (набор и сейчас украшает Музей-мастерскую художника). Любимое кессонэ Ивана Владиславовича оказалось в сарае в Жаворонках, набитое ржавыми тяпками, лопатами и граблями. Разор осуществлялся стремительно, и ни Союз архитекторов, ни тем более Музей архитектуры ничего ему не противопоставили.
Через несколько дней в кабинет Мастера страшно было войти. Гризайли счищены и загрунтованы под побелку. Паркет конца XVIII века содран и перекрыт на мастичной основе самым дешевым линолеумом. Рабочие очень торопились: предстояло немедленное открытие читального зала городского архива, документы в который, по заказу читателей, предстояло перевозить через весь город. В углу кабинета вместе со строительным мусором валялся телефонный аппарат Ивана Владиславовича с оборванным проводом, его рейсшины и среди множества карандашей, резинок, угольников – маленькая готовальня, с которой он не расставался в своей домашней куртке. На вопрос, можно ли взять на память эти вещи, вдова согласно кивнула. В конце концов, ей было ни до чего: она уже перенесла несколько онкологических операций и не сомневалась в последствиях нового стресса. Ее не стало через год после кончины Ивана Владиславовича. Еще через год с небольшим не стало и ее единственной дочери и наследницы, тонкой и романтической актрисы Театра им. Моссовета Любочки Смышляевой, игравшей Дездемону с Отелло – Мордвиновым. Потом не менее стремительный уход из жизни супруга Любочки. Удивительный мир Мастера, позволивший ему работать и выстоять, исчез. Мир Ивана Жолтовского, признанного академиком в 1907 году.

Дом на Б. Калужской. Архитектор И. В. Жолтовский
Они выбрали Россию
В последнем нашем разговоре на Пулавской забыл Вам сказать, что профессору Прокофьеву несколько раз предлагали кафедру в Берлинской консерватории где-то в конце 20-х годов. Многие Ваши специалисты приняли подобные предложения, но профессор Прокофьев каждый раз отвечал отказом. Интересно, почему? Ведь условия работы были в то время совершенно несопоставимы…
Тадеуш Охлевский – Н. М. Молевой. Варшава, 1975
Острый мелкий, как нотная россыпь, почерк. Текст, перемежающийся с обрывками нотных записей. Непременно черные чернила. Старопольские выражения любезности. Почти в каждом письме пачка фотографий: молодежь с музыкальными инструментами будто с картин XVIII века, девочки в черных концертных платьях, мальчики с бабочками, в наглухо застегнутых пиджаках и седой высокий, чуть сгорбленный от роста человек с протянутыми для дирижирования крупными кистями рук. Профессор Варшавской консерватории Тадеуш Охлевский и его студенческий ансамбль «Con mono macantabile». Вместе с профессором они годами разыскивают в архивах всей Европы нотные записи, оркеструют и исполняют их. Очень вдумчиво, серьезно, безо всякой работы на публику.
Пулавская… Обычная варшавская профессорская квартира. Белые крашеные стены. Словно придымленные гризайлью темноватые потолки. Тонкие деревянные полоски карнизов. Сплошные кисейные занавеси на окнах. Сладковатый запах воска от зеркальных полов. На открытом дереве полированного стола суконные зеленые салфетки под старыми чашками. Варенье в хрустальных блюдечках. Крошечные пирожные – конечно, от Веделя!
Разговор идет о новой программе ансамбля – музыка при дворе царя Алексея Михайловича, о музыкальных пристрастиях патриарха Никона и его слабости к 12-голосому пению (кто бы теперь с такой партитурой справился!). И вторая часть программы – музицирование и сочинения царевны Софьи, музыка ее театра, в ею сочиненных и поставленных пьесах. Имена композиторов Зеленьского, Титова, отзвуки двора сосланных в Варшаву братьев Шуйских во главе с развенчанным царем Василием. Польские пристрастия патриарха Филарета – он жил здесь же. И вдруг среди церемонной польской речи брошенная профессором единственная русская фраза. Хлесткая и лихая, как с волжского причала.
Удивление удается скрыть, но хозяин спохватывается сам: «Прошу прощения, вы не знаете моей биографии». И с усмешкой: «Я один из русских матросов, штурмовавших, как стало принятым говорить, Зимний. Служил на флоте. Но только с Зимним все было совсем иначе, чем в кино. Знаменитом кино. Предпочитаю не смотреть. И не читать». И дальше подробный рассказ о пресловутом «залпе «Авроры», о «штурме», настроениях, разговорах, Петрограде в 17-м. Вывод: сегодня пытаться проявить эту правду так же бесполезно, как вам, по-видимому, добиться публикаций о гениальном создателе школы пианизма, вашем учителе Григории Прокофьеве.
На дорожке нашего сада в Абрамцеве маленький седой человек. Редкие курчавые волосы. Мешки под глазами. Пронзительно-оценивающий взгляд. «Разрешите представиться. Ваш сосед. Израиль Маркович Ямпольский. Музыковед. На очереди энциклопедический словарь музыкантов. Судя по вашим архивным розыскам, у вас могут быть материалы о Хандошкине, Архипе Балахнине. XVIII век».
Конечно, есть. Все питомцы Академии трех знатнейших художеств профессионально занимались музыкой. Просто считалось, нельзя заниматься одним видом искусства, не владея хотя бы началами всех других. Это вопрос развития творческого подхода к миру.
«И материал лично о вас как авторе публикаций о музыке. Готовлю отдельный авторский словарь».
В комнате зеленый полумрак от подступивших к окнам деревьев. Лещина. Дубы. Разлатая ель. Абрамцево. Сыроватая духота древней облокотившейся о крышу черемухи. Пересвист птиц. Призрачное мелькание белок.
«Где учились? Когда? У кого? Григорий Петрович Прокофьев? Невероятно! О нем давно пора начать писать. Больше десяти лет, как его не стало. В полном забвении. И вы можете восстановить последовательность занятий? Репертуар – учебный, разумеется? Замечания? Превосходно! С вашего позволения и этим займемся. В следующий раз. Конечно, вряд ли для нашего идеолога Михаила Андреевича Суслова имеет какое-либо значение фортепианная игра, но… А так кто же не согласится: как Станиславский в театре, как разработанный вами Чистяков в живописи – полная аналогия».
В словаре выпуска 1974 года они окажутся в одном томе: далеко не лучшая ученица и учитель. Биографические справки. Библиография трудов. Но в заметке об ученице не будет назван учитель. В заметке об учителе ничего не будет сказано о единственной в своем роде школе фортепьянной игры: метод Григория Прокофьева, теория Григория Прокофьева – о них перешептываются профессионалы, в полный голос говорят за рубежом. Да, как Станиславский в театре. Как «учитель всех русских художников», по выражению В. В. Стасова, Чистяков в живописи (Суриков, Репин, братья Васнецовы, Борисов-Мусатов, Серов, Врубель, брат и сестра Поленовы вплоть до Кандинского). Станиславскому посчастливилось: в режиме он приобрел официальный статус в противовес новым исканиям. Чистякову и Прокофьеву – нет. При почти полном совпадении жизненных обстоятельств. Оба начинали со студенческих лавров, преподавания один в Академии художеств, другой в Консерватории и кончали исключением из официальной когорты с тем же иезуитским приговором – казнью умолчанием. Один – до 1919 года, второй – через день после скандала Хрущева в Манеже в 1962-м. Осуждение «верхом» – этого вполне достаточно, чтобы коллеги изъяли имя из разговоров, авторы – дабы не вступать в конфликты с редакторами – из рукописей, ученики… Но об их благодарности давно и все сказало Евангелие.
Человек хотел выжить – разве это не заложено в нем само природой? Мог не рассчитать, оступиться – слишком сложны хитросплетения обстоятельств. Наконец, не отдавать себе отчета. И никто не хочет открыто признать: все куда жестче и неумолимей – формула мутационной обреченности. Сознание определяет поступки, поступки определяют сознание. Выхода из замкнутого круга, кажется, нет.
Идеологический пресс в его былом варианте можно снять. Система старых репрессий – от лагерей до психушек – может отступить. Пресловутый Главлит и вовсе нетрудно закрыть. Но куда уйти от подчинившего себя изменениям человеческого существа? Именно подчинившего себя, и в конечном счете совершенно сознательно.
Самое любимое из бессмысленных человеческих занятий – спор с историей. Рукописи, конечно же, горят. Дотла и без остатка. Другое дело, что факты все равно остаются жить, сколько ни жги документальных свидетельств и не уничтожай архивов. И – да здравствует бюрократическая система! В ее паутине – чем она гуще, тем вернее – неизбежно сохраняются отзвуки когда-то случившегося. Бюрократия неумолима.
Итак, скупая энциклопедическая справка. Прокофьев Григорий Петрович… Юридический факультет Московского университета. Московская консерватория по классу Игумнова.
Преподаватель Консерватории – до 1924-го. Член Директората Консерватории вместе с М. М. Ипполитовым-Ивановым и А. Б. Гольденвейзером. Потом Институт художественного воспитания, сотрудник Института психологии Академии педагогических наук. Множество печатных работ до 1925-го, несколько статей в общих сборниках после 1955-го.
Словарь утверждает: в 1931–1941 гг. организатор и руководитель Научно-исследовательской музыкально-педагогической лаборатории сначала при Академии коммунистического воспитания, с 1938-го – при Московской консерватории. Так решено считать.
Но на сохранившихся в семейном архиве густо пожелтевших справках четкий штамп: «Центральная музыкально-экспериментальная лаборатория при Московской Консерватории». Такой она возникла в 1932-м и была идеологически разгромлена в 1936-м. Никаких творческих экспериментов за рубежом 1936-го не могло быть. И все равно эту слишком короткую возможность действия здесь профессор предпочел комфорту профессорской должности – там.
Имя Прокофьева возникло в доме как-то сразу. Едва ли не первым его называет выдающийся хирург-онколог, помощник самого П. А. Герцена, будущий ведущий специалист 4-го Санупра Кремля и товарищ мамы по варшавской гимназии Борис Владимирович Милонов: «Попасть к Прокофьеву? Непременно. Это удивительнейший пианист. Мальчишкой слушал его концерты». Слова В. Э. Мейерхольда: «Григорий Прокофьев – будущее музыки. Всей». А может быть, все дело в слове «эксперимент»? Оно особенно близко бабушке, магистру математики, выпускнице парижской Сорбонны, увлеченной своим собственным экспериментом воспитания в обычной трудовой школе гармоничного человека, обладающего прежде всего математическим мышлением. Так или и конечно, ее двоюродный брат С. Д. Кржижановский, «русский Кафка» наших дней. На его лекции по психологии восприятия музыкальных произведений сбегался в начале 20-х годов весь Киев, позже – Москва.
Для Зигмунта, как его зовут в семье, педагогическая система Прокофьева – одно из тех закономерных чудес, которые совершались именно на русской почве на рубеже XX столетия.
Два направления. Две жизненные позиции. Как еще не было и как уже было. Эксперимент против привычки: воспитание с расчетом на временную перспективу и добрые старые традиции. Пример семейство Гнесиных, старательных, очень добропорядочных учителей музыки. Постоянное накопление навыков: больше гамм, больше этюдов, смена последовательности. И как железный закон: к радости исполнительства через безрадостность обучения. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Труд – всегда усилие. Какая разница: в искусстве или нет. Значит, самодисциплина, обязательства, которые, учитывая юный возраст воспитанников, должны осуществлять старшие. Рассчитывать на привычку и покорность ребенка смешно.
Прокофьев – стремление создать школу, которая бы освобождала художника от постоянной борьбы с ремесленной, технической стороной ради свободного выражения творческого «я». Без подобного освобождения (дядя Зигмунт любит здесь польское выражение: вызволение) художнику трудно, если только подчас не невозможно вообще выявить всю полноту своей индивидуальности. Скажем иначе – личности. Профессиональной, творческой. В конце концов, – и это главное, – человеческой.
И вот мы идем на прослушивание к Прокофьеву. Бабушка, дядя Зигмунт и внучка. Без бабушки вполне можно было бы обойтись, но она ревниво следит, чтобы кузен не забивал ей голову своими рассуждениями о Москве.
Мы идем в Дом правительства – и это еще одно дополнительное переживание. Это одинаково любопытно, неожиданно и почти сказочно. Бабушка ревниво следит, чтобы дядя Зигмунт не задавал мне наводящих вопросов, не подсказывал решения будущих тестов – сколько их приходилось проходить в те годы!
У настоящей Москвы своя система координат, по которой совсем просто узнать, родился ли в ней человек, как давно приехал и в какой части города жил. Мы живем на Пятницкой в Исаевских домах, рядом с бывшей приходской церковью Троицы в Вишняках, наискосок от Лепешкинской усадьбы и Лепешкинского училища. Наша трамвайная остановка – Курбатовский переулок. Маратовский – станут называть только «новенькие». Чтобы добраться до Всехсвятской улицы, вместо которой сооружен Дом правительства, можно доехать на трамвае до Канавы и оттуда, через Болото, дойти пешком. Дядя Зигмунт подсказывает следующую трамвайную остановку – у Балчуга, чтобы потом пройтись мимо Кремля, по Софийской набережной. У него свой резон – каждый раз надо по-новому встречаться с городом, чтобы встречи не накладывались друг на друга, не становились обыденкой.
Это много позже придет в голову особенность видения Москвы Сигизмундом Доминиковичем. Не знаменитые архитекторы, не знаменитые люди, когда-то где-то жившие, а образ дома во времени, с самыми обыкновенными, тогда говорилось, заурядными их жильцами и владельцами. Человеческая среда – он иногда пользовался этим понятием. На Софийской набережной Кокоревская гостиница. Ко времени революции она давно принадлежала князю Гарарину, но Москва словно не принимала и не замечала ненужных ей изменений.
На углу Фалеевского переулка – единственного на набережной, точно сориентированного на столп Ивана Великого такое же громоздкое здание бесплатных квартир купцов Бахрушиных. За переулком цеха чугунно-прокатного завода Ф. Листа, великолепный в сиреневом саду дом Харитоненко – позднейшее английское посольство. Еще один металлообрабатывающий завод с чугунными скульптурами рабочих у фигурных решетчатых ворот. Мариинское училище… За углом Всехсвятской – единственный оставшийся от улицы большой Солдатенковский дом. Его непонятным образом не только не снесли, но даже передвинули. Скорее всего, для того, чтобы фланкировать въезд на новый мост и скрыть от глаз жильцов «Дома правительства» неприглядный вид на заводские задворки. Элита – у кого хватило совести заявить, что начало ей положило брежневское время!
Мебель. Вахтеры с оружием у стеклянных дверей. «К кому? Ваша фамилия? В списке есть – ждите, перезвоню». И почтительный шепоток в трубку. Лифт против вертикали окон. Как взлет самолета: Кремль, Тайницкий сад, пустота кремлевских улиц. Бесшумно открывающаяся квартира. Белые блузки. Белые рубашки. Реже гимнастерки. Приглушенные голоса. Особая смесь личной значительности и безликости казармы.
Путеводители восхищались: полная автономизация. Общие уборщицы с собственными ключами. Как в гостинице. Общая столовая и как верх свободомыслия взятый домой обед в судках: три нанизанные на ухват кастрюльки с хлебом на крышке. Своя почта. Свой распределитель. Время рождает слова и время узнается по словам. Магазин – для всех, которые обыкновенные, распределитель – «для них». С другими продуктами, ценами, без выматывающих очередей. Распределитель – символ достигнутого на социальной лестнице, где каждому полагалась одна-единственная ступенька: ни шагу вверх и так легко и бесповоротно вниз.
В Доме правительства распределитель был утверждением власти. Первый этаж – продукты, второй – вещи, третий – своя парикмахерская и свои мастерские. Сознание собственной исключительности – его даже не замечали за собой мальчишки из Дома на набережной. К Москве 30-х их будущая ностальгия отношения не имела.
Делиться с простым людом приходилось только кинотеатром: как иначе заполнить 1700 мест. Зато в фойе никаких джазов, гремевших в простых кинотеатрах. «Ударник» – это симфонический ансамбль, солисты Большого театра. И, как всплеск памяти, в перспективе почти пустых стульев Максим Дормидонтович Михайлов со «Стенькой Разиным». Как-то недоуменно оглядывался на раскаты баса, поднимаясь в зал. Кто-то равнодушно проходил к буфету.
Для коммунистического обслуживания строителей счастливого общества всеобщего счастья – полк рабочих, техничек, швейцаров. Одни швейцары занимали церковь и все владения бывшего храма Николы на Берсеневке. Наспех перегороженное фанерными перегородками общежитие с клетушкой на семью. В трапезной середины XVII века ревели примусы, валил пар от кипевшего в баках белья. В алтаре журчала вода в устроенных по вокзальному принципу проточных туалетах. Помои из корыт выхлестывались на улицу – на старые могилы дьяков Кирилловых, когда-то сподвижников Петра, устроителей русской фармацевтики и аптек. Но это в стороне.
В самом Доме правительства решетчатые ворота прикрывали от посторонних жалкие чахлые липки и газончики, которые пытались растить в черных провалах внутренних колодцев-дворов. Впрочем, они и не были нужны. К услугам жильцов была соседняя «Стрелка» – развилка Москвы-реки и Канавы с лодочной станцией и спортивными площадками. Имелось в виду, что так – со временем! – будет у всех. А пока можно было приходить в Первый детский на уроки.
Первый детский кинотеатр, со стороны Кадашевской набережной, был задуман как свой же детский клуб. Но то ли оказался непомерно велик, то ли было решено продемонстрировать единение с народом. В одном из гулких пустых залов окнами на реку проходило вступительное прослушивание поступавших в лабораторию. Мелодия, сыгранная правильно и с ошибкой, – в чем разница, где правильно. Интерес к музыке – хочешь, не хочешь заниматься и почему. Внятный ответ давал абсолютное преимущество. Главное – ритмический ряд: воспроизвести безошибочно и в точно выдержанном темпе. «В ритме – смысл современной музыки» – слова Г. П. Прокофьева.
Экзаменовавшихся отбирал сам: людей без слуха нет. Музыкальный слух – наше шестое чувство. Природа не обделила им никого. Нужно только помочь ему полностью раскрыться, а там уже неважно, станет ли человек музыкантом. Он достигнет полноты ощущения и переживания мира, а это в наши дни жизненно важно. Годы покажут: важно, чтобы раскрыть в человеке человека. Несмотря на режим. И, значит, противостоять ему. Осмысленно и твердо.
Тут же передавал принятых сидевшим в стороне педагогам. Первое знакомство с Еленой Самойловной: «По психологическому строю полное совпадение. Вам будет легко». Это учительнице. «А тебе всегда интересно» – это мне.
Волосы воронова крыла. Туго стянутый на прямой пробор низкий пучок. Черная кофточка сверх белой блузки. Старая камея. Тоненький прочерк перестиранных манжет. Кисти рук. Крупные. Смуглые. С овалом длинных, чуть согнутых пальцев. Первая учительница… Мягкое прикосновение к клавишам. Всегда разное. Тоскливое. Радостное. Раздумчивое. Глубина звука. «Видишь, за окном дождь. Мокрые листья. Брызги из-под колес. Шумно. Холодно. Или здесь – все иначе. Тепло. Тихо. Пыль в свете лампочки. Струи на стеклах. Пусть нота одна – она и о том, и о том расскажет. Главный твой инструмент – ты сама. Слушай себя, а инструмент отзовется. Слушай себя!» Рано для 6–7 лет? Но запомнилось же. На всю жизнь.
Начало знаменитой школы. Совсем скоро придет безошибочное умение узнавать ноту – в любом звучании и сочетании. Как цвет на палитре. И только тогда первая запись нотного стана. Не на нотной бумаге – непременно от руки. Пять линеек, семь нот – в блокноте с серой, чуть ли не оберточной бумагой они то съезжают, то карабкаются наверх, горошинки нот спотыкаются. Как первые буквы. Они и должны стать буквами. Для чтения. А у Прокофьева еще обязательно для скорописи, дело не в обязательных диктантах – в постоянных заметках для себя: что услышишь, как услышишь.
Если войти в подъезд Большого зала нашей Консерватории, прямо напротив входа, в полутьме, несколько ступенек, широкие двойные двери. Белые. С забеленными масляной краской стеклами. Зашторенные окна – в Кисловский переулок. Густая сетка тоненьких проводков с крошечными лампочками. Электрический пульт. Рулоны бумажных лент с самописцами. По тому непривычному к энергетическому хозяйству времени множество техники. И рояли.
«Садись удобней. Высота сиденья? Положение ног? Спина? Кисти? Никакого напряжения? – На каждом суставе руки оказывается маленькая лампочка. – Играть будешь не видя клавиатуры. Внимание техникам! Начали!»
Огоньки мелькают над клавиатурой. Быстрее. Медленнее. Еще быстрее. Еще медленнее… «Стоп! Подытожим. Затруднение на суставах таком-то и таком-то. С этим попробуем иначе… Мышцы… Напряжение сухожилий… Посадка… Перепроверим. Прошу еще раз сначала. Сосредоточилась. Внимание! Начали!»
Это единственная площадь, принадлежащая прокофьевской лаборатории. Всю остальную начинают шаг за шагом отнимать. Первый детский кинотеатр – там будут заниматься кружки для жителей дома. Правда, есть разрешение проводить уроки в домах учащихся, на их квартирах, в том числе и в Доме правительства.
Дверь крайнего к Москве-реке подъезда открывается и мгновенно захлопывается. Стерильная чистота белых стен, выложенного цементной крошкой пола с тонкой латунной прокладкой у плинтусов. Пустой стол под стеклом с черным телефонным аппаратом. Человек в ремнях и гимнастерке, поднимающийся, как на пружине, со стула: «Вы к кому… товарищ?» Пустые глазницы. Металлический голос. «К Валекалнам, квартира №…» – «Зачем?» – «На занятия по музыке». – «Фамилия. Документ?»
Треск телефонного диска. Разговор вполголоса. «Ребенок пусть пройдет. Один. А вы распишитесь – вот тут!» – «Но ведь ей 7 лет». – «Придете за ребенком через полтора часа. Подождете на улице. Подальше от подъезда. Выходите!»
И как прямая противоположность – Лебяжий переулок. Вытянувшийся вдоль всей его нечетной стороны Солодовниковский дом. Четырехэтажный. Уныло серый. С пестрыми маленькими майоликовыми вставочками над подъездами. Тесная квартирка. Запах мастики и затхлого туалета. Окна кухонь на лестницу – она здесь единственная. Кабинетный рояль красного дерева. Дребезжащий. С западающей клавишей си малой октавы.
Лифт со стеклянными дверцами поднимается напротив окон подъезда. Мост. Река. Кремль – все ниже, все четче. Маленькие люди. Бег машин. Первый лифт в жизни. Первое ощущение высоты – и никого рядом. На площадке десятого этажа в раскрытых дверях прислуга в необъятном белом фартуке, с гладко зачесанными под гребенку волосами. «Входи. Проходи. Подожди». Тот же пустой взгляд. Та же неприязнь. Двери всех комнат открыты в коридор. Стены под масляной краской (одинаковой во всех квартирах) с унылым серебряным трафаретом: в гостиной – малиновые, в столовой – желтые, в спальне – голубые. Деревянные стулья с коричневой клеенкой на сиденьях и спинках. Раздвижной стол. Сервант с чашками.
Полтора часа сольфеджио. Музыкальный диктант. И единственная мысль: вырваться. Сбежать по лестнице (не надо лифта!). Проскользнуть в дверь. И бежать. Изо всех сил. В коммуналку. В запущенный двор. К разбитой парадной двери. Свое слово скажет дядя Зигмунт: так с искусством знакомиться нельзя. Знания? Для него нужно только свободное чувство.
Раз в полтора-два месяца прослушивание у самого Прокофьева. Григорий Петрович живет в Большом Афанасьевском переулке в тороповском доме. Никакой Торопов не владел этим домом и даже не слишком долго жил в нем. Просто полвека назад в доме помещалась очень любимая москвичами «Библиотека для чтения», владелец которой Торопов еще раньше прославился тем, что открыл в Москве первую детскую библиотеку. У Торопова собирались обычно студенты и курсистки.
Прокофьев, уроженец города Козлова, поселился здесь сразу по окончании правового факультета. Сочетание юридического образования с консерваторским было делом очень распространенным на переломе XIX–XX веков. Достаточно вспомнить того же Л. В. Собинова. Но немногие поступали так, как Григорий Петрович. Он открыл частную практику помощника присяжного поверенного и долго не отказывался от нее, даже начав работать в Консерватории.
В левой части уличного фасада дома двойные двери – одни, по московскому обычаю, в квартиру первого, вторые – второго этажа. К профессору надо забираться по крутой скрипучей лестнице со следами когда-то лежавшей ковровой дорожки.
В тесноте темной прихожей круглая дубовая вешалка. Стойка для зонтов. Подставка для обуви. За темно-вишневой шторой пустая комната с двумя роялями. Без мебели. На стене две фотографии в резных черных рамах. Красавица с пышнейшей прической и огромной шляпой. Уверенный росчерк через всю карточку. Все знают: знаменитая певица Аделаида Бельска. Старая графиня добавит: супруга графа Александра Денхейм-Шавинского-Брохоцкого. Иначе кто бы ей разрешил в 1901 году начать собирать деньги на памятник Шопену. Правда, только среди любителей-меломанов. И безо всяких публикаций в печати. Петербург обозначил и место будущего монумента – на вылете Маршалковской к Саксонскому саду.
На карточке дата: 15 мая 1909 года. Молодой юрист и выученик знаменитого фортепианного класса К. Игумнова, Григорий Прокофьев был в Варшаве с концертами, когда графиня Аделаида праздновала свою победу. Международное жюри, в составе которого был сам Бурдель, присудил первое место работе Вацлава Шимановского. Конечно, многие не приняли «крайнего» решения, многие протестовали. Дело затянулось, и памятник был открыт только в 1926-м. Об этом расскажет супруга профессора.
Из Варшавы Прокофьев вернется с новыми связями. И начнет, наряду с Консерваторией, преподавать в гимназии Валицкой, жены известного московского врача Леонардо Валицкого. И в Училище ордена Святой Екатерины. Среди учеников профессора будет повторяться история о смерти Шопена. О том, как он выехал из Варшавы в сам канун Повстанья. И взял в дорогу серебряный кубок с землей. И как эту землю высыпали в его гроб в 1849 году. А потом, в 1863-м, чтобы отомстить варшавянам за бомбу, брошенную в карету проезжавшего генерала Берга, разбили его рояль. Выбросили из окна. Сломали рамы. Выбили стекла. Но справились – выбросили. На мостовую… Вторая, фотография – головы памятника.
В комнате на Афанасьевском правый рояль – для учеников. Левый – профессора. Он проверяет сам каждого питомца лаборатории. Из-за портьеры – чтобы не смущать. Иногда портьера распахивается, профессор садится за свой инструмент и продолжает пьесу – словно раскрывает то, что может рассказать самый простой этюд Гермера Черни. Вот, слышишь, вот что в нем заложено! А можно и не так, а совсем иначе. Слушай себя, слушай же!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































