Текст книги "Московские тайны: дворцы, усадьбы, судьбы"
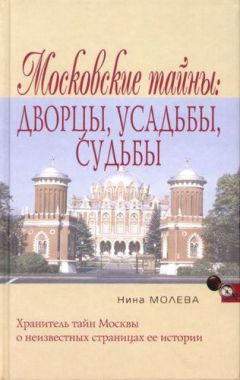
Автор книги: Нина Молева
Жанр: История, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
Репетиции – выступления – репетиции во Дворце – обязательные репетиции на месте будущего выступления – снова выступления. Уезжая из дому в выходные дни к 10 часам утра, часто приходилось возвращаться к 10 вечера. Нагрузка, которую могли выдержать далеко не все взрослые. Вечерние выступления в рабочие дни – после школы и после уже выученных уроков: закон о четверках и пятерках оставался в силе. И постоянное пополнение репертуара. Потому что Москву захлестывали общенародные торжества. Знаменитые перелеты и, значит, встречи с героями-летчиками (во-первых, в самом Дворце пионеров, как отчет перед «будущим поколением»). Трудовые рекорды и самые знаменитые стахановцы: ткачихи Дуся и Мария Виноградовы, первая женщина-комбайнер Дарья Гармаш. Возвращение папанинцев. Приезды руководителей коммунистических партий других стран – Долорес Ибаррури, Вильгельм Пик, Броз Тито, Димитров. Герои Испании. Участники боев на Хасане. Стахановцы-горняки. Танкисты. Военные моряки. Живые люди, которые иногда умели, чаще не умели говорить, тем более о себе, вместо живых слов пользовались написанными бумажками. И все равно были настоящими, были сплошным потоком сегодняшних дней.
Ребята-студийцы были первыми, кто говорил не по написанному, кому стали доверять пользоваться собственными словами. Для сегодняшних дней кажущееся немыслимым сочетание отрепетированной в каждой мелочи парадности и настоящего человеческого волнения. Все было красиво ради тех, кто этот праздник по-настоящему заслужил.
Спустя десятки лет дочь папанинца-радиста легендарного Эрнеста Кренкеля Людмила скажет: отец признавался, что нигде так не волновался и не терялся, как перед ребятами в Городском дворце. Ради такой встречи все можно было выдержать.
Городской театр творчества пионеров представлял автономную организацию собственным директором – им был Григорий Ефимович Файнгор, ушедший в ополчение и вернувшийся инвалидом (летом 42-го года он уже был директором трехзального кинотеатра «Метрополь», а позднее нынешнего «Дома Ханжонкова», тогдашней «Москвы»), заместителем – Георгий Николаевич Ботман, по возвращении из армии долгие годы работавший главным администратором Зала Чайковского. И надо сказать, им нелегко давалось составление расписания репетиций всех коллективов – репетировали в фойе, на сцене, на лестницах, в каждом уголке, при вечернем наплыве школьников-зрителей.
Спектакли и концерты шли ежедневно, уступая место разве что городским тематическим кострам: встречи происходили у ребят именно на них.
Выход горнистов на закрытом занавесе. Безукоризненно сыгранный сигнал сбора. На последней ноте открывающийся занавес. Команда ведущей на вынос знамен – щегольской ритуал при стоящем зале и гостях.
Представление гостей. Их рассказы. Во втором отделении – концерт, на время которого гости оставались на специально устроенных местах на сцене. Детские номера вперемежку с грибоедовским монологом Чацкого в исполнении Михаила Ивановича Царева, выступлением ансамбля скрипачей – лауреатов международных конкурсов из числа студентов Консерватории, сценами из спектаклей Островского в исполнении Николая Рыжова, Евдокии Турчаниновой, русских сказок Ивана Михайловича Москвина… Эстрады не было и в помине. Как, впрочем, и народных песен. Инструменталистам – школьникам вообще полагались только классические пьесы, советские композиторы звучали только в репертуаре хора, как советские поэты у чтецов…
И перед каждым ответственным выступлением правительственного уровня обязательный конкурс, который нужно было выиграть. А это еще часы самостоятельных занятий, собственных поисков и беспощадного суда. Трудно. Очень. И бесконечно радостно.
Радостно, если удалось. Если получил право на выступление. И если удачно выступил. Такое остается на всю жизнь.
Колонный зал. Встреча папанинцев. Поэма Николая Заболоцкого «Седов». Последние слова:
И мы пойдем в урочища любые.
Но если смерть застигнет средь снегов,
Лишь одного просил бы у судьбы я:
Так умереть, как умирал Седов.
Вставшие на сцене четверо папанинцев. Вставший зал. И словно после минуты молчания аплодисменты. На несколько минут.
Через много лет Иван Дмитриевич Папанин скажет: «Здорово тогда получилось. До чего же здорово – сердце зашлось». Через очень много лет.
Конечно, было имя Сталина. Был и он сам на всех торжественных правительственных вечерах. По его единожды навсегда установленному выбору выступали Валерия Владимировна Барсова с «Сулико» и алябьевским «Соловьем», Козловский и Михайлов с народными песнями, Качалов (никаких иных взрослых чтецов не было), народные артисты с Украины (Литвиненко-Вольгемут и Паторжинский). Но «великому имени» по протоколу отводилось вполне определенное место – начало концерта, когда несколько песен о нем исполнял грандиозный, на тысячу человек, сводный хор и оркестр Большого театра, обычно под управлением Небольсина. Когда открывался на вступлении занавес, ряды певцов-хористов стояли от его складок и под самую его верхнюю планку, так что видны они были только из партера и, само собой разумеется, правительственной ложи у самой сцены слева, где в глубине, за спинами Ворошилова и Кагановича скрывался САМ. Центральной царской ложи они не занимали никогда. Отсюда, раскланиваясь после исполнения, все артисты обязательно делали полупоклон в его сторону. Это могло казаться странным из зала, но кто бы думал о впечатлениях зала!
Раз от раза масштабы концертов-представлений и их участников возрастали. Весной 1940 года принимается решение объединить более тысячи юных исполнителей в постановке «Кем быть?» по Маяковскому на сцене Большого театра. На подготовку отводится все лето и особый, творческий лагерь, у станции Хотьково Ярославской железной дороги, в деревне Жучки. Постройки старой усадьбы приспосабливаются под жилье для исполнителей, в парке, рядом с обрывом к речке Воре, сооружается макет сцены Большого театра в точном соответствии с ее размерами. В лагерь направляются все будущие исполнители и все педагоги.
Репетиции и общие занятия по мастерству занимали весь день. Свободным оставался только вечер после ужина. Разговор о восьмичасовом рабочем дне был просто смешным, тем более что постановщик зрелища Василий Павлович Охлопков явно терялся перед лицом такой массы ребят и не уходил с репетиционной сцены чуть ли не сутками. А рядом работали костюмеры, делались эскизы декораций, по каким-то дням приезжали оркестранты Большого театра.
Можно по-разному говорить о приметах и предчувствии надвигавшейся войны, но в перспективе прошедших лет очевидным становится, что напряжение существовало, и немалое. Уже готовая к репетициям в самом театре постановка «Кем быть?» задерживается без объяснений и определения каких-то сроков. Просто в Москве никто не приступает ни к каким репетициям, и только весной появляется следующий симптом будущей грозы: директора Городского дворца А. А. Ахапкина вызывают к М. И. Калинину и предлагают на будущее лето не планировать никаких выездов. И подготовить общие списки кружковцев – «на всякий случай». Александр Александрович признается в этом уже в годы правления Брежнева.
В остальном выступления продолжаются, и притом с многоязычным конферансом: параллельно с русским обязательно на немецком и… венгерском языках. Немецкий конферансье – Володя Шейнцвит, венгерский – Самуэли Тибор. Впрочем, и в школьной практике иностранным языком был немецкий. Редкое исключение – из-за нехватки педагогов – представлял французский. Английского не было вообще.
В начале 1940-го в пионерской организации Москвы появляется новая форма действий – так называемый Актив города, состоявший из представителей всех районов. Его образованию предшествовало городское пионерское собрание, выбравшее председателя Актива (Молева Н. М.) и утвердившее положение о нем. Цель – борьба за успеваемость, обязательное десятилетнее образование и помощь пенсионерам. На первый взгляд, чисто бумажные цели и обязательства обрели реальные формы в первые же дни Великой Отечественной.
В день первого выступления по радио Сталина председателю Пионерского актива города было предложено выступить с призывом к ребятам помогать стране. Программа «Счастливое детство» оборвалась, начиналась реальная жизнь и взрослые годы. Председатель Актива в день обращения к ребятам ушла санитаркой в первый же находившийся рядом с Дворцом сортировочный госпиталь (позже их станут называть эвакогоспиталями). 12-часовые, а затем и суточные дежурства. Ускоренные курсы медсестер. Еженощные бомбежки. Начало голода – он давал о себе знать и в госпиталях. Пятнадцать лет не были помехой – о возрасте при том острейшем кризисе медперсонала никто не спрашивал, а спрос с каждой работавшей «единицы» был одинаковым.
5 декабря – 16 лет, и еще до получения паспорта неожиданный вызов в Политуправление МВО. Приказ о назначении помощником начальника театрально-зрелищной бригады по обслуживанию передовых частей и госпиталей. Все объяснялось просто. Из Москвы были эвакуированы почти все театры и ведавшее любой формой (взрослой) концертной работы Всесоюзное гастрольно-концертное объединение. В городе не осталось артистов, которые могли бы обслуживать фронтовиков и раненых.
Горком вспоминает о самых юных. Впрочем, московские старшеклассники вступили в войну раньше взрослых. Еще до образования народного ополчения был издан приказ о тотальной мобилизации на рытье заградукреплений старшеклассников 8—10-х классов. Не слишком понятное разделение: мальчики – в Смоленскую, девочки – в Орловскую область. На вокзалах их провожали родители, многим из которых через несколько дней или недель предстояло уходить в армию. Все напоминало отъезд в пионерлагеря – с кулечками домашней еды, полное отсутствие снаряжения. На местах тоже не оказалось в достаточном количестве простых лопат, но были суточные нормы взрослых землекопов, и через несколько дней вчерашние мальчишки приноровились их выполнять: 2 кубометра. В день. Девочки – половину нормы.
Окопы были вырыты в немыслимые сроки. Но не были использованы. Может быть, отчасти в силу стремительности немецкого наступления. Ребята возвращались в Москву в августе 41-го, кто как сумел, вместе с отступавшими нашими воинскими частями. Возвращались, чтобы тут же подчиниться приказу о выезде в колхозы на уборку урожая. Начало учебного года с начала намечалось на 15 сентября, потом было отменено вообще. 1941/42 учебный год в Москве и Подмосковье не состоялся.
Ребята копали картошку, овощи, рубили капусту. Они возвращались в Москву, когда немцы стали вплотную подступать к Москве. Около 16 октября. Об эвакуации никто из них не думал, многие уже сумели влиться в армию, а стремились в нее все. Между сверстниками и вчерашними одноклассниками пролегла непреодолимая черта. Под первую мобилизацию на рытье окопов не попали те, кто находился в первой смене лагерей, отдыхал с родителями. С родителями же они эвакуировались на Восток. Их детство было скомкано, но оно продолжалось. Для остальных наступила взрослая жизнь. Иное сознание, иное ощущение ответственности. И долга.
Разделилась и Москва. 1 миллион в эвакуации, 1 миллион 200 тысяч оставшихся. Город продолжал жить. Катастрофически не хватало рабочих рук – в ширившейся сети сортировочных госпиталей, на вновь налаживаемом производстве (основные предприятия уже работали на новых местах). Ребята заполняли образовавшиеся бреши. И еще – еженощно дежурили на крышах. Несмотря на рабочие дни и продленные смены. Кроме них, этого делать было некому. И вот новый призыв – теперь по той, казалось, навсегда ушедшей специальности: артисты! Секретарь горкома комсомола Красавченко на первой же беседе исключил всякие сомнения: кто-кто, а вы справитесь! Знаю, как умеете работать.
10 декабря приказ по ПУРРУ об образовании «молодежных, комсомольских бригад». Мобильный состав: 5–6 человек, водитель и сначала «газик», а вскоре «и студебеккер» с брезентовым фургоном, багаж – самый простой реквизит, возможность покемарить в пути, вещмешки, котелки. Условия работы: выезды в сумерки, выступлений ежедневно 2–6, в зависимости от обстановки, тур в несколько суток, в Москве «перезарядка» на 2–3 дня: передовая была слишком близко. И единственный раз вопрос ведавшего политработой майора Сергея Никифоровича Ершова: «Справишься?» Единственный! Предстояло разыскать ребят, составить репертуар, начать репетиции. Ставить программы должна была Анна Гавриловна Бовшек, но с человека в 50 с лишним лет горком и ЦК ВЛКСМ не могли спросить ничего.
Первые выступления состоялись через неделю. В первой бригаде одна девчонка, пятеро ребят и наш водитель – казавшийся совсем старым старшина Сергей Михайлович Володин. Ребята соглашались при единственном условии: с наступлением призывного срока они уйдут в действующую армию («Иначе стыдно выступать перед бойцами»). Им не было стыдно. Из первого состава не вернулись Николай Павлов, один из лучших чтецов, срывавший горячие аплодисменты в Большом театре за «Двадцатилетнего» Маршака, Николай Кромин, не захотевший воспользоваться тем, что его зачисляли в труппу МХАТа, Юлий Садовский, погибший под Кенигсбергом в танковом десанте, восемь лет отслужил в армии техником аэродромного обслуживания Геннадий Родионов, не стало Игоря Ларина, танцовщика Владимира Лягова – список слишком длинен, чтобы его довести до конца. Жаль, что доски с их именами нет в бывшем Городском дворце пионеров. Вероятно, никому не пришло в голову, даже в год 60-летия.
Между тем Дворец пионеров с первых же дней войны превратился в школу всевобуча, базу для бригад. По-прежнему, хотя и значительно реже, шли спектакли в театре – для призывников и раненых. Кстати сказать, здание продолжало топиться, как и все московские библиотеки, культурные учреждения. Слабо, но вполне достаточно, чтобы не сидеть в шубах.
И до сих пор остается загадкой, как удавалось в осажденный, по существу, город доставлять уголь – газа еще в таком количестве в городе не было.
По мере того как отодвигался фронт, работа все больше сосредоточивалась на обслуживании госпиталей. Вернее – отдых в Москве отменялся. И все равно в «студебеккере» по-прежнему среди реквизита лежали школьные учебники, чтобы упрямо сдавать по введенной зачетной системе предмет за предметом. Десятилетку закончили в те годы на колесах все.
Об этом никто никогда не упоминает, но первый год войны не стал для московских школьников совсем пустым. С учениками младших классов многие учителя возобновляют занятия на дому, в нетопленых промерзших комнатах коммуналок, и партийное руководство города хлопочет о том, чтобы организовать более регулярные занятия при домоуправлениях, выделив хотя бы самые небольшие, но теплые помещения и пригласив учителей. Предложение горкома остается без ответа, но с нового, 1942 года выходит предписание ЦК партии о создании повсеместно учебно-консультационных пунктов, опять-таки при домоуправлениях, но с разработанной гороно программой по зачетному принципу. Хотя речь шла о том, чтобы предоставить возможность ребятам закончить семи– и десятилетку, к этой возможности стали подстраиваться все желающие, проходя за оставшиеся пол учебных года программу нескольких классов. Это было характерной чертой военной Москвы – во что бы то ни стало учиться, во что бы то ни стало прорваться в вузы и техникумы. Примечательна мотивировка организации очно-заочного обучения: необходимость обеспечить приемы в учебные заведения в 1942/43 году.
Три с половиной года работы бригады. Около тысячи выступлений. Когда еще в 1943-м была учреждена медаль «За оборону Москвы», сначала к ней были представлены участники первой бригады. В числе первых трех тысяч награжденных – всего медаль получило около миллиона, в том числе солдат и офицеров. До награды, которую вручал М. И. Калинин в Свердловском зале, дожили не все.
В день окончания войны бывшему председателю пионерского актива было предложено снова выступить по радио. И снова никто не предлагал никаких написанных слов Радиостанции Коминтерна, ВЦСПС, РЦЗ. Получилось: «Ребята, мы отдали нашему городу наше детство, мы помогли Москве победить!» Трем человекам из первой бригады были предоставлены места на трибунах во время Парада Победы.
Но свободы не получилось и на этот раз. ЦК ВЛКСМ было предложено тем же участникам бригады заняться организацией первых послевоенных лагерей. В наспех приведенных в порядок зданиях, с самым скудным инвентарем, с трудом набранным штатом. Это было первое московское послевоенное дето. А то, что старшей вожатой едва исполнилось 19, значения не имело – уважение ребят к оставшимся за спиной военным дорогам было абсолютным. В память о нем удалось уговорить стоявшую вблизи на переформировании конную часть взять шефство над «Манькиной горой» и даже показать прямо на лугу праздник настоящей кавалерийской выездки, рубку лозы, даже скачки. О войне не вспоминали. О ней не рассказывали. Она жила в каждом – ее еще предстояло победить.
Мастер
За 65 лет своей творческой деятельности академик архитектуры, заслуженный деятель РСФСР (1932 г.) Иван Владиславович Жолтовский построил во многих городах СССР свыше 100 объектов – жилых, общественных и промышленных зданий. И. В. Жолтовский был одним из авторов плана реконструкции г. Москвы (1919–1923 гг.). Автор жилых домов на Ленинском проспекте (1949 г.), на Смоленской площади (1950 г.), на проспекте Мира (1967 г.), ряда особняков, в том числе дома Тарасова на Спиридоновке (1909 г.) и других.
Удостоен звания лауреата Госпремии СССР за 1955 г.
Теоретические воззрения Ивана Владиславовича оказали сильное влияние на развитие советской архитектуры XX века.
Личность Ивана Владиславовича, теория и практика его деятельности в течение многих десятилетий привлекают архитекторов и искусствоведов. И вот о нем рассказывает профессор Э. М. Белютин.
«Свободен от постоя» – табличка у ворот посерела от дождей и городской пыли. Врезанные в камень буквы зазеленели густой плесенью. Каменный столб давно покосился. Впрочем, ворот уже не было. Только у другого столба поскрипывала чугунная калитка, за которой начиналась дорожка, выложенная широкими плитами желтого известняка, – как когда-то тротуары всех московских переулков. Улица Станкевича – с 1922 года, Большой Чернышев переулок – с конца XVIII века, Вознесенский – сегодня.
Дорожка в 1948-м вела к парадному подъезду – с широкими пологими ступенями, высокими дубовыми дверями, под модным когда-то навесом на литых чугунных колонках. Но Александр Георгиевич Габричевский усмехнулся: «Это не к академику Жолтовскому». В подъезд входили люди в милицейской форме, – здесь помещался так называемый Отдел вневедомственной охраны района и еще какие-то моссоветовские службы.

Академик И. В. Жолтовский
За углом дорожка разбегалась в разные стороны. Одна окружала по периметру просторный двор былой, еще боярской, усадьбы – мимо дворницкой, людских, конюшни, поварни, превращенных в жилые закутки с отдельными (немыслимая роскошь тех лет!) входами. В такой «квартире» жила здесь с больным сыном особенно почитаемая Габричевским и Жолтовским преподавательница русского языка и литературы Вера Николаевна Величкина. В прошлом учительница знаменитой гимназии Петра и Павла, ставшая преподавателем Московского горного института (надо же было сообщать будущим командирам могучей промышленной отрасли навыки грамотности!), Вера Николаевна пользовалась уважением своих почитателей не только благодаря взглядам на советскую литературу, с ее бесконечными захлебами от собственной талантливости и вечности. Жолтовский не переставал удивляться ее «четкому», по его выражению, прагматизму. Вера Николаевна делила литературу на ту, которая должна возрождаться в человеческих чувствах и сознании, и на ту, официальную, о которой не было смысла думать, – просто при необходимости «пробалтывать как «Отче наш», не засоряя мыслей и чувств ее сиюминутными стремлениями. «Берегите как зеницу ока человеческую реакцию на каждую прочитанную строку! Берегите себя!» – это выражение Величкиной не раз приходилось слышать и от Габричевского, и от Жолтовского.
Другая дорожка направлялась к черному, или кухонному, входу барского дома. Никаких ступеней, навесов, одностворчатая дверь, и, по словам Александра Георгиевича, дальше начинался Мастер.
Формально мое знакомство с Иваном Владиславовичем состоялось сразу по окончании Великой Отечественной войны на достаточно необычной выставке, организованной Академией архитектуры. Именно Академия архитектуры сразу после окончания войны получила возможность обследовать освобожденные территории на предмет выяснения гибели памятников и состояния тех, которым удалось уцелеть. Из старшекурсников и аспирантов, в том числе и Художественного института, формировались небольшие бригады, для каждой из которых намечался маршрут и район обследования. Все, что мы могли практически делать в походных условиях, были акварельные наброски, более или менее проработанные. Мне с моим напарником, тоже участником войны, к тому же лишившимся одной руки, достался район Свири, находившийся под финской оккупацией. Кроме огромной бумаги под грифом Академии с просьбой к местным властям оказывать художникам всяческое содействие (и не принимать их за шпионов!) с двухмесячным сроком действия, у нас ничего не было. Питание гарантировалось только взятыми из Москвы хлебными карточками. Любое его пополнение, как и организация транспорта и ночлега, зависело от отношения местного начальства и удачи.
Работа оказалась на редкость интересной, и вот ее результаты показывались на выставке, вызвав интерес старшего поколения архитекторов, и в числе первых Жолтовского. Хотя представил меня Ивану Владиславовичу двоюродный брат его супруги, член-корреспондент Академии наук СССР Виктор Никитич Лазарев, рассчитывать на то, что маститый зодчий запомнит студента, было трудно. К тому же отношения между свойственниками и одинаково увлеченными итальянским Возрождением специалистами складывались непросто. Ни о каких прямых столкновениях не могло быть и речи, но Виктор Никитич не соглашался с характером использования Жолтовским наследия Палладио, тогда как Иван Владиславич считал «засушенным» (его выражение), отстраненным от исторической ауры человеческой жизни восприятие Лазаревым памятников Возрождения. Знаменитая «аура памятника», которой так дорожил зодчий, явно оставляла равнодушным маститого исследователя.
Габричевский как-то вскользь напомнил о корнях подобных разногласий, которые Жолтовский готов был относить к практике хорошо знакомого ему отца Виктора Никитича – гражданского инженера Никиты Герасимовича, много и успешно строившего в Москве. Никиту Лазарева знали к тому же как завзятого автомобилиста-спортсмена и члена Литературно-художественного кружка, в котором председательствовал Валерий Брюсов, а среди директоров находились Вересаев, Телешов, Сумбатов-Южин.
Но, так или иначе, я шел на первую предстоящую встречу с Мастером. За низкими маленькими дверями – темная прихожая (Жолтовский предпочитал выражение «сени»). Оно представлялось тем более оправданным, что сразу слева начиналась лестница на бельэтаж, а впереди открывалась дверь в кухню, предмет особой гордости Ивана Владиславовича. В хорошем расположении духа он начинал экскурсию по своим владениям именно с нее.
Кирпичный, «в елочку», навощенный, натертый до блеска пол. Огромная плита с медным круговым поручнем и медными дверками (газа в доме не было). Покрытые старым кафелем под самый потолок стены. Металлический колпак над комфорками. И в левом, дальнем от входа углу дверцы… лифта для кушаний, которые прямо отсюда подавались в столовую на антресолях. Иван Владиславович честно признавался, что старый лифт был всего лишь до бельэтажа и что ему пришлось «совершить варварство» – удлинить его шахту до антресолей. Зато в остальном иллюзия старины была полная: поскрипывал ворот, колебался пеньковый канат, подрагивала вместе со своим грузом маленькая платформочка.
Гланым было вовремя принять груз в виде суповой миски или закрытого блюда со вторым и непременно закрепить тормозной колодкой ворот. Но это уже не входило в круг обязанностей Ивана Владиславовича. Хотя надо признать, подняться по лестницам этой квартиры с подносом в руках даже совсем молодому человеку не представлялось возможным.
Из «сеней» неширокая крутая лестница вела в коридор бельэтажа, к выделенному из остальных помещений этажа святилищу Мастера – кабинету. Тому самому, в котором работал Баратынский, Станкевич, бывая у брата, где встречались Вяземский, Погодин, Грановский. Который еще раньше служил «самому» – это Иван Владиславович почти торжественно подчеркивал – Александру Петровичу Сумарокову: городская усадьба была родовым гнездом Сумароковых.
Может быть, помещение и не было так велико – что-нибудь около 50 квадратных метров (3 окна по фасаду), зато казалось огромным. И почти торжественным. Скорее всего, из-за высокого, тонущего как бы в сумерках потолка, сохранившего гризайльную роспись начала XIX века. Роспись не подновляли, и тона гризайли подернулись патиной времени. Речи быть не могло об ее расчистке: Иван Владиславович следами времени дорожил нисколько не меньше, чем первоосновой живописи. Если входивший сразу же не откликался на удивительную ауру потолка, Иван Владиславич словно охладевал к гостю, воспринимал его как человека не из своего мира.
Кабинет тесно заполняла мебель. Только старая. Только великолепные образцы той или иной эпохи. В мебели Иван Владиславович разбирался, по собственному выражению, «на уровне шестого чувства». Это было то поразительное ощущение материала и мастерства, которым всегда отличались его исторические предки – поляки.
В центре кабинета два фламандских стола XVIII века, украшенных виртуозным маркетри с букетом цветов. Придвинутые друг к другу, они замыкались старым дубовым столом, за которым на совершенно расшатанном и перетертом кресле восседал Мастер. Конечно, под рукой был телефонный аппарат. У стены рядом стояли рейсшины. Во внутреннем кармане атласной куртки – «бонжурки» – подручная перетертая добела готовальня. Не знаю, пользовался ли ими Иван Владиславович, или они оставались символикой зодчества, как в скульптуре XVII–XVIII веков. По правую руку от Ивана Владиславовича стояло совершенно истертое кресло XVI века, которое он торжественно называл креслом Марии Тюдор и избранным предлагал попробовать в нем посидеть или, по крайней мере, погладить спинку.
Настоящим чудом мебельного искусства был стоявший за спиной у Жолтовского кабинет красного дерева со слоновой костью по рисунку Камерона. И что бы ни говорил Иван Владиславович о всех других предметах, именно кабинет задавал тон всей комнате, заявлял о характере устремлений самого зодчего. Высокий, занимавший почти всю стену, с множеством дверок и ящиков, он был царством в царстве архитектуры.
У противоположной стены стоял отличный английский поставец, в котором хранились бесчисленные слайды, а к поставцу было придвинуто венецианское кессоне, в котором Иван Владиславович хранил свои акварели, преимущественно итальянские. Он не очень охотно их показывал. Тем интереснее было их смотреть: зодчий очень точно соблюдал градацию между собственными, авторскими зарисовками и зарисовками, в которых его целью становилось воспроизведение чьего-то произведения.
Картин в кабинете было немного, и среди них Жолтовский особенно ценил итальянский подлинник времен Возрождения – портрет одного из Медичи. На окнах стояли голова римской императрицы I века нашей эры, приобретенная Иваном Владиславичем непосредственно на раскопках в Италии, и – совершенно неожиданно! – шедевр парижского салона конца XIX века: женская головка, окутанная прозрачной, переданной в мраморе вуалью. Габричевский, как бы извиняясь, пояснял, что все дело было в сходстве с первой женой архитектора из семьи московских миллионщиков Носовых.
Прямо напротив дверей кабинета – лестница на антресоли, очень крутая, и трудно себе представить, как Иван Владиславович на восьмом десятке преодолевал все эти препятствия. Тем не менее ничего в своем обиходе он менять не хотел и продолжал заниматься домашним альпинизмом до конца.
На лестнице по стенам висели большие декоративные полотна какого-то фламандца XVIII века – цветы и птица. И было самым удивительным, даже для Габричевского, что в первый же визит Иван Владиславович пригласил подняться по этой лестнице в личные комнаты. При его неизменной замкнутости и почти нарочитой отстраненности от окружающих – никаких разговоров, кроме архитектуры, никакой светской болтовни, тем более сплетен! – это приглашение говорило о совершенно исключительных обстоятельствах, которые неожиданно сравняли перед назидающей и карающей рукой идеологических властей и старших и младших.
Постановления ЦК ВКП(б) по вопросам идеологии коснулись не только композиторов – Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, Шебалина. В архитектуре нож гильотины просвистел над головами Ивана Владиславовича и Габричевского – обоих лишили права преподавать и общаться с молодежью, оба были одним росчерком пера вычеркнуты из прфессиональной жизни. Роль палачей-практиков охотно взяли на себя архитектор Н. Г. Мордвинов и человек, чья зловещая тень лежала на всех факультетах Московского университета, «великий глухой», как его называли за спиной, заведующий объединенной кафедрой марксизма-ленинизма Н. Д. Сарабьянов. «Космополиты» и «формалисты» были должным образом заклеймены. Для аспиранта Художественного института роковыми оказались зарисовки архитектурных памятников Севера 1945 года – формалистические приемы изображения, интерес к религиозным памятникам, пессимистическое видение деревни, отсутствие жизнеутверждающего начала и еще тот факт, что в качестве старосты творческой мастерской он осмелился пригласить руководителями «ранее осужденных в их антисоветском творчестве» Павла Кузнецова и Льва Бруни.
Только со временем мне стало понятно, как важно было перешагнувшему в девятый десяток архитектору убедиться, что его позиции понятны и близки тем, перед кем еще только развертывается жизнь.
Иван Владиславович не был ни коллекционером, ни собирателем, руководствовавшимся определенным планом, системой. В прошедших поколениях, их созданиях он откликался на то, что было ему внутренне близко, что позволяло выстраивать свое духовное и эмоциональное пространство – чтобы жить и работать. Поэтому от среды его дома исходило ощущение современности, но никак не музея и не древлехранилища. По внутренней своей установке он ничего не хранил – он со всеми входившими в его дом вещами сосуществовал, уважая их, но и находя в них поддержку.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































