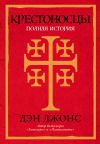Текст книги "Деревянный ключ"

Автор книги: Тони Барлам
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
Часть пятая
12 год до нашей эры
Вифлеем Иудейский
Яаков бен Азария, владелец Бейтлехемского пунда́ка[114]114
Постоялый двор (арам.).
[Закрыть], сидел под смоковницей своей в приятной послеобеденной прострации и, время от времени разлепляя сонные веки, поглядывал на большую дорогу. Делал Яаков это, скорее, по привычке, а не по надобности – недостатка в постояльцах он не испытывал, особенно теперь, когда среди них было двое таких, что стоят десятка обычных, – оба занимали по отдельной комнате, платили исправно и, что самое удивительное, совсем никуда не торопились. Стоило ли суетиться, завидев вдалеке приближающегося пешком путника без поклажи? Однако чутье на особых людей, коим Всевышний щедро наделил хозяина гостиницы, заворочалось, заворчало, словно сторожевая собака спросонья, и он сам того не заметил, как оказался у ворот.
– Благословен всяк приходящий в мой скромный дом! – со всею возможной учтивостью поприветствовал Яаков странника. – Зайди и отдохни, добрый человек, а если надо, здесь ты за умеренную цену найдешь самый лучший стол и кров во всем Бейтлехеме!
Говоря эти затертые слова, он жадно разглядывал пришельца, пытаясь сообразить, что в облике последнего заставило его встрепенуться. Конечно, редко встретишь человека, странствующего налегке вдали от дома. А то, что человек этот был нездешним, Яаков знал достоверно, но на своем веку он навидался всякого, даже совершенно нагих путешественников. Обладая недюжинным любопытством, он, тем не менее, придерживался правила: не задавай вопросов, если желаешь знать побольше, а жить – подольше. Посему ограничился беглым осмотром незнакомца, и осмотр сей дал ему богатую пищу для размышлений. Во-первых, путник был совершенно очевидно переодет. Объяснить свою уверенность словами Яаков бы затруднился, просто его опытный глаз всегда умел отличить крестьянина от разбойника, а простака – от книжника, в какие бы одежды те ни рядились. Например, этот косматый муж в скромном платье городского ремесленника смотрелся бы куда более естественно в пророческом рубище или в белом ессейском облачении. Во-вторых, он пришел по иерусалимской дороге, но вовсе не выглядел как человек, проделавший на своих двоих путь хотя бы в пару парсангов. Было еще и в-третьих, и в-четвертых, но с выводами Яаков не спешил. Одно было совершенно ясно – гость имеет причину скрывать свое имя и положение, и спрашивать его о них смысла не имело, да и ни к чему это – лишний раз вынуждать человека лгать.
Человек, однако, назвался сам, и по тому, как он сказал свое имя, Яаков понял, что оно – вымышленное:
– Меня зовут Йосеф бар Гиора. Я – э… садовник из Иерусалима.
«Ага, – подумал хозяин гостиницы, – в таком случае, я – казначей Ирода. Видали мы руки садовников. Старик-то совсем врать не умеет. Значит, человек порядочный». Любопытство его разыгралось не на шутку. Старик, впрочем, оказался не так уж и прост – уловив мимолетное выражение лица собеседника, тотчас пояснил:
– В прошлом. Удалился на покой. Вот, присматриваю дом в ваших краях.
Яаков кивнул:
– Да, места у нас славные. Не Галилея, конечно, но для покоя – в самый раз. Присаживайся, прошу, вот здесь в тени! Выпей вина!
Гость уселся на подушки, но от выпивки отказался, попросил простой воды. «Нази́р![115]115
Назорей, букв. «посвященный Богу», – человек, давший обет не употреблять винограда ни в каком виде, не стричься и не прикасаться к умершим. Яаков ошибочно употребляет это понятие в значении «ессей».
[Закрыть] Не пьет, волос и бороды не стрижет, не завивает, – мелькнула в голове Яакова догадка, и он тотчас задал вопрос с тем, чтоб в ней утвердиться:
– А велика ль семья у господина? Я затем спрашиваю, что дома на продажу-то тут имеются, но ведь тебе же не всякий дом подойдет, верно?
– Верно. У меня только жена и сын.
«Вот те и раз! Выходит, что не назир. А ведь я был готов руку дать на отсечение. Правда, слыхал я, что ессеи иногда заводят семью. Может, он из таких? Сейчас выясним!» – Так подумал Яаков, а вслух произнес:
– О, понимаю! В нынешние лихие времена трудно воспитывать сына в столице. Столько языческих соблазнов для молодых людей! Хоть и близко к Храму, да благочестия в тамошнем народе ни на грош. Да и чего ждать при таком-то царе? – Яаков проговорил эти рискованные слова совсем тихо, как заединщик.
Йосеф же сделал вид, что их не расслышал:
– О нет, мой сын еще совсем маленький. Вчера родился.
– Да будет он благословен! Но для маленьких детей Иерусалим, говорят, тоже нехорош. Слишком много народу, того и гляди начнется поветрие какое-нибудь… А еще я слыхал… – Яаков сделал многозначительную паузу.
– Что ты слыхал?
– Да глупости всякие болтают… Дескать, Ирод только притворяется иудеем, а сам тайно приносит Молоху в жертву младенцев, как в древние времена в Гинноме[116]116
Глубокий овраг, ограничивающий Иерусалим с запада. По преданию там язычники бросали в огонь младенцев. Отсюда произошло название «Геенна огненная».
[Закрыть].
– Вот уж действительно глупости.
– Может, и глупости, да только на пустом месте слухи не растут. Не далее как вчера прискакал гонец из Иерусалима, зачитал царский приказ: всем семьям, где родился или должен скоро родиться ребенок, немедленно известить о том местные власти, а если кому известно станет о таких, что не сообщат, вменяется в обязанность на них доносить. Но ты не бойся, я тебя не выдам, господин мой, не таков я, чтобы способствовать этому выскочке-идумеянину, этому римскому лизоблюду в его черных делах! Мои дед и отец всегда стояли за Хасмонеев.
– Это хорошо, сын мой, это хорошо, – пробормотал Йосеф, погруженный в тревожные думы.
– Я так понимаю, что жену с младенцем ты неподалеку оставил, – это мудро. Как стемнеет, приводи ко мне, уж я вас укрою надежно.
– А что, много ль у тебя постояльцев?
– О них не беспокойся! Местные жители у меня, само собой, не останавливаются, а приезжие о приказе не знают. Да и уедут сегодня трое, а оставшиеся двое тебе не опасны.
– Кто они?
– Бог знает. Чужаки. Один – египтянин из Александрии, голова бритая, стыдно смотреть. Он ее оливковым маслом смазывает, чтоб ярче на солнце блестела. Зовут то ли Атентетыр, то ли Асонсосер, не разобрал. Про себя называю его фараоном. Другой – не пойми кто. То ли перс, то ли индиец, с востока. Лицом темен, что твой ку́ши[117]117
Негр (ивр.).
[Закрыть], волос красный – хной крашенный, не иначе, а имя тоже такое, что и не выговоришь, не упомнишь – бартрахартра какая-то, я и не трудился запоминать. Этот у меня – халдей.
– Как же ты с ними ладишь?
– Хорошо лажу. Они хоть и пага́ны[118]118
Язычники (ивр.)
[Закрыть], но люди честные, тихие, состоятельные, особенно «халдей». По всему видать – во дворце жить ему привычнее, чем в таком убожестве. – На этих словах Яаков не без гордости развел руками, показывая свои немалые владения и основательный каменный дом в два этажа. – Говорю с ними по-гречески, когда надо, да немного-то и надо им со мной говорить. Они целыми днями друг с дружкой болтают.
– Так они вместе пришли?
– В том-то и дело, что нет! – Хозяин гостиницы хлопнул одним махом целый кубок кислого вина, сморщился, заел сахарным фиником. Не замечая, он сам стал отвечать на вопросы. – «Фараон» прибыл с караваном три недели назад, а «халдей» – полторы. Ему сюда надо было, а он по ошибке сперва в галилейский Бейтлехем попал. У меня они и познакомились. Ведь за одним делом они здесь…
– И за каким же?
Яаков напустил на себя таинственный вид и даже оглянулся по сторонам для убедительности:
– Да все за тем же… Сначала «фараон» стал допытываться про родившихся в городе младенцев мужского пола. Город наш невелик, все на виду. Я разузнал, что за последний месяц родилось трое – две девочки и один мальчик, но он не выжил. Тогда «фараон» расстроился и говорит: «Неужто я ошибся в расчетах?» Я, конечно, спросил, о чем это он? А он отвечает рассеянно так, мол, знаю, что у вас читать будущее по звездам запрещено. Ну да, отвечаю, на то пророки имеются. У нас же, говорит, – это первейшая из премудростей, и я в ней достиг некоторых успехов. И вот звезды мне открыли, что где-то здесь исполнится древнее предсказание и родится царь всего мира. Я, говорит, про это в одной рукописи нашел в александрийском книгохранилище. Мне занятно стало, как звезды могут точное место указать? А он объяснил, что вся хитрость в наблюдении за ними. Два пергамента дорогих исчеркал какими-то закорюками, про углы говорил, про то, что ход небесных тел на земле отражается, да я все одно ничего не понял. Кроме того, что где-то тут ходы эти и пересеклись. Правда, сказал, место рождения неточно дано, он думает, по… погрешность измерения, потому как в том месте только змеи да скорпионы родятся. Я, понятное дело, решил, что он с придурью, и думать забыл. Как тут является второй, «халдей», – с караваном богатейшим из страны Син, каких у нас от роду не бывало – такие водят все больше вдоль моря, ну или Царской дорогой! Караван ушел себе на Хеврон, а «халдей» у меня остался. И сразу спрашивать – кто тут у вас родился? Ну, думаю, принесло еще одного безумца на мою голову! Родились, говорю, две девочки. Он опечалился: «Я – царь толкователей снов, а свой собственный сон понять не сумел! Горе мне!», и все такое прочее. Я спрашиваю – что за сон? Снилось мне, отвечает, три ночи подряд, что в доме хлеба рожден будет Сын Света, о котором предрекал Затар… Затра…
– Заратуштра?
– Вот-вот, он самый! И, говорит, бросил я все, что имел, – тут он приврал, конечно, потому как немало с собой захватил, – и пустился по свету искать дом хлеба. Счастливая звезда моя вела меня на запад и вот остановилась тут… – он, вроде бы, как-то так сказал, мудрено его греческий понять – и я узнал то место, которое видел во сне. И надо ж такому случиться, что все оказалось зря! Пожалел я его и говорю: не один ты с этим сюда пришел, так что, может, и не ошибся вовсе, а просто твой этот Сын Света еще не родился пока. Он как про второго искателя услыхал, чуть ума не решился от радости, даже заплясал, будто пьяный на поминках. Веди, кричит, меня к этому достойному человеку, и целый динарий мне в руку сует.
– И что же дальше?
– Вот они вдвоем с тех пор время и коротают. То рисуют что-то, то фигурки резные двигают на клетчатой доске – колдуют, верно, то спорят, то ссорятся – правда, тихо, без тумаков, потом мирятся и музицируют.
– Музицируют?
– Ну да. «Фараон» – на лире, а «халдей» – на свирели. Очень складно выходит, мне нравится.
– Послушай … Ох, забыл спросить, как зовут тебя!
– Яаков к твоим услугам.
– Вот что, Яаков. Прими-ка и мой динарий да познакомь меня с этими господами! Я – человек любопытный, а ты уж больно занимательно про них рассказал.
Ночь на 2 сентября 1939 года
Роминтенская пуща
красивая женщина в синем покрывале на золотых волосах подошла и присела рядом и было как-то понятно что она это я хотя и другая лицом и светлая но во сне так часто бывает и не удивляет совершенно когда сон про кого-то другого а вот что увидела себя удивило и подумала еще это к смерти но не испугалась а наоборот успокоилась а она погладила по плечу и ничего не сказала но стало ясно что все понимает как никто никогда не
Проснулась от поцелуя в макушку, теплого и щекотного, – сначала даже подумала – отец? Открыла глаза – словно очутилась в кинозале, когда на экране показывают ночь. Мгновением позже поняла, что ночь и есть. Марти стоял на коленях, положив руки мне на плечи, и смотрел так, будто ждал ответа. Ответила, конечно, «да» – хотя и не слышала вопроса. Он кивнул, притянул, прижал к себе – всего-то на пару секунд, помог подняться.
Мотя с наступлением темноты успел побывать в поселке на берегу озера – он сказал, кажется, Билленау. Около него торчал неизвестный в брезентовом дождевике, кепке и рыбацких сапогах. При ближайшем рассмотрении – скелетоподобный человек с треугольными впадинами вместо щек и узко посаженными глазами-дырочками в глубокой тени белесых надбровий. Харон-Хароном. Впрочем, в лунном свете все выглядят несколько потусторонне. «Идемтихобыстро!» – бросил незнакомец по-немецки с неявным акцентом, не дожидаясь, пока я надену рюкзак, повернулся и резво зашагал по одному ему заметной тропинке. Мотя лишь развел руками и извиняюще бросил, когда я поравнялась с ним: «Не в духе. Говорит – война началась, рискуем сильно. Плату двойную взял…»
Шоно шел вторым, Марти следом за мной, Беэр – в арьергарде. Луна ленивой рыбой плыла справа, то и дело подныривая под сети ветвей, и вполглаза следила за нашим отрядом. Редкие восклицания и всхлипы ночных птиц гнетущей тишины не нарушали – подчеркивали.
Идти по однообразным холмам под такой аккомпанемент стало невыносимо тоскливо уже через пять минут. Я попыталась привести в порядок мысли, да только на них все время наплывал огромной черной кляксой вопрос: «Что с нами будет?» Поскольку единственно верный ответ на него можно было узнать лишь одним способом, плюнула на размышления и начала просто считать шаги. Так и заснула бы на ходу, кабы Мотя, не менее моего изнывающий от молчания, не стал подавать реплики драматическим шепотом. А может, просто хотел меня подбодрить. Сказал, что проводник наш – литовец, женатый на немке. Знает эти места не хуже, чем мальчишка содержимое своих карманов. Что в последние три месяца переход границы для прикордонных жителей с обеих сторон был значительно облегчен и патрулирование производится больше для порядку, да и вообще, всей пограничной стражи в Литве – кот наплакал. Что главное – не наткнуться на внеурочный немецкий патруль, который может встретиться на пути по причине военного времени, но если соблюдать осторожность…
Здесь проводник остановился и злобно прошипел: «Яжесказалтихо!», и весь дальнейший путь мне пришлось мыкаться в бессловесной тоске.
Лес скоро кончился, потянулись плешивые холмы, два раза по четверти часа пришлось лежать в кустах, пережидая нечто, видимое лишь проводнику. А потом вдруг резко потянуло свежим озерным запахом, и мы нырнули в плотный, как овсяный кисель, туман. Одежда тотчас сделалась волглой, на лицо налипли тысячи холодных капелек – это бодрило. Берег окончился так неожиданно, что мы чуть не посыпались в воду брейгелевскими слепцами – с трехэтажной высоты. «Харон» ощутимо успокоился, в своей скупой и вязкой манере сообщил, что «туманхорошо» и что «здесьезероузко, обрыввысокяй, никтонеждет», после чего счел разъяснения исчерпывающими и стал копаться в корнях громадной кривой сосны. Вытащил из тайника веревку, ловко принайтовил к стволу, показал вниз. Шоно ушел первым – как в воду канул. Проводник повернулся ко мне – лица его было не видно, но поняла – сомневается. Неожиданно для себя возмутилась – хотя казалось бы – чем? – и в три секунды соскользнула дюльфером[119]119
Сравнительно безопасный способ скоростного спуска с отвесных склонов при помощи веревки, разработанный в начале XX века немецким альпинистом Гансом Дюльфером. (Ред.).
[Закрыть]. И тут же была наказана за гордыню – обожгла бедро и чуть не убилась о торчащую из склона корягу. Еле удержалась, чтобы не вскрикнуть от боли, но не вскрикнула – от стыда. Остальные спустились без приключений.
За вцепившимися в узкую кромку песка кустами оказался обширный песчаный грот – рукотворный, укрепленный изнутри деревянными брусьями, а в нем большая лодка. «Харон» бесшумно спустил ее по каткам на воду, осмотрел нашу команду и велел Моте сесть на весла, Марти с Шоно отправил на носовую банку, меня усадил на дно в ногах у Моти вместе с кладью, а сам устроился у руля.
Перекрестился – чем удивил. Скомандовал: «Вперед!»
Два вооруженных человека шли по тропинке вдоль берега. Тот, что постарше, нес карабин на плече, шагал размеренно и привычно, зевая и ежась от сырости, второй – передвигался в синкопированном ритме, зыркал по сторонам, а оружие держал на груди, несмотря на то что ремень нещадно натирал ему тонкую шею, – словом, вел себя как положено новичку.
– Беда с тобой… как тебя там? – скучно сказал старший.
– Гинтас, – буркнул младший. – Третий раз уже спрашиваешь.
– Ладно, не злись, а то еще прыщ на носу вскочит. Ну, суди сам, разве не беда с тобой, Гинтас?
– Это почему так?
– Да потому, что на кой ляд ты мне тут нужен?
– Я что, навязывался, что ли? Мне приказали – я пошел.
– А в «Шаулюсаюнга»[120]120
«Шаулюсаюнга» («Союз стрелков») – созданное в Литве в 1918 году подобие национальной гвардии в подчинении Генштаба. В «Союз стрелков» принимали с 16 лет.
[Закрыть] тебе кто приказал идти, молокосос? Мамочка? Тоже мне – стрелок! Ты стрелять-то умеешь хоть?
– Умею, и получше тебя! У меня медаль…
– Ага, две медали. Ври больше – скорее поверят!
– Не веришь – не надо! И чего ты ко мне привязался, а? Я, что ли, виноват, что тебе спать не дали?
– А кто виноват? Если б таких, как ты, долбовольцев не было, никому бы в голову не пришло вами границы усиливать. Да кончай уже по сторонам пялиться и винтовку не тереби, а то пальнешь в меня ненароком! Я второй год служу, знаю – никаких нарушителей тут не бывает. Сам подумай, дурья башка, кому здесь надо тайком переходить?
– Второй год служишь, а даже одной лычки не выслужил!
– Это потому, что я перед начальством не выпендриваюсь. А геройство тут проявить никак нельзя. Йэх… Да ты молодой еще, тебе не понять. Сколько тебе?
– Восемнадцать.
– Врешь! Тебе и семнадцати нет, я же твои документы видал, дурень! Кабы не было здесь спокойно, думаешь, послали бы таких сопляков на подмогу? Да нас тут на всю границу с немцами всего человек двести, и ничего, как-то справляемся.
– Так зачем нас сюда послали, по-твоему? Командование, небось, не глупее тебя, а сидит повыше и видит подальше.
– Вот я и говорю – дурной ты еще. Начальству главное – что?
– Что?
– Жопу прикрыть, вот что! И чтоб на бумаге все было красиво. Приказано усилить пограничную охрану – вот, усилили вдвое. А что толку от вас – зеленых, необученных, – ноль, так об этом в реляциях не пишут.
– Ну, а зачем нужен какой-то толк, если ты сам говоришь, что тут все равно никто не ходит? А? Съел, умник? Самому-то двадцать всего, а гонору на все тридцать.
– Во-первых, двадцать один. Во-вторых, я и вправду не знаю, что тут может стрястись. Да ведь начальство и само не знает, чего ждать, вот и принимает меры на всякий случай, только толку от этих мер ни при каком раскладе не будет. В чем, по-твоему, состоит задача пограничной стражи? В том, чтобы при внезапном вторжении противника оказывать посильное сопротивление вплоть до прибытия подкрепления. А теперь прикинь, какое сопротивление мы с тобой можем оказать с нашими двумя пукалками, если на нас немцы попрут или поляки? Да они и не станут озеро форсировать – сбоку влегкую обойдут. Так что все, что мы можем, – это нарушителей ловить, а в этом проку от тебя не будет.
– А с тебя, значит, будет? Откуда ты знаешь, если никогда их не ловил?
– Будет. Меня-то этому учили. И вообще, отстань от меня и иди тихо, а то по тыкве схлопочешь!
– Я и не приставал, очень надо.
– Вот и заткнись!
Некоторое время пограничники шли молча. Первым голос подал младший:
– Шарунас!
– Чего тебе?
– Вот ты говоришь, что нарушителей тут не бывает…
– Ну?
– А это тогда кто? Святые апостолы? – Гинтас торжествующе показал на выплывавшую из туманного сгустка лодку.
– Ах ты, мать честная! Ну и везение у тебя, парень! Ох… Вот что… Тут метров сто пятьдесят, пока они причалят, пока наверх вскарабкаются… Ты это, Гинтас, шуруй что есть духу на заставу, поднимай в ружье! А я пока за ними прослежу. Далеко уйти не успеют. Дуй давай!
По лицу новобранца было понятно, что роль мальчика на побегушках его не устраивает. Он нерешительно потоптался на месте и спросил:
– А почему мы это… не вступим в бой? А на заставе бы услышали и прибежали.
– Ты дурак или как? Какой бой? Их четверо, а за спиной у них не удочки торчат, а стволы, и они их не просто так носят, как некоторые. Ухлопают тебя, а мне отвечать! Короче, я приказываю: одна нога здесь, другая там! – Шарунас демонстративно отвернулся и припал к биноклю.
Гинтас нехотя повернулся и небыстро побежал, хлопая голенищами здоровенных сапог. Его напарник во все глаза вглядывался в быстро приближающуюся лодку. Теперь он видел, что людей в лодке не четверо, а пятеро, – один сидел на дне и оттого был малозаметен из-за спины гребца, и неудивительно, поскольку этот гребец был сам шириной с лодку. Не успел Шарунас порадоваться, что послал за подмогой, как тишину разодрал выстрел. Лодка тотчас начала разворачиваться – тут слева громыхнуло снова, и один человек из нее рухнул в воду. Шарунас лишь теперь сообразил, что происходит. Гигантскими скачками он понесся в направлении, в котором послал мальчишку, и едва успел толкнуть того под локоть, так что пуля, предназначавшаяся кому-то из пассажиров лодки, обиженно взвизгнув, ушла в туманное молоко.
Гинтас обернулся недоуменно:
– Ты спятил? Я бы сейчас второго снял! – И тут же получил тяжеленную затрещину по лучащемуся гордостью и ликованием лицу. Размазывая хлынувшую из носа кровь по юным щекам, крикнул: – За что?
– За что?! – заорал в бешенстве Шарунас. – А за что ты его убил, идиот несчастный?
– Он же нарушитель… – пролепетал Гинтас.
– А что, за нарушение границы у нас смертная казнь без суда и следствия, говнюк ты этакий? Да он даже на берег не вышел! Тебе же, засранцу, литовским языком объясняли – граница проходит по нашему берегу! Господи, ну откуда ты взялся на мою голову, стрелок ты недоделанный?
Первый выстрел расщепил правый борт совсем близко от меня – в щеку брызнули деревянные иглы, – и в тот же миг слева снизу – вода. «Харон» крикнул: «Жми!» и резко заложил руль влево, Мотя выругался матерно и замолотил веслами с бешеной скоростью. Потом еще выстрел – почти не услышала его – из-за грохотания собственного пульса в ушах, почувствовала, что корма резко приподнялась. Обернулась, а «Харона» нет. Был еще, кажется, третий выстрел, а после – ничего, только сумасшедший плеск воды и паровозное дыхание Моти. Поднялась и села к рулю, хотя смысла в том было мало, но зато убедилась, что Марти и Шоно живы.
Мотя домчал нас назад с невероятной скоростью – лодка врезалась в песок с такой силой, что я не удержалась на банке, упала на колени в стремительно прибывающую воду. Спешно выгрузились на сушу, по счастью, всего метрах в пятидесяти от схрона. Оттолкнули полузатопленное суденышко от берега, не сговариваясь, кинулись в грот. Первое, что сказал Мотя, рухнув на деревянный настил и отдышавшись: «Как вам повезло, что я когда-то был загребным в Кембриджской сборной! Самым тяжелым за всю историю, между прочим». Потом добавил по-русски: «Жалко Донатаса. Хороший был мужик, хоть и жадный. Вода ему пухом». Марти спросил: «Что будем делать?» Шоно ответил: «Пережидать переполох в курятнике».
Старый лис как всегда оказался прав. Через несколько минут издалека донеслось монотонное гудение лодочного мотора, – быстро наросло до forte, – пронеслось мимо нашего укрытия fortissimo, убыло – morendo, потом вновь вернулось – и вновь убыло.
– Си большой октавы, – вдруг сказал из кромешной темноты Мартин.
– Скорее, си с четвертью, – поправил его Мотя, когда звук вернулся опять.
– Это тебе из-за эха кажется, – вступил Шоно. – Тут чистое си.
Под это чистое си я заснула – как будто меня выключили.
барух ата адонай элокейну мелех а олам[121]121
Благословен Ты, Господи, Бог наш, Царь мира (ивр.).
[Закрыть]
иже еси на небеси
ну и так далее
ты знаешь
сказать по чести, не очень-то
но чувствую себя самозванцем
я никогда ни о чем тебя не просил
ну разве что тогда
я помню
да
но никогда за себя
уж это точно
мне вообще ужасно не нравится весь этот а идише шахер-махер[122]122
Еврейская торговля (идиш).
[Закрыть]
с тобой
я думаю
тебе очень трудно с нами
я даже наверное сочувствую
хотя это смешно
да
в моем нынешнем положении
кто лучше тебя знает
какая у меня в душе сейчас срань господня
ой
прости господи
ничего
у меня тоже
вырвалось
просто
с’из мир ништ гит[123]123
Мне нехорошо (идиш)
[Закрыть]
черт кому я объясняю
идиот
ты же меня как облупленного знаешь
что я грешен
людей убивал
стечение обстоятельств
это на мне
но никогда никогда не делал никакого паскудства
нарочно
по крайней мере
я думаю
а ты?
истинная правда
господи
я рехнулся совсем
я ведь всегда чувствовал
что ты меня любишь
как родного
и это правда
ты столько мне дал
я благодарен изо всех сил
не стоит
ты не думай
благодарности
но я все-таки тебя только разочек попрошу
сделай пожалуйста так
чтобы все это не зря
ох
я
пусть даже я не узнаю
очень
зачем оно было нужно
постараюсь
и пусть она
ну ты понимаешь
надеюсь
что да
бикицер[124]124
Короче (идиш).
[Закрыть]
я рассчитываю на тебя
цум видер зеен[125]125
До свидания (идиш).
[Закрыть]
омейн[126]126
Аминь (идиш).
[Закрыть]
до свидания
я тоже
во сне знала что сплю потому что снова явилась та в небесно-голубом на золотых волосах положила мою голову себе на колени и стала гладить нежно как старшая сестра она сперва казалась так молода а потом начала говорить и стало ясно что она древняя старуха хотя на лице не было ни морщинки но глаза глаза а потом она стала рассказывать свою жизнь по-арамейски и мне все было понятно и совсем не удивительно потому что когда я пошутила про третий сон Веры она тоже поняла и засмеялась а ведь казалось бы откуда ей знать
27 год нашей эры
Восточная Галилея
Впервые я увидела его, когда уж решила все – конец мой пришел. Так уж били меня, так били… По всей деревне протащили за волосы, одежду изорвали – наготу нечем прикрыть. Вот ведь, меня убивать волокут, а я про стыд думаю. Это я к тому, что бесстыдницею никогда не была. Грешницей, конечно, но я про свои грехи все знаю получше прочих. Вот гордыню, к примеру, никак не изживу. А что мужчин у себя принимала, так ведь жить как-то надо было. Я пришлая была, чужая. Говорить по-местному не умела. После того как муж мой умер, никто меня к себе пускать не хотел – женщины, понятно. Не по душе им было, что их мужья на меня заглядываются. И как тут прокормишься, если единственное ремесло мое городское – женщинам красоту наводить? Выживали меня из селенья. Я бы и сама ушла с радостью, да только некуда было податься. Все, что у меня было, – дом да коза. А тут приходит мужчина и говорит, чтобы я легла с ним за плату. Я сначала на порог его не пускала, так он пригрозил, что если не отдамся ему, со свету сживет. И сжил бы, я не сомневалась, – бедную вдовицу защитить некому. Так и покатилось – один другому похвастал, другой – третьему… Денег у меня прибавилось, а вот жизнь легче не стала – за водой ходить затемно приходилось, чтобы не встречать женщин. Особенно Двора колченогая по прозвищу Пророчица[127]127
Двора – пророчица – персонаж Книги Судей.
[Закрыть] меня ненавидела. Как встретит, так начнет честить на чем свет стоит! А мне и ответить нечем – правда ее была. Но один раз не выдержала и бросила ей, мол, меня за деньги все хотят, а ты и даром никому не нужна. Зря, конечно. Нажила смертельного врага – да и только. Это ведь она всех и подстрекала меня камнями побить. И добилась своего. Мужчины, которые прелюбодействовали со мной, все больше в сторонке держались, но один из них – Эйтан, муж той самой Дворы, – меня таки и выволок за косы из дома. Он всего раз ко мне приходил, но ничего у него не получилось, так он деньги назад потребовал. Я отказала, а он силком отобрать попытался. Ну, я ему лицо-то и расцарапала. А теперь он отыграться решил.
Вытащили меня на улицу, наземь швырнули, как падаль, стали камни собирать. Мне бы молиться да пощады просить, вдруг бы они сжалились, а я, как назло, все молитвы забыла и будто онемела – только плачу тихонько. Страшно мне было и горько – ведь всего-то на ту пору неполных двадцать лет на свете прожила. Подняла я голову – в последний раз на небо посмотреть, да один глаз подбитый – не открыть, а в другом все от слез расплывается. Но все же углядела неподалеку двоих незнакомцев.
Один из них и спрашивает, вроде негромко, но так важно, что все вдруг замолчали и к нему обернулись:
– Мир вам, уважаемое общество! Позволено ли мне будет осведомиться, чем так прогневила вас девица, что вы ополчились на нее столь рьяно?
Так он говорил – точно по-писаному, – и все слова его я стала запоминать с той самой минуты и хранить в сердце. Памятью-то меня Господь не обидел. Но пуще слов мне тогда в душу голос его запал. Такого ангельского голоса ни у кого никогда не слышала и, верно, уж не услышу, пока не умру.
И все вокруг тоже что-то такое почувствовали и оробели. А может, и не поняли его толком, ведь он не по-галилейски говорил, а, скорее, по-нашему, по-иудейски. Поэтому он вопрос повторил попроще да построже:
– Люди, за что вы ее убиваете?
Тут Двора хромая опомнилась и как закричит, мол, шлюха она бесстыжая, прелюбодейка, развратница, приблуда мужебесная, разрушительница семей, грешница, семью бесами одержимая, и все в таком роде, а ты сам-то кто такой, мы твоего имени знать не знаем и ответ держать перед тобой не намерены, может, ты и вовсе проходимец, вор или разбойник!
А он усмехнулся и говорит:
– Может, и разбойник, а может, и нет. Зовут же меня Йеошуа. А вы здесь, как я понимаю, все праведники, особенно вон те, что поодаль, потупясь, стоят? Никто из вас ни разу не прелюбодействовал даже в сердце своем? Чужого не возжелал? Субботу не нарушил? Не солгал? Коли так, закидайте и меня камнями, ибо в отличие от вас грешен аз!
Тут Менаше-дурачок булыжником в него и запустил со всей своей дури. А он хоть умишком был слабже трехлетки, да мышцею силен – по-бычьи. Но Йеошуа камень, что ему прямехонько в голову летел, посохом отбил запросто, а другие, увидав такое, кидаться побоялись. Он тогда засмеялся и сказал:
– Что же, больше безгрешных нет среди вас? Тогда ступайте по домам и не грешите, и помните, что убиение себе подобного – самый великий грех. А с девицей сею я сам буду говорить. И бесов изгоню, коли они в ней сидят.
И вот диво – все мигом разбрелись покорно, как овечки, будто ветром их сдуло! Одна Двора и осталась стоять, уж больно не хотелось ей передо мною слабость показывать, но только долго и она не выстояла, плюнула да так с камнем и поковыляла восвояси, выбросить забывши.
Тут только до меня дошло, что я чудом жива осталась, – кинулась к нему в ноги, обхватила колени его что было сил, да и чувств лишилась.
Когда очнулась – уже вечерело. И снова – чудо! Ничегошеньки у меня не болело, а самое удивительное – глаз подбитый почти совсем открылся! И вот я вижу, что лежу под хлебным деревом, тончайшей, что твой виссон[128]128
Виссон – белая или золотистая тонкотканая, чрезвычайно легкая и прочная материя, часто упоминающаяся в исторических документах и Библии. Изготавливалась то ли из льна, то ли из белкового секрета морского моллюска Pinna nobilis и отличалась очень высокой ценой.
[Закрыть], тканью прикрытая, а спаситель мой рядышком сидит и со своим спутником беседует негромко. А о чем, мне непонятно, потому что не по-нашему.
Лишь теперь и смогла его хорошенько рассмотреть – украдкой, ведь лучше всего человека разглядывать, когда он о том не знает. Что худой он и росту высокого, то я еще раньше заметила, а вот сейчас увидела, что волос у него темно-рыжий, жесткий, густой и вьющийся – такой стричь да укладывать одно мучение, уж я-то знаю. Борода курчавая, обильная, чуть не из-под самых глаз начинается, лицо бронзовое, обветренное, а больше ничего видно не было – он боком ко мне сидел. А потом вдруг обернулся, словно взгляд мой почувствовал, я и обомлела – глаза у него были зеленые-презеленые, как первые листочки на дереве. Таких я у людей никогда не видела, только у кошек, а слева на медных волосах белоснежная прядка и посерединке на левой брови – тоже, будто на него сметаной плеснули. На это сначала было не очень приятно смотреть, и отчего-то боязно, а потом, когда привыкла, стало даже нравиться – ну, с непривычными вещами оно всегда так. Вот и тогда я вздрогнула и взгляд опустила, но он это по-своему понял, улыбнулся и говорит своему приятелю, но так, чтобы и мне понятно было, – по-гречески:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.