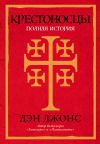Текст книги "Деревянный ключ"

Автор книги: Тони Барлам
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
– Кути! – крикнул он.
– Мути! – отозвался Мартин, аккуратно тремя пальцами взяв из воздуха полыхающую металлическую коробочку.
– Это такая игра – «кути-мути», я сам ее придумал в окопах, когда приходилось в полной темноте что-нибудь кидать друг другу на голос! – похвалился Беэр. – Только лучше всего в нее играть в полной темноте горячими утюгами – так жульничать труднее.
– Вы все-таки определенно сумасшедшие! Нас через шесть часов, скорее всего, убьют, а вы развлекаетесь какими-то дурацкими играми! Я не говорю уже о том, что перебрасываться горящими зажигалками на сеновале – это какой-то… какое-то немыслимое мальчишество! – Веру всю трясло от возмущения.
– А по-моему, вполне себе игра, – обиделся Беэр. – Ну, если вам не нравится, давайте поиграем в шарады. Но предупреждаю: я в этом не силен!
– Да ну вас! Жить осталось всего ничего, и на что мы это ничего тратим? Вы что, и на войне так же развлекались перед боем?
– О нет! – Беэр закатил глаза. – Накануне решительной битвы мы все как один писали героические письма невестам, сочиняли предсмертные стихи, исповедовались полковому капеллану и братались с товарищами по оружию. Ха! Верочка, ангел мой, врожденный стыд не позволяет мне рассказать вам, чем именно мы забавлялись в роковые минуты нашей жизни на самом деле. Человек – на войне или нет – может умереть в любую минуту, но это же не повод всю жизнь проходить с траурным выражением лица! Напротив, надо радоваться каждой минуте, наслаждаться каждым вздохом, восторгаться чудом бытия! Вот чего, кстати, я не приемлю в христианстве – откладывать жизнь на после смерти ужасно глупо, по-моему. Это как всю жизнь отказывать себе во всем, чтобы скопить на приличный надгробный памятник.
– Вы меня убедили. Немедленно начинаю восторгаться чудом бытия. Тем более, что перспективы у нас самые радужные. Но при этом хотелось бы все же понять, почему бы нам не совершить вылазку в стан противников и не попробовать перебить их первыми? Ведь война уже объявлена, и все эти ваши чистоплюйские рефлексии можно, наконец, отбросить!
– Какая вы кровожадная, Верочка! – усмехнулся Шоно. – Просто воплощенная Кали.
– Жаль, что не Минерва, – подхватил Беэр. – Мне неясна стратегическая составляющая предлагаемой экскурсии.
– Нет, я отдаю себе отчет в том, что они этого ждут и обложили нас со всех сторон. Но драматург Чехов учил, что если в первом акте пьесы на стене висит ружье, оно обязано выстрелить. У нас по стенам развешана чертова уйма ружей. А мы сидим сложа руки и ждем, когда нас поведут на убой? Неужели не обидно сдаваться без единого выстрела?
– Мы не сдаемся, мы совершаем самый разумный в создавшемся положении шаг, – прервал свое молчание Мартин. – Герр Рудольф, как бы он ни был тебе противен, – наш единственный шанс.
– Боже правый! Да почему вы верите ему? Он же хитростью добился того, чего не смог взять силой! Он сказал, что Гиммлер сказал, что Геринг сказал… Откуда мы знаем, что его слова – это правда?
– Увы, это правда, моя дорогая, – вздохнул Шоно. – Специалисты, подобные герру Рудольфу, всегда выставляют непробиваемую психическую защиту – панцирь, броню – с тем, чтобы, так сказать, не заразиться от клиента. И если психиатр-гипнотизер экстра-класса – а наш именно таков, уж поверьте! – свою защиту теряет хотя бы на мгновение, значит, он находится в состоянии крайней растерянности и даже паники. Он, конечно, изрядный лицедей, но нарочно такого не сыграешь. А я к подобным вещам весьма чувствителен.
– А я уж на что нечувствителен, но все равно понял, что не врет, – поддакнул Беэр.
– Ну хорошо, предположим, он не врет! – не уступала Вера. – И даже намерен действительно нам помочь. Но что ему помешает, заполучив нас, переменить свои намерения?
– Забавно, что из всех нас ты одна этого не видишь, душа моя, – рассмеялся Марти, выбивая трубку о каблук. – Он же без ума от тебя.
– Вот еще глупости! – возмутилась Вера, дернув плечом. – Уж что-что, а такие вещи я чувствую получше всех вас, вместе взятых.
– И тем не менее, – мягко возразил Шоно, – для нас это очевидно. Вы не обратили внимания, что болезненно он отреагировал только на ваш выпад? Это самый яркий показатель, но было и много других, менее явных. Все это дает нам повод утверждать, что главный приз в игре герра Рудольфа – вы, моя драгоценная.
Вера подавленно замолчала, потом выдала последний отчаянный аргумент:
– Но он же умный человек! Он не может не понимать, что его шансы равны нулю?
– Даже если он, к примеру, предложит тебе стать его – взамен на наши жизни? – спросил Мартин.
– А он может такое?.. – пролепетала Вера.
– Насколько я успел его узнать – вполне. То есть я не утверждаю, что так оно и случится, но… Сама видишь – шанс есть, а синьор фокусник не из тех, кто упускает шансы.
– Так или иначе, – пророкотал Беэр, – в этой игре вы наш ферзь.
– Хорошо хоть козырной дамой не обозвали, – мрачно ответила Вера.
– Я тридцать лет как зарекся играть в карты, – зачем-то сообщил Беэр. – Слишком уж азартен. Сменил бумажки на деревяшки, дабы компен…
– Стоп! – воскликнула Вера. – Деревяшка! Ведь все ингредиенты налицо! Почему бы вам не сделать этого вашего ноцара? Он же нужен для убеждения? Так, может, он выйдет и убедит этих чертовых нацистов убраться к их нацистской чертовой матери?
– Охохо, – вздохнул Шоно. – Разумеется, нам всем приходила в голову эта мысль.
– И что же?
– Здесь много «но». Во-первых, мы не можем быть уверены в результате. Даже если у нас все получится…
– Что значит – если? Вы меня так уверяли в том, что все на мази…
– Видите ли, Верочка, – встрял Беэр, – любой эксперимент, – даже тысячу раз удававшийся прежде, – может однажды провалиться.
– Ну, предположим, что не провалился. В чем загвоздка?
– В том, что мы не знаем наверняка, какими свойствами будет обладать наш ноцар, – ответил Мартин.
– А во-вторых, – перехватил разговор Шоно, – очень велик риск того, что ноцар попадет в руки к нацистам. Вы понимаете, чем это чревато.
– Вы же сами говорили, что без нас поблизости он долго не протянет!
– Кто его знает… – Шоно поежился и словно вдруг постарел. – Но дело даже не в этом.
– А в чем?
– Дело в том, что для вас участие в эксперименте может обернуться гибелью.
– Но я не буду подсматривать!
– О, в этом я не сомневаюсь!
– Так что же?
– Марти, я могу рассказать?
– Думаю, ты обязан.
– Хорошо. Вера, когда Марти сказал вам, что его первая жена умерла родами, это была полуправда. Мы… я был уверен в том, что Мари – Шхина. Это была моя самая большая и непростительная ошибка в жизни…
– Я догадывалась об этом. И понимаю, что вы, обжегшись на молоке, склонны дуть на воду. Не волнуйтесь. Я готова рискнуть. Мотя, тащите ваш саквояж! Жалко же будет умирать, не попробовав совершить настоящее чудо.
– Ну вот, а я вам что говорил? – проворчал великан с удовлетворением.
здравствуй
здравствуй
не знаю, как тебе
а мне немного странно
что я к тебе обращаюсь
не скрою
не ожидал
ты же буддист
это не молитва
и слава богу
и все же это противоречит всему
что я привык считать своей натурой
ты всегда был для меня загадкой
но парадоксальным образом
в этом и заключается причина моего обращения
надо сказать, что я впервые так взволнован
не верю своим ушам
и оттого речь моя невнятна
поясню
попробую
я напоминаю себе одичавшую собаку
которая всю жизнь гонялась за кошками
и вот, наконец, поймала
и не знает
что делать дальше
о
как мне знакомо
это ощущение
она стоит, прижав добычу к земле
и внезапно осознает
что побуждал ее к этому гону
вовсе не врожденный
понятный с младых когтей
охотничий инстинкт
а некое необъяснимое устремление
к мировому порядку
желание потрафить хозяину
которого у нее никогда не было
надо же
неужели ты
а еще
наконец-то
я похож сейчас на одноглазого
понял
у которого на старости лет прозрел второй глаз
я всю жизнь прожил своим умом
полагал это достаточным
привык к мысли
что просветление
не для таких
как я
и вот на краю могилы
в одночасье сбросил старую кожу
я знаю, что бессмысленно тебя о чем-то просить
увы
поэтому просто хочу
тебя поблагодарить
за то, что все же дал мне
напоследок
любовь
спасибо и тебе
если б не ты
я бы тоже
Не помню, как провалилась в сон. Не помню и самого сна – а ведь что-то снилось. Пробуждение было мучительным – в голове ныло и нудно жужжало, а какая-то важная мысль свербила под затылочной костью, неуловимая, как сверчок. Тело слушалось плохо, точно деревянное. Взгляд ни в какую не фокусировался. Попытки припомнить вчерашнее оборачивались настолько дикой головной болью, что пришлось их оставить.
Проснувшись же окончательно, я поняла, что такое смертная тоска.
Тоска – как перед экзаменом, к которому не готова, – только в тысячу раз сильнее. Тоска оттого, что очень страшно. Еще тоска оттого, что ничего не удалось. И оттого, что мои спутники стараются не встречаться со мной взглядом. И оттого, что я была совершенно не в состоянии понять, в чем провинилась перед ними.
Впрочем, друг с другом они тоже практически не разговаривали – сновали взад-вперед, что-то собирали, перетряхивали рюкзаки.
Беэр, кажется, шутил, но понять, смешно или нет, было тоже невозможно. Когда раздался стук в дверь, он подхватил свои ружья – за стволы, как лыжные палки – и пинком распахнул ее.
За дверью было белесое небо. Он обернулся, широко улыбнулся и нырнул в мутный прямоугольник, – будто в люк аэроплана, – и тотчас исчез из виду.
Следом за ним Мартин с пустыми руками даже не оглянувшись. Это было больно.
Шоно взял под немой локоть, сказал: «Идемте!»
Шагнув на свет, отчего-то удивилась, словно ожидала, что попаду прямиком в чистилище, а увидала дюжину вполне земных целящихся в меня людей в диковинных пятнистых одеждах. В голове сразу зашумело, как в приемнике, если быстро-быстро крутить ручку настройки. Вдруг почувствовала, насколько все эти мужчины меня вожделеют. Хотя нет, не все – один – с рацией за плечами – смотрел иначе.
Беэр, с руками, хитро связанными сзади, смотрел в небо и насвистывал веселый еврейский мотивчик. Рудольф, закончив возиться за спиной у Марти, принялся за Шоно. Потом подошел ко мне, помахивая тонкой, скользкой на вид веревкой. Посмотрел было мне в глаза, но дернулся, как от удара током, завилял взглядом. Мне не хотелось, чтобы он меня связывал, и он отошел, пробормотав: «Извольте держать руки за спиной!» Подобрал с земли Беэров штуцер, полюбовался, повесил на плечо, скомандовал: «Вперед!»
Двигались скоро – почти бежали, – то и дело подгоняемые шипящим «быстро-быстро-быстро!» – четырьмя группками. За каждым из нас следовало по трое конвоиров. За мною – Рудольф, радист со странным взглядом и загорелый здоровяк, чей взгляд всю дорогу я почти физически ощущала на своих ягодицах.
Судя по свету, брезжившему сквозь молочную дымку слева, двигались к югу. Как долго? Может, час, а может, и два. Время – как и пространство – в тумане становится совершенной абстракцией и определяется одною лишь усталостью. Привал случился неожиданно, – никакой команды передовой группе Рудольф не подавал, – видимо, было условлено заранее.
Когда мы подтянулись к полянке, все уже сидели на земле – мои спутники поодиночке – на расстоянии нескольких шагов друг от друга, эсэсовцы кучками – напротив. Первые на меня не смотрели, вторые то и дело поглядывали. Рудольф бросил наземь свой баул, предложил садиться. Страх мой куда-то улетучился, сменившись чуть ли не любопытством. Все эти парни – кроме угрюмого радиста – вовсе не производили дурного впечатления, а некоторые были даже вполне симпатичными. Они тихонько переговаривались, посмеивались, подгоняли амуницию, пили воду из фляг, вытряхивали камешки из ботинок. Лица их не выражали никакой угрозы – лишь профессиональную удовлетворенность ловчих и сдержанный интерес к добыче.
Отдышавшись, Рудольф произнес, не обращаясь ни к кому конкретно:
– Надо бы проверить на них узлы, – и – поднявшемуся было смуглому крепышу: – Сиди-сиди! Сам вязал, сам и проверю.
С тяжелым вздохом поднялся на ноги, опершись о ствол Беэрова ружья, аккуратно прислонил его к сосне, помассировал себе колени, неспешно подошел к Шоно, предложил воды. Тот отрицательно качнул головой. Рудольф деловито подергал веревку, стягивающую руки пленника, довольно хмыкнул, перешел к Марти. Повторил те же манипуляции с ним и с Беэром, вернулся на место, взялся за полюбившийся штуцер и собрался усесться, но застыл, услышав из-за спины резкое: «Всем встать!»
Скомандовал радист и, по тому, как все солдаты вскочили, поняла – имеет на это право. Брови Рудольфа поползли вверх. Он медленно повернулся и спросил с металлом в голосе:
– В чем дело, Эгон? Пока еще я здесь отдаю приказы, как старший по званию!
– Старший по званию здесь я – гауптштурмфюрер Эгон фон Кальтенборн! – отчеканил лжерадист, сняв узкополую каску, обнажил высокий с залысинами лоб, к которому прилипли блеклые перья редких волос. – А сыну еврейской цирковой шлюхи в СС делать нечего! Сдать оружие! – Он требовательно протянул руку ладонью вверх.
Рудольф зажмурился, словно получил пощечину. Меня прорвало – встав между ними, я громко бросила Кальтенборну:
– А что делаете в СС вы, тайный гомосексуалист? – И моментально почувствовала, что все окружающие мне поверили.
В его глазах прочитала свой смертный приговор. Он застыл на мгновение в позе просящего милостыню, а потом открытой ладонью резко ударил меня по уху – с такой бешеной силой, что дальнейшее мне пришлось наблюдать из ближайших кустов.
Словно в дурно смонтированной киноленте под бешеный звон в голове взамен тапера, увидела, как Рудольф совершил правой рукой нелепый, жеманный жест, будто хотел окропить прицелившегося в него смуглого здоровяка святой водой, – и верно – из-под пальцев фокусника выскользнула ртутно блестящая струйка, которая вонзилась здоровяку в горло и рассыпалась рубиновыми брызгами. Тот бросил карабин и попытался жадно схватить разбегающиеся драгоценные капли, но не удержал – завалился навзничь. В следующем эпизоде мне показали, как Рудольф, ухватившись за конец ствола, обрушивает на голову Кальтенборна приклад десятифунтового штуцера. Приклад пришелся ребром ровнехонько посредине аристократического лба и, разложив его надвое, завяз чуть выше переносицы. Гауптштурмфюрер удивленно поглядел на это неожиданно появившееся украшение, пал на колени и остался стоять, опираясь о ружье головой.
Мне уже почти удалось подняться с земли, когда Рудольф, крича что-то неслышное, рванулся в мою сторону. Он было добежал, но его тряхнуло – раз, другой, третий, – ноги у него подкосились, и он упал мне на грудь, больно вцепившись в рукава моей куртки. Рудольф искательно посмотрел мне в глаза, – и я улыбнулась так ласково, как только могла, – и поцеловала его в губы. Он улыбнулся в ответ, что-то прошептал и сполз, не выпуская меня из объятий.
Поверх его головы зачем-то увидела, как любимые люди, освободившиеся от пут, один за другим гибнут от пуль. Вот Мотя, голыми руками уложивший троих и весь изорванный в клочья пулеметной очередью четвертого, с размаху падает на него, погребая под своим необъятным телом. Вот Шоно, убивший двоих и увернувшийся от тысячи глупых свинцовых шариков, умирает проворной и мгновенной смертью – от тысяча первого. Вот Марти – которого я так хотела спасти – Марти, до последнего не осквернившийся убийством, – тихо прилег, приклонив голову на тело отца, друга и учителя. Марти, Марти, Мессия души моей, почему ты не захотел остаться в живых?
Вот один из четверых уцелевших эсэсовцев обернулся ко мне, вот прицелился, вот нажал на спусковой крючок.
Это было совсем не больно – просто сильный и горячий удар в горло, от которого мое дыхание прервалось навсегда. Падая, я проживала свою глупую жизнь снова и снова. Время, скручиваясь в тугую спираль, разгоняло всю эту разноцветную карусель все быстрее и быстрее, покуда та не слилась в одно белое пятно. Пятно стало стремительно удаляться во тьму, и я погналась за ним, ведь оно уплывало туда, где были Марти, и Мотя, и Шоно, и Мишенька, и Докхи…
Очнувшись, Вера не увидела ничего. Тела своего она тоже не ощутила – как будто сознание медленно вращалось вокруг боли, висящей в абсолютной, космической пустоте. Везде царил непроглядный мрак – душный, давящий, пахнущий сенной пылью и растительной гнилью. «Это ад? – подумала Вера. – Судя по запаху – да». Тут она оглушительно чихнула и сильно ударилась головой о что-то твердое. Тело тотчас обозначилось, и тут же боль по-волчьи вцепилась ему в горло.
Почувствовав, что лежит на спине, Вера подняла руку и наткнулась на грубые занозистые доски. «Я в гробу, – с поразительным спокойствием сообразила она. – Все ясно. Меня сочли убитой и похоронили заживо. Если я, конечно, в самом деле жива». Она попробовала крикнуть, но прикусившая ее шею боль-волчица с такой силой сжала челюсти, что ни единый звук не смог вырваться из гортани. Тогда Вера отчаянно толкнула крышку гроба, и та подалась на удивление легко, а в образовавшийся просвет посыпались сено и труха. Надсадно кашляя до потемнения в глазах, Вера выкарабкалась из своего соломенного склепа и огляделась. Она была одна – и все в том же амбаре, откуда… На мгновение у нее мелькнула слабенькая надежда на то, что приключившееся – сегодня утром? – всего лишь кошмарный сон, наваждение, и она судорожно ухватилась за эту призрачную надежду, чтобы хоть на миг отвлечься от ужасающего понимания истины. Тут Вера вспомнила, что, выбираясь из укрытия, она натолкнулась рукой на что-то гладкое. Ломая ногти, она выцарапала из-под завала памятный крутобокий саквояж. Тот оказался непривычно легким. С третьей попытки ей удалось отщелкнуть замки. Первым, что она увидела внутри, были письма. То, что лежало поверх прочих, было от Мартина. Развернув сложенный бельгийским конвертом листок, Вера стала разбирать двоящиеся и расплывающиеся в глазах буквы.
Любимая!
Ты читаешь эти строки, а значит, мы уже по ту сторону Стикса.
Прости меня за принятое без твоего ведома решение.
Я прекрасно понимаю, что, идя на опасный эксперимент, ты рассчитывала тем самым сохранить жизнь мне – последнему из рода et cetera, и ни за что не согласилась бы на наш вариант. Я говорю «наш», поскольку Шоно и Беэр одобрили его безоговорочно.
Не могу сказать, что решение было легким. С одной стороны, меня терзала навязанная ответственность перед человечеством. С другой – добровольно взятая на себя ответственность перед тобой. Наверное, я – никудышный Мессия, потому что моя любовь к одному человеку оказалась сильнее любви к человечеству в целом. Но я подумал: какого, собственно, черта? К тому же Шоно предсказал тебе многие лета, а я привык, что его предсказания сбываются.
Прости меня за то, что я появился в твоей жизни потрепанным и примороженным.
Прости меня за то, что я появился в твоей жизни так поздно.
Прости меня за то, что я вообще появился в твоей жизни.
Но эти двенадцать дней с тобой стали лучшими – в моей.
Прости за то, что обрек тебя на вдовство.
Я знаю, каково это. Но я это пережил, а ты сильнее меня. И я верю, что в твоей жизни вскоре появится новый смысл.
Судьбе было угодно сделать нас персонажами старого, как мир, сюжета, в котором Адонис всегда погибает, а Афродита всегда остается скорбеть по возлюбленному.
Но, прежде чем жаловаться на Фортуну, стоит задуматься о том, что на ее доске стоят миллиарды фигур в уповании на возможность сделать свой собственный ход – такой, о котором будут помнить, который что-то изменит в игре, который внесут в учебники, – и лишь единицам из них выпадает дождаться прикосновения перстов судьбы, а не просто попасть под ее колесо. Мы оказались в числе этих редчайших фигур. Это ли не счастье?
Мне, конечно, легче, чем тебе, – я ухожу на его пике, а ты остаешься с воспоминаниями о нем. Но таков уж сюжет, и мы не властны что-либо в нем изменить. Таммуз уходит, Иштар остается.
Я знаю – ты будешь клясть меня за то, что я не позволил тебе умереть вместе со мной. Я знаю – ты будешь считать мое решение ошибкой и помышлять о том, чтобы ее исправить.
Умоляю тебя не делать этого! Самовольно уходить из жизни можно только тогда, когда знаешь наверное, что больше в ней совершить уже ничего не можешь. Поверь, у тебя остались еще дела. Довольно и того, что у тебя есть дочь.
Однажды – всего-то неделю назад, а кажется, что годы! – ты спросила меня, верю ли я в загробную жизнь. А вчера – в разговоре о египтянах – мы вновь коснулись этого вопроса – единственного вопроса, на который я не дал тебе ответа. Сейчас мне кажется важным ответить.
По моему – несомненно неоригинальному – мнению, мироздание существует в двух более или менее постижимых разумом ипостасях – физической и метафизической. Так и человек состоит из тела и души. Благодаря науке мы знаем, что душа есть производная сложных биохимических процессов в теле. Означает ли это, что с умиранием последнего умирает и она? Я считаю – нет. И вот почему. Душа – это представление человека о себе. Представление, невозможное без участия других людей, в которых он отражается, и без слов, в которые эти отражения облекаются. Поэтому выросший среди зверей Маугли, что бы там ни говорил любимый Беэром Киплинг, не может обладать человеческой душой. Маугли, разумеется, будет отражаться в окружающих, но не будет получать от них обратной вербальной связи, а значит, не будет подключен к исключительно человеческому метафизическому миру, который я для себя определяю термином Большой Текст.
Когда про сотворение мира говорится: «В начале было слово», речь идет именно о Большом Тексте. Люди перестали быть животными в тот момент, когда произошел первый обмен их представлениями о мире. Ergo, своей одушевленностью они обязаны Большому Тексту в той же степени, в которой он обязан им своим существованием. Каждое наше душевное движение, выраженное в словесной форме, поглощается этой необъятной субстанцией – и тем или иным образом к нам возвращается. Пока живет наше тело – мы пребываем одновременно и в подлунном мире, и в Большом Тексте. Мы изменяем его, он изменяет нас, но это не симбиоз, а органически единое целое. Когда наше тело умирает, мы полностью переходим в Большой Текст и пребываем в нем до тех пор, пока существует человечество. Вот тебе медицинский пример: когда больному отнимают руку, он не теряет вместе с тем представления о ней. Более того, он может даже испытывать в ней так называемые фантомные боли и прочие ощущения. И все те, кто знал этого человека до операции, тоже сохраняют представление о том, какою была его рука на вид и на ощупь. Со временем сам человек и окружающие привыкают к новому положению вещей, но прежний – целостный – образ продолжает существовать. Мы все – покуда живы наши тела – органы чувств Большого Текста.
У меня попутно возникла еще одна метафора: мы – точно водолазы в тяжелых, неуклюжих скафандрах, бродим по дну моря, с трудом преодолевая сопротивление воды. Встречаясь друг с другом, обмениваемся примитивными жестами, даже прикасаемся друг к другу – но что можно при этом почувствовать сквозь этакую броню? Что можно разглядеть сквозь крохотный иллюминатор? Самую малость. Но от каждого шлема к поверхности воды тянется шланг, через который мы дышим – одним и тем же воздухом – и через который протянут телефонный кабель – единственное средство нашей коммуникации. Когда наша работа на дне подходит к концу, нас поднимают наверх, мы снимаем с себя доспехи и подставляем лицо свежему соленому ветру. Там наверху мы можем дышать, говорить, смотреть, трогать, целовать – безо всяких помех и технических ухищрений..
Все это – иллюстрация к банальной, в общем-то, мысли о том, что мы живы, пока есть кому вспомнить о нас.
Я поднимаюсь на поверхность – ждать, когда ты завершишь труды под водой.
Помни – мы дышим одним и тем же воздухом!
Помни, что воздух, которым ты дышишь, – это мы!
Я уношу с собой в Большой Текст образ самой прекрасной женщины и самую необычайную на свете историю о любви.
Я люблю тебя.
Твой Марти.
Вера дважды перечла письмо, аккуратно сложила его точно по линиям сгиба, положила за пазуху, вздрогнув от прикосновения ледяных пальцев к раскаленной груди, затем вытащила из саквояжа следующее. Шоно писал по-русски – четким каллиграфическим почерком гимназиста-отличника.
МилостДорогая Вhра!
Мнh, разумhется, извhстно, что Ваше отношеніе къ моей скромной особh оставляетъ желать лучшаго. Полагаю также, что мнh вhдомы причины Вашей непріязни. Не скрою, Вашего покорнаго слугу сіе огорчаетъ безмhрно, вhдь за эти неполныя двh недhли я успhлъ искренне полюбить Васъ – какъ любилъ бы, вhроятно, собственную дочь. А кабы не мои преклонныя лhта, Марти пришлось бы посоперничать со мною въ борьбh за Вашу благосклонность, ибо изъ великаго множества женщинъ, встречавшихся мнh на жизненномъ пути, Вы – самая необыкновенная. И речь не о несравненной внhшности, вhрнhе, не только о ней, поскольку она безусловно отражаетъ Ваши безценныя внутреннія красоты, но въ силу ограниченныхъ возможностей отражаетъ ихъ лишь частично – настолько, насколько блhдная красавица Луна отражаетъ грандіозный свhтъ Солнца.
Мнh безконечно грустно отъ того прискорбнаго факта, что Вы разстаетесь со мной, такъ и не узнавъ меня съ лучшихъ сторонъ. Увы, всh наши разговоры были волею судебъ сведены, по большей мhрh, къ историческимъ и θеологическимъ вопросамъ, а на такой сухой почвh рhдко когда произрастаетъ симпатія и привязанность. Будучи въ глубинh души буддистомъ, я уповаю на новую встрhчу съ Вами въ одномъ изъ грядущихъ перевоплощеній, дабы имhть еще одну возможность засвидhтельствовать Вамъ искреннее восхищеніе, глубочайшhе почтеніе и беззавhтную преданность, съ коими остаюсь
навhки Вашъ Шоно.
P.S. На случай, если метемпсихозъ окажется все же выдумкой – не поминайте лихомъ!
P.P.S. Чуть не забылъ! Завhщаю Вамъ единственную цhнность, которой владhю, – серебряный колокольчикъ. Колоколецъ сей весьма древній – затрудняюсь даже приблизительно опредhлить его возрастъ – но никакъ не менhе девятисотъ лhтъ. Мой наставникъ, отъ котораго я получилъ сію вешицу въ даръ, впрочемъ, утверждалъ, что она принадлежала самому Буддh Гаутамh. Такъ оно на самомъ дhлh или нhтъ, неизвhстно, но звонъ у колокольчика дhйствительно совершенно волшебный. При этихъ звукахъ забываешь обо всhхъ горестяхъ и печаляхъ. Звоните въ него почаще, и пусть онъ напоминаетъ Вамъ о томъ, что изъ нынh живущихъ на свhтh Вы – единственный человhкъ, кому посчастливилось услышать Гласъ Божій. Говорятъ, людямъ, съ которыми разговаривалъ Господь, всегда было свойственно долголhтіе. Мои расчеты въ отношеніи Васъ это подтверждаютъ. И послhднее, что я хотhлъ сказать: на долгомъ пути Вамъ придется трудно, но чутье подсказываетъ мнh, что очень скоро на немъ Вамъ повстрhчается и что-то очень хорошее. Будьте мужественны и постарайтесь стать счастливой!
Письмо от Моти, нацарапанное немыслимыми каракулями, было совсем коротеньким.
Дорогая, милая, любимая Верочка!
Простите, что далее – по-английски. Я совершенно разучился грамотно писать по-русски (да и не умел толком никогда), а прощальное письмо Вам по-немецки – это какой-то нонсенс.
Я счастлив тем, что встретил Вас на своем пути. Впрочем, я всегда был везунком. И я счастлив, что на этой торжественной ноте моя жизнь прервется, – всегда боялся дожить до седин и сделаться таким занудным старикашкой, как наш Шоно. Мужчине надо умирать молодым и здоровым.
Вы, конечно, будете плакать и убиваться по нам, но такова уж извечная женская доля – плакать по павшим воинам. Скажу Вам честно: мне даже приятно сознавать, что по мне будет убиваться – хотя бы немножко – такая божественная женщина. Но только Вы, пожалуйста, не слишком увлекайтесь – от этого появляются морщины и всякое такое.
Слава Богу, что я не люблю поэзии, а то бы разразился сейчас какой-нибудь слезливой рифмованной чушью.
Верочка, вспоминайте нас почаще. Меня можно чаще, чем Шоно, но и этого старого мухомора тоже, конечно, вспоминайте, потому что он и впрямь славный парень.
Я там оставил Вам кое-какие безделушки на память. Главная – это ключик. Он хоть и не Золотой, но открывает вполне солидную ячейку в одном из женевских банков. Вся информация записана на приложенной бумажке. Выучите ее наизусть и сожгите, а ключик носите на шее. Надеюсь, он Вам пригодится.
Вот и все.
Люблю, как сорок тысяч братьев.
Ваш Бегемотя.
P.S. Жаль, так и не рассказал Вам про то, как я разнес опиомокурильню в Сингапуре. Это очень смешная история. Ну да ладно, как-нибудь в следующий раз.
Некоторое время Вера просидела, прикрыв опухшими веками тающие глаза, кривя губы, как маска Мельпомены, раскачиваясь из стороны в сторону и раздирая ногтями в кровь бесполезное горло.
Потом она отерла ладонями некрасивое лицо, вытащила из кармана «вальтер», деловито проверила обойму, передернула затвор. С минуту зачарованно смотрела в вороненое жерло, затем внезапно потеряла к пистолету всякий интерес и равнодушно уронила оружие в саквояж.
Проведя в оцепенелом созерцании пляшущих пылинок более часа, она вдруг встрепенулась, подхватила саквояж и покинула амбар.
Дорога была ей знакома.
Трава на поляне, местами примятая и побуревшая, да медные россыпи гильз – вот все, что указывало на случившееся здесь побоище. Посреди поля боя Вера увидела глубокие следы колес телеги и множество отпечатков лошадиных копыт и поняла, что они означают. В кустарнике, где убили ее самоё, она заметила нечто белое – нечто, не заинтересовавшее похоронную команду.
Ранним утром седьмого сентября главный лесничий Вальтер Фреверт, объезжая южные пределы пущи, обнаружил спящую на голой земле женщину в охотничьем костюме. Голова ее покоилась на дорогого вида кожаном саквояже, а к груди она прижимала обернутое белой тканью полено. По золотым, хотя и грязным, волосам Фреверт догадался, что перед ним – та самая «фея Роминте». Догадался егерь и о том, что присутствие этой загадочной женщины здесь несомненно связано с недавними трагическими событиями, которые он сам, как ему казалось, и инициировал. Женщина не проснулась, когда терзаемый чувством вины Фреверт переносил ее на свою повозку, но и не выпустила из рук своих странных реликвий.
За те три дня, что фея провела в доме у главного лесничего, ему так и не удалось услышать ее серебряного голоса – женщина наотрез отказывалась говорить, а возможно, попросту не могла.
Десятого сентября Фреверт тайно вывез ее в своем автомобиле на захваченную польскую территорию и, снабдив кое-какими съестными припасами, оставил неподалеку от населенного пункта, случайно оказавшегося деревней русских староверов Водзилки.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.