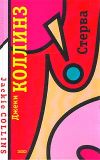Читать книгу "Секс в СССР, или Веселая жизнь"
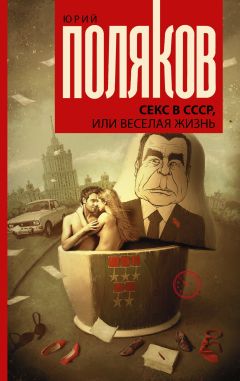
Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Как живете, жополизы,
Меж мартеном и жнивьем?
Отвечают журналисты:
– Ничего себе, живем…
А.
Легок на помине, появился хромой ответсек. Входил он всегда как-то странно: сначала будто бы сама собой открывалась дверь, затем появлялся старый кожаный портфель, похожий на ранец суворовского солдата, съехавшего на нем с Альп. Следом просовывалась нога в ботинке на «манной каше». Наконец вваливался и весь Макетсон, краснолицый, седой, величавый.
– Худо! Будет дождь, – предупредил он с порога. – Колено мозжит. Извините за опоздание, но я писал срочную справку. Туда! Вы меня поняли?
– О да! – кивнул я.
– Ничего страшного, Борис Львович, Маши-то все равно еще нет, – ухмыльнулся Крыков.
– Я сделаю ей строгое внушение, – пригрозил ответсек и поковылял в залу, к своему столу. – Георгий Михайлович, можно вас на минуточку?
Я пошел за ним, но Боба успел мне шепнуть:
– Ребенка сделал, а теперь еще и внушение сделает.
– Тс-с!
В зале пахло вчерашним кофе и ядовитой женской парфюмерией.
– Ну как, держитесь? – спросил Макетсон, вынимая из портфеля железный строкомер и фломастеры. – Москва гудит. И не только Москва… Я слышал кое-что по «голосам». Худо это! Очень худо! А проза-то, скажу я вам, проходная. Ожидал большего. К тому же нельзя так идеализировать дореволюционную нищую голодную Русь. Да и антисемитизмом все это как-то отдает. Не находите?
– Не знаю… – Я пожал плечами, уходя от опасной темы: прослыть антисемитом в СССР было куда опаснее, чем назваться евреем.
– Вы, Егор, еще молоды и не чувствуете подтекста. Кстати, там, – ответсек показал пальцем вверх, – меня о вас снова расспрашивали. Не беспокойтесь, я дал лучшие референции!
– Спасибо, но я больше беспокоюсь о макетах.
– Не волнуйтесь, уже готово, после планерки отправлю.
В залу впорхнула румяная от осенней прохлады Синезубка – обвислое лицо Макетсона посвежело, в глазах блеснул огонь.
– Ах, я, наверное, самая последняя? – прощебетала Жабрина. – Добрый день, Георгий Михайлович!
– Здравствуйте, Мария Сергеевна!
– Здравствуйте, Борис Львович! Вы давно уже здесь?
– Нет, Машенька, только вошел. Работал над справкой.
– Устали, наверное?
– Нам не привыкать.
– А у меня кран потек…
– Что вы говорите? Вызвали сантехника?
– Да, и надеюсь, вечером он обязательно придет!
Я представил себе, как час назад они лежали в постели, ласкались и тетешкались. Везунчики! Влюбленность – это какой-то богоданный счастливый наркоз, он веселит, оглупляет, снова делает тебя ребенком, готовым есть мороженое до ангины, а потом надо снова возвращаться во взрослый мир с его суровыми расценками за каждое «хочу».
– Борис Львович, что там ваши кактусы? – спросил я.
– Вообразите, расцвела моя неопортерия!
– Неужели? – поджала губы Жабрина, поняв, что любовник все-таки поддерживает связь с оставленной семьей.
– Да, Машенька, – смутился Макетсон. – Расцвела…
– Вот и хорошо! – Она кокетливо глянула на Крыкова. – А что это там за канапе в коридоре?
– Это оттоманка, – уточнил Боба.
– Почему она так смешно называется?
– Потому, Машенька, что придумали ее в Оттоманской империи, – нежно объяснил ответсек, заглаживая вину.
– Для гаремов! – добавил Крыков.
– Ах, я хочу в гарем! – томно потянулась Синезубка.
– Это вот зря. Там надо долго ждать своей очереди! – ухмыльнулся Боба.
– Планерка у нас сегодня будет или нет? – подурнев лицом, сварливо спросила Жабрина.
– Да, зовите Торможенко! – приказал я.
Мы расселись, как обычно, вокруг большого стола. Пришел Толя: на лице желатиновая обида мыслителя, оторванного от тайн мироздания ради пустяков. Планерку я собирался провести быстро: в номере особых сложностей не предвиделось. Две с половиной из четырех полос занимал отчет о партсобрании прозаиков.
– Из Ташкента материал прислали?
– Да, Вера Павловна перепечатывает, – ответил Макетсон.
– Кто автор?
– Тимур Зульфикаримов.
– Как называется?
– «Храните мир, земляне-земляки!»
– Отлично!
– «Шапку» придумали? – спросил я.
– Да. «Ближе к жизни, ближе к народу!» – гордо объявил ответсек.
– Ха-ха, – мстительно ухмыльнулась Синезубка.
– Не шедевр, но сойдет, – кивнул я. – А что там у нас с расшифровкой стенограммы собрания?
– Пока свой кусок сдала только Мария Сергеевна, – доложил Макетсон и виновато глянул на любовницу. – Из-за этого не могу закончить макет.
– Даже так? – Мне стало смешно: отчет шел сплошной «простыней» и никакого особого макетирования не требовал. – Мужики, в чем дело? – Я с упреком посмотрел на Бобу и Толю.
– Завершаю, – ответил Крыков, пряча прохиндейские глаза. – Чуть-чуть осталось.
– Шлифую, – молвил курский гений.
Я метнул гневные взоры в «завершальщика» и «шлифовальщика»:
– Покажите, что есть.
Писательские собрания проходили под стенограмму. Две старушки в допотопных очках по очереди строчили свои тайные закорючки в длинных блокнотах, похожих на чековые книжки из западных фильмов. Если оратор допускал невнятицу или же непарламентское выражение, стенографистки вскидывались, переспрашивали и снова возвращались к своим криптограммам, а потом в домашних условиях расшифровывали и перепечатывали текст на машинке. Одна копия шла в секретариат, вторая к нам, в редакцию, а третья – «куда надо»: там старались быть в курсе умонастроений нервной писательской массы. Стенограмму партсобрания прозаиков я для обработки разделил на три равные части и распределил между сотрудниками. Маша свой кусок – 360 строк – сдала еще вчера. Боба после нагоняя принес и стыдливо протянул мне четыре неполных листочка, а Торможенко с презрением бросил на стол всего две страницы.
– Не понял? У нас под собрание почти три полосы. Больше тысячи строк и плюс фотографии, так ведь, Борис Львович?
– Да. Снимки засланы. Я уже все начертил! – объявил ответсек таким тоном, будто макет – это монумент из бронзы.
– Ребята, вы оборзели! – заорал я так, словно подобная история случилась впервые.
– Экселенс, пойми: они там полную хрень несли – выбрать совсем нечего, – пожаловался Крыков. – Одна вода!
– Других писателей у меня для тебя, Роберт Леонидович, нет.
– Понял, не дурак. Долью!
– Долей! И поучись у Маши, как это делается.
– А можно я поучусь у нее после работы?
– Можно, если умеешь чинить краны, – кокетливо разрешила Синезубка и мстительно глянула на ответсека, побуревшего от ревности.
Вообще-то Боба был прав. На собрании за редким случаем несут разную чепуху, но понимаешь это не сразу. Сидишь иной раз в зале, слушаешь выступления, даже хлопаешь оратору, мятущемуся на трибуне, а потом прочтешь расшифровку и ахнешь: ну ни о чем! Однако полосы все равно заполнять надо.
– Толя, ты охренел? – возмутился я, швыряя Торможенко его две бумажки. – Это же сто двадцать строк, а надо триста шестьдесят!
– Они все говорили одно и то же, – свысока объяснил гений.
– Это твои проблемы.
– Если надо, могу вставить про то, как Усачев обозвал Гехта «климактерическим кликушей», а Гехт сказал, что новый усачевский роман – это «домотканая диарея».
– Как?
– Домотканая…
– Фи! – поморщилась Маша.
– А по-моему, смелый и яркий образ! – сквитался Макетсон.
– Не надо нам таких смелых образов! – отмел я. – Через два часа сдать недостающие строки! А пока то, что есть, отнести на машинку! Что у нас еще?
– Юбиляры. Список готов. На третью полосу, – доложил ответсек.
– Хорошо.
– Есть еще информашка о выступлении писателей на заводе «Серп и молот».
– Как называется?
– «В рабочий полдень».
– Банально. Есть такая передача на радио. Лучше назвать «В ритме станков».
– Очень оригинально! – вздохнула Синезубка.
– Еще в загоне давно киснет репортаж про поэтический десант в Нечерноземье. «Рифмы посевной», – донес Макетсон.
– Почему так долго лежит? Какая посевная? Уборочная почти уже закончилась.
– Так ведь десант возглавлял Золотуев. До того, как его сняли. Он же и текст написал.
– Сколько строк?
– Сто пятьдесят.
– М-да. Назовем «Рифмы отдыхающего поля». Время года из текста убрать! Золотуева – в общий перечень участников, а подпишем…
– Фагин! – подсказал Боба.
– Да хоть и Фагин, – кивнул я. – Борис Львович, «В ритме станков» и «Рифмы отдыхающего поля» под общую рубрику «Поэзия и труд».
– Значит, переверстывать? – дрогнул голосом Макетсон.
– Значит, переверстывать. Большая дыра остается?
– Строк двести.
– Какие предложения?
– А давайте напечатаем рассказ, – щебетнула Маша.
– Какой?
– Ковригинский – про общую баню в Германии. Никогда не мылась в общей бане.
– Могу устроить, – хихикнул Крыков.
– Это неудачная шутка! – насупился ответсек.
– Таких шуток, Борис Львович, будет теперь много. Готовьтесь! – усмехнулась Синезубка.
– Есть еще стихи о Пушкине, – буркнул Толя. – Но их лучше до девятнадцатого октября придержать.
– Откуда?
– Самотеком пришли.
– Покажи-ка!
Торможенко, ухмыляясь, сунул мне машинописную страничку бежевого цвета:
Я Пушкиным был с детства очарован,
Везде искал о нем материал
И понял, что Наташу Гончарову
Поэт, как муж, не удовлетворял…
– Очень смешно! – показательно поморщился я.
– У него есть еще и к Седьмому ноября. – Маша протянула другой листок – розоватый.
Шепот, слухи, разговоры:
– Ну, товарищ, и дела!
По Москве-реке «Аврора»
Этой ночью проплыла…
– Ну и как? – Толя посмотрел на меня с гнусной иронией. – У него таких стихов еще много.
– Остро. Кто автор? – спокойно спросил я.
– Неизвестно. Ни фамилии, ни адреса. Подписывается буквой «А», – сообщил Макетсон.
– Хорошо. Дайте всю подборку – я посмотрю. Думайте: нужен еще один материал строк на двести.
– Есть, есть такой материал! – воскликнул Крыков.
– О чем?
– О постановке трилогии Папы… Мартена Палаткина «Алые скакуны революции» на узбекском языке в Самарканде. Как нарочно, к форуму в Ташкенте! И как раз двести строк.
– Ладно, пойдет под рубрикой «Дружба народов – дружба литератур». Кто написал?
– Фагин… – потупился Боба.
29. Лета господня
Ты позвонила, позвонила,
И выпало из рук перо.
И крикнул я что было силы:
«Да здравствует Политбюро!»
А.
Вернувшись после планерки в свой кабинет, я сел за стол, закурил и просмотрел рукопись, пришедшую самотеком. Стихи напечатаны на разносортной бумаге – бежевой, голубой и розовой. Заглавные буквы чуть выпирают из строки, видно, машинка старая, с прыгающим, давно не чищенным шрифтом. Действительно, ни имени, ни телефона, ни адреса. Только литера «А» под каждым стихотворением. Разумно, учитывая смелость текстов. Но что означает эта «А»? «Автор», «Аноним» или подымай выше: «Альфа» – первый в ряду поэтов. Черт его разберет… Я наугад прочел:
Хоть дуракам не писан «дуралекс»,
Народ живет согласно идеалам.
В СССР есть все, и даже секс,
Но не публичный, а под одеялом.
М-да, неведомый Автор не чурается латыни. «Dura lex, sed lex». «Закон суров, но это закон». Лихой Аноним! Стих плотный, осмысленный, добротно прорифмован. Хорошая школа. Не новичок, но пишет явно в стол. «Непроходняк» в чистом виде. Возможно, резвится какой-нибудь известный переводчик, устав от подстрочников. Тогда зачем прислал подборку в редакцию? Нет, скорее всего, это какой-то приятель меня разыгрывает. Скоро явится с бутылкой… Надо будет дома внимательнее прочитать, может, узнаю руку, и Жеке покажу, он любит погорячее:
Она строга и холодна со всеми,
Но мне той нашей ночи не забыть!
С такими телесами рушить семьи,
А не секретарем райкома быть!
Я спрятал подборку, а тут, легок на помине, позвонил Ипатов: «Жорыч, выезжаю. Через пятнадцать минут буду на «Баррикадной».
Служил мой друг на площади Ногина в вычислительном центре ЦК КПСС.
Выходя из редакции, я заглянул в каморку к Вере Павловне, полнотелой даме, похожей на гарнизонную буфетчицу. Она много лет прослужила в машбюро трибунала Московского военного округа, но об этом периоде своей жизни рассказывать не любила, хотя, выпив, была словоохотлива.
– Много работы? – спросил я.
– Очень! – Машинистка, как школьница, прикрыла халтурную рукопись, которую перепечатывала.
Я сделал вид, будто ничего не заметил: всем надо жить. Зарплата у нее маленькая, муж объелся груш, мать – инвалид, разведенная дочь пьет. Внуки тоже на Вере Павловне, вот она и прирабатывает тем, что перестукивает на редакционной машинке разных графоманов. Берет, кстати, недорого: 30 копеек за страницу прозы и 15 копеек за стихи.
– Прозаиков надо сегодня в набор заслать. Все остальное пока отложите!
– Поняла. Но ребята еще не все мне сдали…
– Сдадут. Печатайте с колес!
– Так точно!
Я вышел на улицу. Экономное осеннее солнышко навевало добрую грусть. У раскопа, огороженного металлическими барьерами, собрались зеваки; самозваный экскурсовод, похожий на молодого Маркса, объяснял, подвывая: «Тысячи оскверненных и убитых женщин зарыты в этом месте!» Все слушали с интересом, даже милиционеры. Переходя на зеленый свет Садовое кольцо, я встретил Золотуева, поздоровался, но он не ответил. Ну и ладно! Видимо, утром Влад решил покончить навсегда с водкой и был погружен в эту сверхзадачу. После первой рюмки пройдет.
Новую территорию зоопарка накрывали желтые кроны огромных лип. Над серебристым куполом планетария по голубому эмалевому небу плыли отчетливые осенние облака. В газетном киоске остались только профсоюзный «Труд» и областное «Ленинское знамя». Как в анекдоте: «“Правды” нет. “Известия” кончились. Только “Труд” за две копейки остался». Я встал у выхода из метро, возле рубленого гранитного барельефа, изображавшего героев революции 1905 года, и развернул газету. Передовая называлась «Быть хозяином на родной земле!». Спохватились! Что у нас там еще? Ага: «Вышел очередной номер теоретического и политического журнала ЦК КПСС “Коммунист”. Открывается он статьей “Идеологическую работу – на уровень задач совершенствования развитого социализма”». Господи, да разве можно таким языком с людьми разговаривать? Они ведь живые. Рядышком обращение Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного cовета СССР Ю. В. Андропова «Сберечь и преумножить достигнутое за годы разрядки»… Боже, неужели кто-то станет это читать?
Из метро выскочил Жека:
– Салют, суперфосфат! Давно не виделись. – Он протянул мне папку.
– Ну как тебе?
– Убиться веником! Великий писатель! И все ведь – правда!
Я на всякий случай развязал тесемки и заглянул вовнутрь. Мне показалось, бумага стала чуть белее и глаже. Проверяя подозрение, я взъерошил листы и почувствовал: они еще теплые и местами слиплись – так бывает сразу после ксерокопирования.
– Жека, ты охренел?
– Жорыч, прости, не успел дочитать. Пришлось отксерить.
– А где мой экземпляр?
– Торопился, наверное, перепутал. Какая разница… Не журись!
– А если заметят?
– Брось, все ксероксы одинаковые.
– Никому не показывай! Сколько копий снял?
– Ты за кого меня принимаешь?! Одну! – возмутился мой друг так горячо, что я понял: несколько.
– Ты офигел!
– Ой, побежал, а то уволят. У нас в «ящике» строго. Не злись, мы тебе за это БЭК просчитаем.
– Что?
– Потом объясню.
Мой вероломный сосед скрылся от упреков в метро, а я, проклиная себя за доверчивость и чертыхаясь, побрел в редакцию. Встречные деревья раздражали ядовитой желтизной и крикливым багрянцем. Небо цвета стиральной синьки наводило тоску. У раскопа народа уже не было, зато стоял милицейский «жигуль». Два патрульных смотрели в яму, а постовой, выйдя из посольской будки, объяснял соратникам по охране правопорядка: «Тысячи оскверненных и убитых женщин зарыты в этом месте!»
В коридоре на оттоманке сидел наш постоянный автор Федор Николаевич Копков, румяный старик лет семидесяти. В юности он служил в ЭПРОНе водолазом и однажды, обследуя затонувшее судно, с ужасом увидел, как на него движется, словно ожив, раздувшееся тело утопленника. В итоге краснофлотец Копков сошел с ума, но не буйно, а мечтательно и вот уже много лет составляет словарь языка чаек, даже пишет стихи на истошном наречии этих гордых птиц.
– Я к вам, Георгий Михайлович!
– Жаль, Федор Николаевич, но у меня запарка – срочный материал в номер.
– Ничего, ничего, я подожду. Хорошо, что диванчик поставили. Стоять тяжело, восьмой десяток не шутка!
– Ну, зачем же ждать!
– А мне торопиться некуда. Знаете, что по этому поводу говорят чайки?
– Не-ет…
– А вот… – Копков вытянул шею, сложил губы клювиком и жалобно прокурлыкал. – Поняли?
– Не совсем…
– Попробую вам перевести, хотя и сам, знаете, многих слов еще не понимаю. Очень сложный язык!
– Одну минуточку, Федор Николаевич…
Из кабинета Торможенко доносился медленный и мерный, как метроном, стук машинки, значит, он дописывает свой кусок отчета о собрании. Лучше не отвлекать. Я заглянул в залу: ответсек разложил перед собой на столе фломастеры, как крупнокалиберные патроны, и, окутавшись тайной, перечерчивал макет. Надрываясь, звонил телефон, но никто не обращал внимания. Синезубка стояла у него за спиной и рылась пальчиками в седых бакенбардах:
– Макетсон, почему вы не любите желтый цвет? Ну, возьмите, возьмите желтый фломастер! Он такой красивый!
– Это цвет измены, Машенька.
– А может, это цвет вашего противного кактуса?
– Мария Сергеевна, вы сейчас свободны? – вмешался я.
– Как вам сказать…
– Поговорите, пожалуйста, с Копковым!
– Опять? Только не это! – Она рывком выдернула пальцы из шевелюры любовника.
– Федорович Николаевич, идите-ка сюда! – позвал я. – Мария Сергеевна мечтает с вами пообщаться!
– За что, Георгий Михайлович? Что я вам плохого сделала? – процедила она, проходя мимо. – …Ах, Федор Николаевич, как же я рада вас видеть!
Телефон на столе Макетсона, чуть передохнув, снова затрезвонил. Я рывком снял трубку и услышал в мембране плачущий женский голос:
– …Боря, дети соскучились, ты же обещал, я приготовила харчо, дали для пробы горячую воду – и батареи потекли…
– Борис Львович, это вас из дома… – шепнул я и поймал на себе бдительный взгляд Жабриной, вежливо усаживавшей гостя на стул. – …из Дома литераторов спрашивают… снова…
– Передайте: я занят и перезвоню, – набычился ответсек.
– Он занят и перезвонит, – повторил я, положил трубку и вышел из залы.
«Плохо это все кончится!»
В кабинете я вынул папку из портфеля, развязал тесемки и тщательно перебрал странички «Крамольных рассказов», извлек из пачки несколько прилипших чистых листов, немного помял рукопись, бросил на стол веером и стряхнул на ксерокс пепел с сигареты, так достовернее. Потом решил на всякий случай проверить нумерацию и похолодел: не хватало страницы из рассказа «Невероятный разговор».
«Ну, Жека, ну, сукин сын!»
В дверь заглянула Маша:
– Можно?
– Вы уже закончили с водолазом?
– Да.
– Как же вам это удалось?
– Посоветовала ему записать язык чаек на пленку и отнести в Академию наук. Выдала наш сломанный диктофон и посадила в чулан со швабрами, чтобы никто ему не мешал. Он удивился, как ему самому такое в голову не пришло, даже чай пить не стал.
– Гениально! Что еще?
– Пока вас не было, вам звонили.
– Кто?
– Думаю, вы обрадуетесь…
– Кто-о?
– Из мебельного магазина. Сказали: полки можно забирать.
– Спасибо!
– Не обрадовались?
– Обрадовался.
– Не заметно. А еще вам звонила актриса Гаврилова.
– С ч-чего вы в-взяли, что а-актриса? На какой телефон звонила? – По всему моему телу пробежал звон, словно я бокал, по которому ударили карандашом, проверяя целость изделия.
– На общередакционный. Я сказала: вы «вышедши». Она просила передать, что беспокоила Лета Гаврилова. А кто же не знает Линду! Вы с ней знакомы?
– По комсомольской линии, – промямлил я.
– Ну да – по какой же еще! – сквиталась Синезубка. – У меня сегодня интервью с Парновым. Я пойду?
– А Борис Львович как же?
– У него есть жена с кактусами.
– Идите.
Едва Жабрина скрылась, я схватил телефон.
– Алло, – сразу отозвалась Лета и узнала меня, хотя я еще не вымолвил ни слова. – Ой, Жор, как я рада тебя слышать! Молодец, что перезвонил!
– Лучше поздно, чем никогда… – ответил я холодно.
– Ну, извини, извини, я дура, потеряла твои телефоны. Пришлось по справочной узнавать, а там говорят: нет такой газеты – «Стописы». Я в Союз писателей позвонила. Наш завлит посоветовал. Там сразу телефон дали – и редакционный, и твой домашний.
– Рад за тебя… – по возможности сдержанно отозвался я.
– Ну, не злись! Я тебя видела у театра, спасибо за цветы. Но я не могла подойти. Понимаешь, Додик в любой компании хочет быть единственным мужчиной. Кавказ.
– Не знал, что ты Кавказом интересуешься.
– Я? Чокнулся! Додик на Вике собирается жениться, а она не хочет с ним оставаться наедине – сразу начинает приставать, а дашь слабину – никогда потом не женится: Кавказ.
– А ей-то зачем Кавказ?
– Кавказ ей даром не нужен, но Додик во Внешторге работает. А его отец в Верховном Совете сидит. Дадаев, слышал?
– Не приводилось.
– Ну, не злись, Жор!
– Вот еще…
– Ну, не могла я в понедельник прийти. Главреж после беседы пригласил меня в кафе, потом на спектакль. Нельзя было отказываться, он вроде как готов меня взять…
– И что же за спектакль?
– «Безобразная Эльза».
– Понравилось?
– Очень даже ничего!
– А главреж тоже ничего?
– Только не ревнуй! Все говорят, он голубой. Везет же бабам в этом театре!
– А позвонить можно было?
– Говорю же, пустую пачку с телефонами выбросила… А ты чего не звонил?
– Звонил, с бабушкой твоей разговаривал.
– Врешь! Она сказала – меня только Василий, Федор и еще кто-то спрашивали.
– Это мои псевдонимы.
– Ну, ты даешь, шифровальщик! Хочешь – пообедаем?
– Когда? – давя ликование, спросил я.
– Завтра. В пять. После репетиции. Спектакля у меня нет. Понял?
– Понял. Я закажу столик в Дубовом зале. Тебя встретить у театра?
– Не надо, сама дойду. Взрослая. Чао-какао!
Едва я опустил трубку и затомился, как в дверь, тяжело дыша, ввалился Макетсон: лицо багровое, бакенбарды дыбом.
– Мне, мне… срочно надо… отвезти справку, – взмолился он. – Туда!
– А вы макеты дочертили?
– Завтра, завтра… Сам отвезу в типографию.
– Ладно уж. Как жена?
– Плачет.
– А дети?
– Для них я в командировке, – ответил он уже из коридора.
– В Мордовии?
– Примерно.
Вскоре я увидел в окне спешащие Машины ботики. Их настигли, обогнали и заступили дорогу башмаки Макетсона. Дамские ножки нехотя остановились и непримиримо подрагивали, а мужские виновато топтались вокруг. Но вот ботики великодушно привстали на мысках, «мокроступы» накренились от счастья, а потом все вместе они двинулись в сторону метро.
На моем столе снова звонит телефон.
«Господи, не передумала бы!»
– Жор, – послышался бодрый голосок Арины. – Все в сборе. Тебя ждут. Дуй сюда!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!