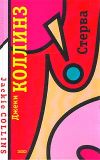Текст книги "Секс в СССР, или Веселая жизнь"
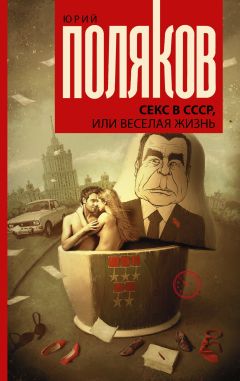
Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 44 страниц)
По краешку запретному скользя,
Свободу мысли обращая в шалость,
Мы думали о том, о чем нельзя,
И говорили то, что разрешалось…
А.
Прижимая красную папку к груди и дожевывая бутерброд, на бегу схваченный в Пестром зале, я влетел в партком с боем больших напольных часов, стоявших когда-то в кабинете князя Святополка Четвертинского.
– Уже начали?
– Нет, Шуваев еще у ТТ, – весело ответила Арина.
– А с чего тогда такой аврал?
– Не знаю. Мне велели – я тебя вызвала, – со счастливой улыбкой объяснила секретарша.
– Помирились, что ли? – догадался я.
– Ага! Ник сказал – все это пустяки. Пшено! Надо смотреть в будущее.
– Поздравляю!
– А еще он сказал, что понял теперь, чего нам с ним не хватало в сексе.
– И чего же?
– Яркости.
– И вам тоже? Значит, будешь показывать мужу цветное кино?
– Буду. Слушай, Жор, не исключайте Ковригина из партии! Он хороший.
– Никто и не собирается его исключать.
– Папа сказал: собираетесь.
– У твоего папы устаревшая информация.
В кабинет вошел запыхавшийся и озабоченный Шуваев:
– Где болтаешься? Давай!
Я без слов отдал рукопись, замирая: вдруг развяжет тесемки да проверит страницы. Но партсек, не глядя, открыл стоявший у двери большой сейф, где хранились ведомости со взносами, и метнул мои «Крамольные рассказы» поверх стопки красных папок. От сердца отлегло: при таком количестве вычислить, с чьего экземпляра сняты ксерокопии, невозможно. Жаль, не попросил Жеку откатать и на мою долю.
– Ну, пошли, Егорушка, познакомишься с членами комиссии! – улыбнулся Владимир Иванович синими губами.
В алькове возвращения начальства дожидались пятеро. В кресле затаилась секретарь партбюро поэтов Капитолина Ашукина – милая, не бездарная, но пожизненно испуганная сорокалетняя поэтесса в круглых учительских очках и серой кофточке. Ее избрали недавно вместо оскандалившегося Золотуева.
У окна курил, прицельно пуская дым в форточку, видный деревенский прозаик Василий Захарович Застрехин – голубоглазый старикан с загородным румянцем на щеках. В Москву он наезжал изредка, предпочитая тихую сельскую жизнь. В углу стояла его складная удочка в брезентовом чехле.
На диване, вытянув негнущуюся ногу, сидел писатель-фронтовик, Герой Советского Союза Иван Никитич Борозда. Через его багровое лицо шел боевой шрам, отчего рот слегка съехал набок, как бывает у некоторых оперных певцов в минуту вокального экстаза.
У стены, сложив руки на груди и выпятив еле заметный подбородок, стоял критик Леонард Флагелянский, пышноволосый коротышка лет пятидесяти – с мстительным ртом и гонимыми глазами.
Пятым членом комиссии оказался председатель секции поэтов Виталий Зыбин, быковатый мужик с красными ручищами грузчика и фиалковым взглядом мечтателя. Ковригин состоял на учете у него в объединении, так как считал себя прежде всего поэтом, а уж потом прозаиком и очеркистом.
– Ну, вот, значит, вся «чрезвычайка» в сборе, – пошутил Шуваев. – Председатель тоже на месте, не сбежал. – Он хлопнул меня по плечу. – Друг друга вы все знаете. Не будем, товарищи, тратить время на формальности. Просто обсудим ситуацию.
– А где же виновник торжества? – спросил Борозда.
– Скорее уж виновник позора! – поправил Флагелянский.
– Ну ладно, ладно вам… Рассказы-то прочитали?
– Да уж, сподобились, – крякнул герой-фронтовик. – При Сталине уже сидел бы ваш Ковригин.
– Наш Ковригин, пока еще наш, – вздохнул секретарь парткома.
– А при чем здесь Сталин? – вскинулся критик. – Речь идет об утрате нравственного императива! Это позор для советского писателя. Вот вы, Владимир Иванович, конечно, пошутили про «чрезвычайку», а я согласен: ситуация чрезвычайная, меры надо принимать суровые и соответствующие!
– Вы, Леонард Семенович, не горячитесь, погубить человека мы всегда успеем.
– А какие у нас полномочия? – спросила Ашукина.
– Значит так, Капитолина Петровна, мы с вами обсуждаем поступок коммуниста, даем ему оценку и предлагаем парткому на выбор меру взыскания, – разъяснил Шуваев.
– Высшую? – улыбнулся железными зубами Борозда.
– Иван Никитич, ну не надо уж так слишком-то! У всех в жизни бывали ошибки, – процедил Владимир Иванович, значительно глянув на ветерана.
Героем Союза Борозда стал сравнительно недавно, хотя представили его к высшей награде за танковый подвиг давно, сразу после Прохоровского сражения. Но судьба сыграла с ним злую шутку: отдыхая от боев, горячий лейтенант уединился в землянке с возлюбленной связисткой и случайно прострелил ей бедро: забыл в кармане галифе трофейный парабеллум. От счастливых содроганий пистолет, снятый зачем-то с предохранителя, бабахнул. Скандал! До штрафбата дело не дошло, но командир полка, сам не равнодушный к раненой связистке, отозвал представление на звание Героя. К 35-летию Победы, после долгих ходатайств и писем в инстанции, награда все-таки нашла героя.
– Слишком? Нет, не слишком! – набычился, поняв намек, танкист. – Пока мы на «передке» кровь лили, ваш Ковригин в кремлевском полку на спецпайках отъедался, живого фрица в глаза не видел. Он там у себя пишет, что мы воевать не умели, немцев трупами завалили. А чем еще заваливать врага? Розами?
– А вот меня смущает стойкая нелюбовь Ковригина к cоветской власти, – добавил с парфюмерной горечью Флагелянский. – Почему? С какой стати? Чем она его так обидела?
– Вот вы у него и поинтересуйтесь, – кивнул Шуваев.
– И поинтересуемся. Почему он опаздывает? Что за безобразие?!
– …Поинтересуетесь, обсудите и потом проголосуете, – спокойно разъяснил секретарь парткома.
– И проголосуем! – зловеще пообещал критик.
– А воздерживаться можно? – тихо спросила Ашукина.
– Нежелательно. Ну, а вы, Виталий Дмитриевич, что думаете?
Зыбин, страдавший перемежающимся косноязычием, поморщился, словно сдерживая жестокий зевок, и произнес длинную невнятную фразу. Я разобрал лишь словосочетание «идолы пещеры», зато уловил общий смысл: большой художник имеет право на заблуждения.
– А если эти заблуждения не совместимы со званием коммуниста? – вскрикнул, как от боли, Флагелянский. – И коль уж вы решили, уважаемый Виталий Дмитриевич, оперировать философемами Бэкона, то следует добавить: речь тут идет скорее о пещерном антисоветизме!
Зыбин ответил страстным монологом. Я ухватил лишь два знакомых имени, но общий смысл сказанного остался невнятен. Зато Шуваев, видимо, лучше разбирался в дикции Зыбина и замахал руками:
– Ты, Виталий, мне тут Сократа с Гегелем брось! Они не коммунисты. К тому же твой Сократ доболтался до цикуты. Учти!
– Его не за слова траванули, – довольно членораздельно ответил Зыбин, обнажив зубы, не знавшие забот дантиста. – Он мальчиков портил.
– А какое это имеет отношение к делу? – вспыхнул критик.
– Никакого! – Улыбка поэта стала еще шире: всем было известно, что Флагелянский дружит с Аликом и ужинает в ресторане ЦДЛ исключительно в обществе смазливых юношей.
– Ну, а ты-то чего отмалчиваешься, Василий Захарович? – спросил секретарь парткома.
Члены комиссии с интересом глянули на старого природоведа, ведь он творил в том же деревенском жанре, что и «виновник позора», более того, одно время они соперничали, поначалу идя вровень. В критике появилось даже устойчивое сочетание «школа Застрехина – Ковригина», потом стали говорить: о «школе «Ковригина – Застрехина», но постепенно молодой классик вырвался вперед, став признанным лидером направления, а старик Застрехин так и остался сидеть с удочкой у сельского прудика под ивой-печальницей.
– Я вот за что лис-то не люблю, – раздумчиво начал писатель-рыболов, выбросив окурок в форточку. – Залезет такая в курятник. Зима. Жрать хочется. Она и понятно: зайцев в округе всех перебили. Голодно. Ну, выбери себе куру пожирней, слопай, тявкни: «Спасибо, люди добрые!» – и беги к детишкам малым. Нет же, передушит, стерва рыжая, полкурятника, да еще нагадит, как подпись поставит…
– А ты это к чему? – удивился Шуваев.
– К слову.
– Ну, не знаю, не знаю… – вздохнула Ашукина. – Ковригин не лис, он заблуждается искренне.
– Волк он тамбовский! – буркнул Борозда.
– Вообще-то, он из Владимирской губернии, – поправил Шуваев.
– А вот еще интересно, что волки иногда задом наперед ходят, – вновь заговорил Застрехин.
– Зачем?
– А чтобы охотника со следа сбить.
– Верно! – воскликнул Флагелянский. – Задом наперед. В прошлое тащит нас Ковригин своими писаниями. Идеализирует посконную Русь, мыслит себя вне народа, выбравшего в семнадцатом году социализм. Он пишет, что якобы судьба специально уберегла его от фронта…
В рукописи действительно был такой рассказ: старый военврач услышал, как стоящий перед ним голышом юный призывник пробормотал: «Я не первый воин, не последний…» Сельский парень шпарит наизусть Блока, да еще к месту! Доктор пожалел самородка и послал не в окопы на верную смерть, а в распоряжение коменданта Кремля.
– Выходит, судьба его берегла, а нас, стало быть, нет? – побагровел Борозда. – Он, значит, белая кость, а мы оглодки человеческие?
– Но вы-то, Иван Никитич, тоже живы остались! – заметил Шуваев.
– Я-то жив, а из нашего выпуска всего пять человек уцелело, остальные в танках сгорели.
– Вот видите, выходит, и вас судьба сберегла! – прошелестела Ашукина.
– Выходит, сберегла… – задумался ветеран.
– Нет, товарищи, надо смотреть глубже! – встрял Флагелянский. – Помните, как там дальше у Блока?
– Что-то про родину… – робко вставил я.
– Верно: «долго будет Родина больна…» А чем больна наша Родина, по мнению Ковригина?
– Ну, мало ли чем… – развела руками Ашукина.
– Нет, коллеги, тут все не так просто! Врач комиссии явно из бывших, и он сразу догадался, что имел в виду начитанный призывник.
– А что он имел в виду? – заинтересовался Шуваев.
– А вот что: Родина больна Советской властью.
– Вы так считаете? – удивился секретарь парткома.
– Не я, а Ковригин, – замахал руками критик.
– Да нет же… Блок имел в виду татаро-монгольское иго, – тихо возразила Капитолина.
– Блок – да. А Ковригин имел в виду иго большевиков. Старичок это уловил и порадел будущему антисоветчику, – подытожил Флагелянский.
– Ну, это вы, Леонард Семенович, подзагнули! – совершенно разборчиво произнес Зыбин и нехорошо пристукнул пудовым кулаком по широкой ладони.
– Я вот за что псов цепных не люблю, – выбросив очередной окурок в форточку, молвил Застрехин. – Как зайдется ночью, визжит, захлебывается. Ну, думаешь, воры лезут или медведь в село забрел. Зарядишь ружьишко, выскочишь, а пустобрех кота на яблоню загнал и слюнями давится…
– Это вы к чему? – насупился критик.
– К слову.
– А что-то у нас председатель все отмалчивается? – улыбнулся Шуваев. – Давай-ка, Георгий батькович, изрони золотое слово!
Я похолодел, напрягся, пытаясь сосредоточиться, но обнаружил в голове одну-единственную соблазнительную мыслеформу, и касалась она завтрашнего свидания с Летой. К счастью, в комнату заглянула Арина и доложила:
– Владимир Иванович, звонит вдова Кольского.
– Которая?
– Старшая вроде бы…
– Соедини, – разрешил секретарь парткома.
Он принес соболезнования, потом долго слушал, скорбно кивая и повторяя: «Поможем, как не помочь, обязательно поможем!» Наконец, призвав вдову держаться и жить дальше, он положил трубку и поглядел на меня.
– Умер все-таки! – ахнул танкист. – Когда?
– Позавчера! Егорушка, ты там у себя в газетке про некролог-то не забудь!
– Обижаете, Владимир Иванович, уже заслан, – солидно соврал я, чувствуя между лопаток струйку пота: мы чуть не прошляпили смерть заслуженного литератора.
– Ну, и славно! Слушаем председателя комиссии…
– Для меня большая честь… долг… ответственность… – начал я, совершенно не зная, что скажу.
Тут снова заглянула Арина.
– Владимир Иванович, вдова Кольского.
– Да я ж с ней только что…
– Младшая.
– Извините, товарищи… Соединяй!
Он снова принес соболезнования, потом долго слушал, скорбно кивая и повторяя: «Поможем, как не помочь, обязательно поможем!» Наконец, призвав вдову держаться и жить дальше, опустил трубку на рычажки.
– А где хоронят-то? – спросил Застрехин.
– На Востряковском.
– Ишь ты!
– Вот что, Егор, завтра поднимай комсомол, будете Кольского выносить. Больше некому.
– Есть.
– Но чтобы в пятнадцать ноль-ноль был здесь как штык. Вы, товарищи-трибунальцы, тоже!
– А что у нас в пятнадцать ноль-ноль? – спросил Борозда. – Мне в два часа челюсть в поликлинике примерять будут.
– Отставить челюсть. Завтра в три часа у нас, товарищи, будет здесь Ковригин.
– Как завтра? – возмутился критик. – А сегодня?
– Позвонили… Нынче какой-то министр из Индии официальный обед дает, а у него без Ковригина кусок в горло не лезет, они, видишь ли, вместе по Тибету путешествовали. Государственное дело. В общем, звонили из МИДа – отпросили на сегодня виновника позора…
– А что же ты, Иваныч, заранее не сказал? – упрекнул Застрехин.
– Да вы бы сразу взбесились, а так хоть поговорили по душам.
– Это возмутительно! – взвился Флагелянский, но снова заглянула Арина:
– Владимир Иванович, вас в горком срочно вызывают.
– Ну, по коням, товарищи!
Прямо из парткома, чтобы не забыть, я позвонил моим комсомольцам Колунову и Ревичу, предупредив: завтра будут похороны с выносом тела, поэтому напиваться сегодня не стоит. Оба поклялись явиться без опозданий. Потом я забежал в редакцию – озадачить сотрудников некрологом, но там никого уже не было, дверь заперта, пришлось возвращаться за ключом в ЦДЛ к дежурному администратору. Войдя в темный коридор, я услышал странные птичьи звуки и увидел полоску света под дверью чулана. Что за чертовщина? Шаря на стене выключатель, я больно стукнулся голенью о проклятую Бобину оттоманку. Всех поубиваю! Я приготовился к схватке со злоумышленником, но в чулане на перевернутом ведре среди швабр сидел «чайковед» Копков и курлыкал в редакционный диктофон. Этот первенец советской радиотехники величиной с обувную коробку сломался год назад: кассета крутилась, но звук не записывался. Сдавали в ремонт, но там посмотрели и не стали связываться.
– Очень хорошо, что вы пришли, – блаженно улыбаясь, проговорил бывший эпроновец. – Я вспомнил, как чайки ругаются…
31. Растущие потребности
Прет в коммунизм страна моя,
Работает на совесть,
А на прилавках ничего,
Лишь под прилавком все есть.
А.
Когда в Москве появились первые универсамы, это казалось чудом! Открытие новых торговых точек при советской власти всегда было событием. В детстве я с радостью бегал в магазин, ведь мне разрешалось на сдачу купить себе за семь копеек мороженое – фруктовое, в стаканчике с палочкой. Хлеб, сколько я себя помню, продавали в старой деревянной булочной на Бакунинской улице, возле гастронома, который, судя по переплету окон, мраморным прилавкам, облупленной лепнине и бараньим завиткам колонн, открылся еще при старом режиме. От тех же времен остались кассовые аппараты, огромные, в бронзовом узорочье с вычеканенной надписью «Zinger».
В 1969 году мы переехали из Балакиревского переулка на окраину Москвы в Лосинку, и вот спустя несколько лет, навещая мою родную 348-ю школу, я не нашел хлебной палатки, казавшейся вечной. На ее месте посреди асфальта, взломанного корнями старинных тополей, зиял земляной прямоугольник, где, словно археологи, рылись пацаны, просеивая сквозь пальцы сор. Вдруг один закричал: «Чур, мое!» Остальные бросились к нему: «Ух, ты! Царская копейка!» – «Вчера тут серебряный гривенник нашли, а советской мелочи не сосчитать!» – сообщила мне словоохотливая старушка. В те годы люди легко вступали в беседу с незнакомцами. Я вспомнил, что в снесенной булочной пол был из рассохшихся досок, неловкие покупатели роняли монеты, которые по закону подлости закатывались в щели, исчезая. Гастроном сломали в середине девяностых.
В магазинах моего детства были дивные прозрачные витрины. Чтобы не томиться во взрослой очереди, я уходил к ним, прижимался носом к стеклу и разглядывал выложенную снедь: длинноносых осетров, пупырчатых синих цыплят, ноздреватые желтые сыры, окорока и колбасы, розовые, как попка младенца, красную и черную икру в больших эмалированных лотках. Я знал, что из каждой икринки мог бы вылупиться малек, и это соленое кладбище миллионов нерожденных рыбок вызывало у меня отчаяние. Отец предупреждал: «Смотри, толкнут, витрина расколется, без носа останешься!» Но остаться без носа – это такой пустяк по сравнению с трагедией невылупившихся мальков!
В каждом магазине имелись кассовые кабины, сработанные из лакированного дерева, тоже застекленные. На высоких табуретах в них восседали, царя над покупателями, кассирши, все как на подбор дородные, напудренные, завитые, увешанные серьгами да брошами. Работали они не спеша, с достоинством. Отстояв очередь, покупатель приникал к полукруглому вырезу в стекле, точно кланялся, и говорил почему-то всегда просительно: «Тринадцать и восемнадцать копеек в хлеб». Кассирша щелкала на деревянных счетах, складывая цены. «Пятьдесят шесть и тридцать пять в рыбный». Щелк-щелк. «Два тридцать в мясной». Щелк-щелк. «Три шестьдесят две и четыре раза по тридцать семь в винный». Щелк-щелк-щелк-щелк. «Это все?» – «Нет, еще рубль девяносто в кондитерский». В каждый отдел полагался свой отдельный чек. Кассирша, поглядывая на счеты, клацала по клавишам аппарата, набивая сумму.
Кстати, покупатель мог даже не называть цену и отдел, а просто сказать: батон и орловский хлеб, килограмм трески и килька в томате, кило докторской колбасы, бутылка водки и четыре пива, торт «Сюрприз». Кассирша наизусть знала все цены, не менявшиеся десятилетиями, да и ассортимент продуктов вполне умещался даже в склеротической памяти. Щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. Она с треском проворачивала ручку кассового аппарата, такую же, как у бабушкиной швейной машинки. Из щели выползали сине-серые чеки, а в узком окошечке перед глазами покупателя выпрыгивала требуемая сумма, на которую для наглядности указывал сбоку нарисованный палец. Оставалось заплатить, сколько надо, забрать сдачу, чеки и отправляться в новую очередь – к прилавку.
Продавщицы (мужчины работали только в мясном отделе), отпускавшие по чекам продукты, тоже никуда не торопились. Во-первых, зарплата от количества проданного товара не зависела, а во‐вторых, их постоянно просили то порезать колбаску, то выбрать селедочку пожирнее, то завернуть мясо в два слоя бумаги… Иногда очередь возмущалась: «Дамочка, да берите же что-нибудь, наконец! Все селедки одинаковые, все из Атлантического океана!» В каждый отдел выстраивался свой хвост, а если давали дефицит, например гречку или тушенку, очередь многократно возрастала, но редко высовывалась на улицу, извиваясь, сплетаясь в помещении, точно кишечник в животе. Обычно занимали очередь сразу в несколько отделов, перебегая туда-сюда, чтобы отоварить чеки. Но в любом случае поход за продуктами затягивался надолго. Едва научившись читать, я стал брать с собой в магазин книжку – так веселее.
Теперь представьте себе новые спальные районы, где народу гораздо больше, чем в старой Москве, а торговых точек намного меньше. Когда мы с женой поселились в 1975 году в Орехово-Борисово, там работало всего два магазина, да и те наскоро оборудовали на первых этажах жилых домов, сохранив планировку квартир: вино продавали на кухне, мясо – в спальне, а бакалею – в гостиной. Конечно, люди все везли из центра, в автобусах пахло колбасой, сыром и рыбой. Вдруг, о радость, по французской, кажется, технологии на окраинах стали спешно строить универсамы. Я как раз вернулся из армии и утром, после долгожданного и неутомимого правообладания, был отправлен в магазин, ибо ничто не дает женщине такого чувства стабильности семейного очага, как возможность утром послать мужа за хлебом или молоком.
Войдя впервые в новый универсам на Домодедовской улице, я обомлел: торговое пространство напоминало крытый стадион. Исчезли продавцы, взвешивавшие и отпускавшие товар, не стало очередей в отделы, никто не просил нарезать колбаску потоньше или выбрать говядину на сахарной косточке. Нет: куски мяса, сыра, масла, колбасы, затянутые в прозрачную пленку, лежали на открытых эмалированных прилавках, тянувшихся вдоль стеклянных стен, за которыми трудились женщины в белых халатах, похожие на медсестер. Они неутомимо резали, взвешивали и фасовали продукты, налепливая желтые ценники. Время от времени фасовщицы отодвигали стекло и кидали на лотки упаковки – к ним бросались бдительные покупатели, выбирая куски посимпатичнее. В холодильных саркофагах, овеянные морозной дымкой, индевели пачки пельменей, креветок, рыбных тушек и оледеневших овощей. Бакалею разместили на длинных многоярусных стеллажах. Морковь, картошка, свекла, редька, другие корнеплоды, взвешенные и упакованные в сетчатые мешочки, ждали покупателя в высоких клетках, наподобие той, в какой везли на казнь Емельку Пугачева. Капустные кочаны лежали в больших стальных корзинах, как головы гильотинированных аристократов. Прохладительные напитки, включая заветное пиво, грузчики вывозили в торговый зал на платформе с длинным тяглом. Пластмассовые ящики с бутылками были сложены в пять-шесть ярусов и опасно кренились.
Настоящее спиртное по традиции продавалось в особом отделе, куда можно зайти только с улицы. Железная дверь открывалась в 11 часов утра, но хвост выстраивался за час, ведь для кого-то это был вопрос жизни или смерти. Вечером, ровно в семь железная дверь безжалостно захлопывалась, по живому разрубая очередь и обездоливая тех, кто остался снаружи. Гуманизм в этой сфере торговли пришел в Отечество гораздо позже. Впрочем, некоторые признаки смягчения питейного режима брезжили и тогда: дорогой алкоголь – кубинский ром, португальский портвейн, венгерский вермут, шампанское, ликеры и выдержанные советские коньяки – продавались в общем торговом зале, сразу за кассовым барьером. Иногда к прилавку прибивались простодушные граждане и дивились:
– Арманьяк. Двадцать пять рублей? Ни хрена себе! А что это такое?
– То же самое, что и коньяк, но хуже. Французы нам за нефть гонят.
Набрав продукты в казенную кошелку, покупатель шел к кассам, которые выстроились в ряд, напоминая турникеты в метро. Там, в кабинках без стекол, сидели приветливые девушки в фирменных халатиках. «Пикалок», считывающих цену и штрихкод, тогда еще не завели, но кассирши быстрыми наманикюренными пальчиками щелкали по клавишам, сверяясь с наклейками на упаковках. Хлеб, молоко, кефир, муку, сахар, крупу они выбивали, даже не глядя: тоже знали вечные цены наизусть. Никаких ручек уже не крутили – чековая лента с жужжанием выползала из аппарата сама собой. Жить стало легче, веселее, магазинные мытарства сделались короче. Прогресс!
Правда, даже к многочисленным кассам обычно стояли хвосты, особенно вечером, когда все возвращались с работы. Ревнивый к несовершенствам социализма, потребитель стал роптать: «Опять коммуняки недоглядели!» – «А где их нет, очередей-то?» – спрошу я вас. Воображаю, как апостол Петр возле узких райских врат кричит: «Не напирайте! По одному! Все там будете!»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.