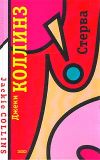Текст книги "Секс в СССР, или Веселая жизнь"
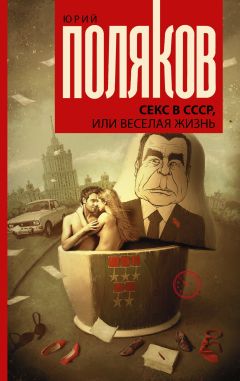
Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 44 страниц)
Мы разделись. Пахло в сауне
Мятою и чабрецом.
– Ах, не надо! – ты сказала мне
С разрешающим лицом.
А.
Директор издательского комбината Владимир Анатольевич Головчук, ухоженный бабник сорока с лишком лет, как и положено номенклатурному кадру, был давно, безнадежно и безрадостно женат, восполняя тяготы унылого брака тем, что не пропускал мимо ни одной юбки. Впрочем, к концу 1970-х это выражение устарело: едва ли не половина сотрудниц ходила на службу в брюках и джинсах, которые гораздо соблазнительнее, нежели платья и юбки, выявляли усидчивые ягодицы советских тружениц. Неодолимая тяга директора к дамам сразу бросалась в глаза. Стоишь с ним, бывало, в коридоре, выслушиваешь нагоняй за срыв графика, а тут мимо спешит, стуча каблучками и повиливая станом, девица из производственного отдела. В откормленном лице Головчука сразу что-то вздрагивало, и, не прекращая делового разноса, он, словно флюгер, поворачивал свой мощный нос вслед удаляющемуся соблазну:
– Как она тебе?
– Впечатляет.
– Даже и не думай!
Женскую часть вверенного ему коллектива Головчук оберегал, точно султан свой гарем. Подчиненных мужиков, пытавшихся заводить романчики с сотрудницами, он подлавливал на оплошностях, умело подставлял, давил выговорами и увольнял «по собственному желанию». Со временем почти все сотрудницы, пригодные к поцелуям, стали ему, скажем мягко, не чужими. Но тут случилась серьезная неприятность. В издательстве служила хорошенькая бухгалтерша, с ней Владимир Анатольевич подолгу, запершись в кабинете, сводил дебет с кредитом или наоборот. Дурочка сначала верила обещаниям развестись и жениться, а потом прозрела и наябедничала в райком партии. Блудливому руководителю влепили выговор с занесением и предупредили: еще одно развратное действие в коллективе – и он вылетит из номенклатуры, как обгадившийся щенок. А это не шутки!
В общем, сексуальные радости без отрыва от производства накрылись, а котовать в нерабочее время было непросто. Во-первых, типографское дело по природе своей хлопотное, требует пригляда от темна до темна. Во-вторых, дома караулит жена, бдительностью мало отличаясь от дознавателя НКВД. В субботу и воскресенье (это в‐третьих) тоже не вырвешься на простор желаний: квартиру отпылесось, грядки на даче перекопай, «жигуль» отремонтируй, с сыном-оболдуем математикой займись, а если останутся силы, и жену через не могу приласкай: живой все-таки человечек. В таких условиях, согласитесь, трудно заниматься спортивным сексом.
Головчук потосковал, погрустил и по тогдашней моде завел в пристройке директорскую сауну. А что? Производственные площади бесплатные. Воды, в том числе горячей, залейся, электричество почти дармовое. Оставалось обшить стены осиной, сколотить полки, соорудить каменку, пустить душ, завести самовар и поставить в комнате отдыха широкий диван. Парься и расслабляйся! Сколько там помылось и расслабилось милых особ – неведомо, так как в баню водили своих дам друзья и полезные люди: саун-то в Москве в ту пору было раз-два и обчелся. Особенно ценили гости фирменный директорский настой чабреца: плеснешь на раскаленную каменку, и парная наполняется неизъяснимым ароматом крымских степей…
Зашел Бабошин с правленой версткой, Чунин скользнул глазами по полосам, я проверил, все ли хвосты втянулись, Валера шлепнул на полях большой штамп, поставил цензорский номер, дату и витиевато расписался, а я следом подмахнул: «Под пресс!» Бабошин ушел.
– Слушай дальше!
…Сам Головчук тоже не зевал, умело вовлекая гражданок приятной наружности в банные процедуры. Удобно: попарился с подругой, сбегал в кабинет, поруководил издательством, потом снова спустился в сауну и снова попарился с затомившейся чаровницей. Здесь-то его и караулила большая беда. Как-то в театре «Современник» он познакомился со скучающей эффектной дамой, которая при внешней холодности оказалась впоследствии буквально кладом залежалой чувственности. Поначалу все складывалось отлично, она работала в школе и освобождалась рано, имея возможность по пути в семью помыться и утешиться. Однако муж страстной театралки служил не где-нибудь, а в МУРе следователем и страдал профессиональной наблюдательностью. Со временем он заметил странную закономерность: откуда бы ни возвращалась его супруга: из театра, цирка, консерватории, со дня рождения подруги, от портнихи, из магазина или планетария – от нее непременно веяло чабрецом. Более того, прежде жена постоянно пилила его за службу без выходных, поздние возвращения домой с заданий, регулярные выпивки с сослуживцами и, как следствие, превращение супружеского сплочения в редчайшее явление, подобное грозе над Каракумами. И вдруг с некоторых пор упреки прекратились, наоборот, появление мужа в тактильной близости стало вызывать у нее брезгливое раздражение. Суммировав и осмыслив улики, в один прекрасный день сыщик устроил своей половине допрос с пристрастием и расколол. Она не смогла внятно объяснить, почему от нее, воротившейся с группы продленного дня, разит чабрецом, а в сумочке таится скомканная влажная шапочка для душа. В итоге испуганная женщина чистосердечно призналась, выдав полового сообщника и явочную сауну…
Заглянул Бабошин и положил на стол полосы. Я посмотрел: главное, чтобы не заверстали какой-нибудь снимок вверх ногами – такое случается, и написал на полях: «В печать!»
– Слушай дальше! – хихикнул Чунин, когда верстальщик вышел.
…Нет, разъяренный муж не бросился бить морду сопернику или, того хуже, не пошел, вогнав обойму в табельный пистолет, на мокрое дело. О нет! Отходив изменщицу парадным ремнем, муровец ее простил, но задумал в назидание другим посадить Головчука за содержание притона в режимном помещении под видом оздоровительно-помывочного пункта. Сняв с жены развернутые письменные показания, он пошел к генералу, а тот, вскипев, позвонил в райком. Трогать номенклатурного работника без ведома партии не дозволялось: горький опыт Большого террора, когда чекисты, войдя во вкус, карали без разбора, не пропал зря. В райкоме же, зная прежние грехи директора, возражать не стали и дали добро на ликвидацию гнезда разврата. Наутро планировались обыск в типографии и арест злостного нарушителя советского целомудрия…
Заявился Торможенко:
– Вот ты где… Я уж домой пойду?
– А кто тираж будет выносить?
– Ты, что ли, с Гариком не дотащишь?
– Иди отсюда!
…Но не зря же Головчук зазывал в сауну нужных людей, один из них, по счастью, служил как раз в МУРе и накануне вечером слил информацию. Когда оперативники в восемь утра нагрянули в издательство, они, к своему изумлению, обнаружили в пристройке, где, по агентурным данным, гнездилась аморальная сауна, лишь голые кирпичные стены и бетонный пол. В помещении одуряюще пахло типографской краской, а посредине стоял рычагастый линотип, за которым сидел наборщик в синем халате и шарил пальцами по клавишам. Группа захвата вернулась ни с чем, но обманутый рогоносец продолжал настаивать: он нашел бомжей, видевших, как ночью что-то спешно грузили на машины и увозили из издательства. Тогда жену вызвал на ковер сам генерал, однако она уже успела посовещаться с мамой и любовником, поэтому чистосердечно призналась высокому начальнику, что, измученная невниманием, придумала всю эту историю, чтобы вызвать ревность мужа и вернуть его в супружеское состояние.
– А чабрец?
– Сама, товарищ генерал, заваривала и опрыскивалась…
– Ишь ты, затейница какая! Может, лучше «Шанелью» вспрыснуться? – посоветовал начальник, с мужским интересом глядя на выдумщицу.
– Пробовала. Не помогает.
Генерал посмеялся над бабскими хитростями, вызвал оскандалившегося сыщика и объявил ему о неполном служебном и семейном соответствии, обязав вникать в надобности супруги, почаще устраивая ей ночью очные ставки…
Зашел Бабошин и позвал меня в ротационный цех.
– А ты, Валер, был в той сауне? – спросил я, вставая.
– Сподобился.
– Вдвоем?
– Втроем.
– Ну и здоров же ты, Валера!
– Это все сыроедение…
63. Горячая подмышка Москвы
Чтобы остограммиться с утра,
Нет ни денег, ни пустой посуды.
Что ж вы, пролетарии всех стран,
Не соединяетесь, паскуды?!
А.
К моему приходу печатники уже собрали и закрепили форму на трофейной ротационной машине. Более того, они успели тиснуть пробные экземпляры, приправив, подточив и подтянув металл. Я с треском развернул пахнущий краской свежий номер. Мастер смены Константиныч, привыкший к придиркам Макетсона, поглядывал на меня настороженно. Как учили, сначала следовало осмотреть логотип. Все вроде на месте. Конечно, можно посмеяться, мол, куда он, логотип, денется-то? Однако всякое случается. В «Сельской жизни» однажды, черт знает почему, пропал обязательный для всех газет СССР призыв основоположников: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – а он должен непременно стоять над названием органа. Грянул скандал. Наказали кучу народа – кого рублем, кого по партийной линии. Ошибка-то идеологическая – явное покушение на суть советской печати.
Затем я изучил выходные данные на четвертой полосе, в самом низу. Тоже не лишняя предосторожность. Лет двадцать тому назад главный редактор «Социалистической индустрии» лечился в Кисловодске. Утром, как обычно, испил он перед завтраком минеральной водички из источника, купил в киоске свежий номер родной газеты, оставленной временно на заместителя, глянул: а в выходных данных вместо фамилии главы органа пустое место. Почему? Понятное дело: сняли с должности. Как говаривал Людоед у Шварца, человека проще всего съесть, когда он болеет или в отпуске. Главред тут же у киоска рухнул с инсультом, а потом выяснилось: верстальщик спьяну строчку потерял.
На всякий случай я наискосок просмотрел все полосы. Вроде бы порядок. Вот только рубрика «Наши юбиляры» на зеленой подложке чуть сместилась, но в пределах допустимого. Фотография Кольского темноватой получилась, но это при ротационной печати обычная история. Я строго глянул на мастера, он виновато отвел глаза, надеялся: не замечу. То-то! Макетсон бы их сейчас всех построил, прочитал нотацию, заставил переливать форму, а это на круг два часа. Метро закроется, смену будет развозить издательский автобус, и, значит, кто-то доберется домой глубокой ночью. Ради чего?
– Снимок надо высветлить!
– Сделаем!
– Ну смотрите у меня!
Я великодушно вынул из кармана ручку и написал в правом углу первой полосы «В свет!».
Ликуя, печатники подтянули болты, и, содрогнувшись, трофейный ротатор выплюнул наши две тысячи экземпляров со скоростью преждевременного семяизвержения. Половину тиража сразу же унесли в экспедицию: завтра разошлют подписчикам. Оставшиеся газеты сложили в три пачки. Я пытался вызвать по внутреннему телефону Гарика, но в дежурке его не оказалось, пошли искать по этажам. Чтобы скрасить мое ожидание, типографский пролетариат на радостях, что освободился, налил мне портвейна и вручил пробный оттиск послезавтрашней «Литературной газеты», печатавшейся на той же машине. Наконец явился пропавший шофер, он шел расслабленной походкой, улыбаясь, как идиот.
– Ты где болтался?
– Если скажу, Егор-джан, не поверишь…
– Накладную взял?
– Обижаешь.
Мы потащили пачки к выходу, предъявили накладную вохровцу, и тот, нацепив очки, долго исследовал бумажку, точно мы выходили из Алмазного фонда с мешком бриллиантов. Наконец страж, пересчитав пальцем пачки и вздохнув, как будто совершал должностное преступление, пропустил нас. Бросив тираж в багажник, мы двинулись в обратный путь. Утром Гарик сделает официальную развозку: райком, горком, ЦК, Книжная палата, творческие союзы… Полсотни экземпляров мы всегда оставляли для авторов, остальное отдавали в Дом литераторов на реализацию – по две копейки за газету, чем с удовольствием занимался Козловский, а Данетыч брезговал.
Шел одиннадцатый час, Москва померкла. Машин на улицах было немного, а прохожих и того меньше. Народ после трудового дня убыл в свои спальные районы. Садовое кольцо обезлюдело и потемнело: витрины закрывшихся магазинов погасли. Светились лишь дежурные аптеки и редкие, как маяки, рестораны. Вдалеке справа мигала огнями телебашня.
Останкино, словно огромный термометр,
Торчит из горячей подмышки Москвы…
Вспомнил я свои юношеские строки и подивился яркости отпущенного мне таланта. Кой черт понес меня в прозу?! Писал бы себе стихи и поплевывал, а теперь вот живи с этими непроходными повестями, как с рецидивирующим герпесом.
Сначала мы заехали в Дом литераторов, чтобы скинуть пачки в гардероб и взять у администратора ключи от редакции. Сотрудник «Стописа», уходя последним, сдавал связку на контроль. Козловский радостно принял розницу и стал, крохобор, пересчитывать газеты. Меж тем из ресторана, поддерживая друг друга, явились за одеждой два провинциальных писателя, судя по выговору, с юга России. Гардеробщик услужливо подал им пальто и шляпы, помог одеться и даже смахнул щеточкой перхоть, шепча что-то с видом заговорщика. Они выслушали с интересом и кивнули. Тогда Козловский, под неодобрительным взглядом Данетыча, воровато извлек из-под прилавка «самиздат» в бежевом ледерине. Хохлы полистали, пошептались и, сбросившись по пятерке, взяли экземпляр.
Редакционных ключей на контроле почему-то не оказалось. Выходя на улицу, я увидел в тамбуре письменников. Сблизив шляпы, они склонились над «самиздатом». Одного взгляда через плечо мне хватило, чтобы понять: у них в руках не что иное, как «Крамольные рассказы» Ковригина. Ай да Крыков, ай да сукин сын! Оперативно работают они с Фагиным!
Гарик ждал меня в машине.
– Чего так долго, Егор-джан?
– А куда ты торопишься? Сегодня понедельник – день тяжелый.
– Я у них дома теперь ночую. Неудобно перед старшими, если совсем поздно прихожу – просыпаются.
– Они же на даче?
– Вернулись.
– А где живет твоя Марго?
– На Сивом Овражке.
– В Сивцевом Вражке? – переспросил я. – Ничего себе! Где же ее папа все-таки работает?
– Как-то смешно называется… Мимо… Есть такая?
– Может, МИМО?
– Точно. А что это?
– Институт международных отношений. И кем же?
– Директором.
– Может, ректором?
– Во-во, клянусь солнцем матери, главным ректором работает…
Мы развернулись на пустой улице Герцена и через коротенький переулок подъехали к редакции. Возле посольства, сбоку от раскопа, стоял мощный тягач с широкой низкой платформой, с которой по железным сходням сползал на землю асфальтовый каток, похожий на огромный утюг. Один рабочий сидел за рулем «утюга» и озирался. Второй размахивал руками и орал страшным матом: «Правей, пожалуйста, бери, товарищ, правей!» Соскучившийся по новым впечатлениям, посольский постовой с интересом наблюдал за шумной разгрузкой. Дверь в редакцию оказалась заперта изнутри, я долго стучал, пока мне не открыл смущенный Макетсон.
– Я думал, вы утром авторские завезете… – смутился он.
– Сегодня рано подписались.
– А-а…
Мы занесли в залу оставшиеся газеты. Гарик бросился к телефону. Я огляделся: ответсек соорудил себе из двух кресел ложе, застелив старой портьерой, и, видимо, уже укладывался спать. На краю тумбы стоял приемник «VEF».
– Вы уже слышали? – таинственно спросил он.
– Что именно?
– Андропов вышел из комы, – сообщил Макетсон, кивнув на транзистор.
– Неужели? А чего вы в редакции ночуете?
– Я ушел от Гали. Вы же знаете.
– А Маша?
– Мама вернулась из профилактория. Уже обследовали. Теперь это быстро. Георгий Михайлович, как вы думаете, зачем меня туда вызывают? Всю голову сломал.
– Может, для отчета о проделанной работе?
– Шутите? – Он посмотрел на меня с тоской.
– Ну почему же?
– Гоните сюда ваш талон и двенадцать рублей шестьдесят четыре копейки. Завтра, пока будете с Ковригиным разбираться, Гарик за заказами слетает.
– А что так дорого? – поинтересовался я, отдавая деньги.
– Обещали сверх списка печень трески и двести граммов чавычи. Балуют.
– Есть за что.
Зайдя в кабинет, я посмотрел на часы: до одиннадцати оставалось пять минут. В окне было темно и пусто. Ни ноги! После нескольких долгих гудков Лета сняла трубку.
– Привет, – сказала она печально.
– Как бабушка?
– Лучше. Скоро выпишут.
– А что такой голос грустный?
– Нет настроения.
– Еще что-нибудь случилось?
– Я заявление по собственному написала. Игорь отказался. Будет судиться. Вот дурачок…
– А завтра?
– Завтра как договаривались. После семи.
– Я в старом корпусе. У меня тридцать седьмой номер.
– Найду. Мы там как-то у Катьки Марковой гуляли. Закуска за тобой. Я после халтуры страшно жрать хочу.
– Не волнуйся!
Макетсон лежал в креслах, накрывшись плащом, и при свете настольной лампы читал «Иосифа и его братьев».
– Спокойной ночи! – попрощался я.
– До завтра! Вам не кажется, что Томас Манн многословен?
– Об этом лучше с Торможенко поговорите. Я не стилист.
Тягач с платформой уехал, оставив возле посольства могучий каток, застывший у раскопа, словно подбитый танк перед бруствером. Когда мы через улицу Воровского выезжали на площадь Восстания, я увидел Золотуева. Он стоял неподалеку от Дома литераторов, обняв тротуарную липу. Как он тут оказался, гадать бессмысленно: перемещение пьяных в пространстве и времени – одна из самых темных тайн природы. Понимая, что Влада заберет в вытрезвитель первый же наряд милиции, я велел Гарику остановиться. Мы дотащили бесчувственного поэта до машины и запихнули на заднее сиденье.
– Не обрыгает чехлы? – засомневался шофер.
– Может.
– Вай ара, у нас так не пьют!
– У вас климат другой, – не очень убедительно возразил я.
Через пять минут мы уже мчались мимо Триумфальной арки, похожей на ворота от снесенной крепости.
– Куда мы едем? – на полпути очнулся Золотуев.
– В Переделкино.
– Правильно!
64. Кролики идут. Бобры стоят
Вчера еще ты был никто,
Бродил туда-обратно.
Откуда ж финское пальто
И шапка из ондатры?
А.
А прошлогодняя история с Золотуевым закончилась феерически.
Поняв, что случилось, Влад схватился за сердце и потребовал водки. Его отчаяние понять можно. Ситуация чудовищная: секретарь партбюро поэтов надевает пальто заведующего отделом культуры горкома партии и уходит, не заметив подмены. Объяснить это творческой рассеянностью невозможно: украл или надрался. Но и Клинский спохватился лишь утром, видно, крепко погуляв на дне рождения Переслегина, о запоях которого ходили легенды. Однажды на грандиозном поэтическом вечере в Софии, после ночи, насыщенной стихами и коньяком «Плиска», он потерял равновесие и рухнул на четвереньки возле микрофона, уткнувшись лицом в сцену. Набитый зрителями зал академического театра ахнул. Но поэт встал, расправился и отчетливо произнес: «Я в грудь тебя целую, святая Болгарская земля!» Местный партийный лидер Тодор Живков, почтивший мероприятие присутствием, прослезился и наградил поэта орденом «Кирилла и Мефодия».
Я побежал за водкой в «Белград». Универмаг полчаса как открылся, но людей, приехавших сюда, на окраину Москвы, за югославским товаром, было уже полным-полно. Меж покупателей сновали спекулянты, из-под полы торгуя вчерашними дефицитами. Местные пенсионерки и домохозяйки шепотом предлагали места в самом начале очереди за товаром, который еще на прилавки не выложили, но слух уже пошел гулять по этажам. Другие специализировались на торговле алкоголем с ресторанной наценкой, так как винный отдел в «Белграде», как и во всей советской стране, открывался лишь в 11.00. Заплатив вдвое, я взял у интеллигентной старушки четвертинку «Пшеничной», а на закуску, причем даром, она выдала мне домашний пирожок с капустой – еще теплый. Я съел его на обратном пути. В одряхлевшем чреве социализма вызревал новый строй – жадный, хваткий, оборотистый…
Влад сидел в той же позе, одной рукой держась за сердце, другой закрыв лицо. Я налил ему стакан и выдал холодную котлету с соленым огурцом. Он безмолвно выпил, безжизненно зажевал, а потом дрожащим пальцем набрал номер, нацарапанный на бумажке. У несчастного секретаря партбюро поэтов было лицо сапера-двоечника, приступившего к разминированию.
– Алло, приемная?.. Это… это Золотуев Владислав Александрович… Да, конечно, подожду…
– Ну? – взглядом спросил я.
– Сейчас соединят. Тс-с! Василий Константинович, это Золотуев… простите, я, знаете, вчера после бюро так торопился домой, что по ошибке… Мне страшно неловко…
Далее он только слушал, кивая, розовея и даже через силу улыбаясь.
– Понял! Буду! Спасибо! – Влад осторожно положил трубку на рычажок и, ликуя, повернулся ко мне. – Какой человек! Сказал – мы с вами, кажется, вчера оба очень торопились…
– Если он пил с Переслегиным, это вполне возможно.
– Какой человек! Мягкий, интеллигентный. В час мы встречаемся на площади Ногина. В метро. Он спустится. У них обед. Господи, есть же настоящие люди! – На радостях Влад допил четвертинку и с аппетитом доел котлету с огурцом. – От меня не очень пахнет?
– Раками воняет! – мстительно ответил я.
– Давай одеколон!
Изнывая, я принес едва начатый французский флакон, подаренный мне женой к 23 Февраля. Дефицитным одеколоном я пшикался экономно, но злодей Золотуев опрыскивался так долго, словно распылял дуст. В завершение он пустил длинную струю себе в рот и дыхнул на меня:
– Нормально?
– Более чем! – чуть не плача, отозвался я.
– У нас есть время?
– Есть.
– Я посплю часок.
…Без десяти час мы стояли в метро на платформе «Площадь Ногина», почти пустынной в это время дня. Через равные промежутки времени из тьмы тоннеля, ревя, вылетали голубые составы, со скрежетом останавливались и выпускали на платформу немногочисленных пассажиров, в основном столичных гостей, которые спешили наверх, в ГУМ, «Детский мир» и к достопримечательностям Красной площади. Перрон снова пустел. Только сельская бабушка, в оренбургском платке и плисовом жакете, скиталась туда-сюда, перекладывая с плеча на плечо тяжелый мешок. Заблудилась…
Вдоль перрона ходила дежурная в черной шинельке и красной шапочке. Она помахивала маленьким семафором, напоминающим круглое зеркало на длинной ручке, и подозрительно посматривала в нашу сторону. После взрыва в метро, устроенного армянскими националистами, все стали гораздо бдительнее. Но мы, хоть и таились за колонной, выглядели вполне респектабельно: Влад в дорогом финском пальто из распределителя и ондатровой шапке. На мне тоже была хорошая импортная куртка на меху, ее добыла жена, целый день отстояв в ГУМе.
– От меня водкой не пахнет? – снова спросил мнительный Золотуев.
– От тебя пахнет моим одеколоном, – с горечью успокоил я.
Мы ждали, неотрывно глядя на широкую лестницу, по которой должен был сойти к нам на платформу небожитель Клинский. Но он не появлялся. Наверное, какое-нибудь совещание затянулось. Мы еще раз осмотрели перрон: никого, кроме той же бабули, беседовавшей с бомжеватым хмырем в обвислом пегом пальто и кроличьей бесформенной шапке. Старушка, видно, выспрашивала, как попасть на вокзал. Однако мне бросилась в глаза одна странность: ботинки бомжа, черные, остроносые, на тонкой подошве, сияли непорочным глянцем. Такую обувь носят лишь те, кто перемещается в пространстве на машине – от порога до порога.
– Смотри! – Я толкнул друга в бок. – Это же Клинский!
– Где? Нет. Хмырь какой-то…
– А ботинки?
– Не похож, хотя… – заколебался Золотуев, несколько раз видевший партийного босса на совещаниях.
– Пальто на нем твое?
– Мое.
– А шапка?
– Не моя…
– Иди! Потом разберешься.
– Ну, я пошел…
Дальше все случилось как в шпионском фильме. На пустой платформе сближались два человека: импозантный мужчина и бомжеватый субъект. Они сошлись на середине, обменялись рукопожатиями, затем шапками, потом шарфами и наконец пальто. На глазах изумленной дежурной бродяга превратился в солидного, номенклатурного гражданина, а импозантный Влад – в полубомжа. Преобразившись, они еще раз пожали друг другу руки, и Клинский державным шагом двинулся вверх, а Золотуев вернулся ко мне:
– Какой человек! Даже не упрекнул! – Его лицо светилось счастьем.
– Владик, – сквозь хохот спросил я, – как же ты шапку свою не узнал?
– А чем тебе не нравится моя шапка? – Он снял с головы замызганного кролика и любовно погладил. – Нормальная шапка, не хуже, чем у него…
– Кролики идут – бобры стоят… – заржал я, сползая вниз по колонне.
– Какие бобры? – обиделся поэт.
– С армянского радио…
– Молодые люди, может, вам наряд вызвать? – сурово поинтересовалась дежурная.
– Не надо. Уходим.
Был при советской власти такой популярный анекдот: у армянского радио спрашивают, что это такое: кролики идут, а бобры стоят? Ответ внезапен: демонстрация трудящихся. Посланцы общественности, шагавшие по Красной площади 7-го Ноября с флагами и транспарантами, были по преимуществу в кроличьих ушанках. А члены Политбюро, стоявшие на Мавзолее, – в ондатровых или бобровых шапках. Только Суслов, как всегда, в своем сером каракулевом «пирожке». Теперь этот анекдот надо долго объяснять, но тогда, в начале 80-х, все смеялись как ненормальные, наливаясь праведным гневом. Простого человека в те годы куда больше бесила дефицитная шапка на голове начальника, нежели сегодня – реальная классовая несправедливость. Ныне, когда сталелитейный гигант, детище двух пятилеток, почти даром достался вору в законе с невыговариваемой грузинской фамилией, анекдотов об этом никто не рассказывает и не пузырится от негодования. Куда идем? А главное – зачем?
Золотуев умер в 2006 году, едва отметив 60-летие. Лет за десять до смерти он плюнул на Москву, вернулся на родину, даже некоторое время возглавлял тамошнюю писательскую организацию. Будучи проездом в тех местах, я сходил на могилу со свежим крестом и венками, еще не выцветшими. Общие знакомые рассказали: после двух инсультов и пяти женитьб Влад почти не пил, разве – бокал-другой красного сухого для гемоглобина. Но это не помогло.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.