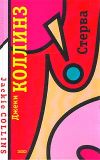Текст книги "Секс в СССР, или Веселая жизнь"
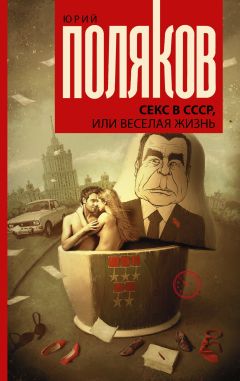
Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 44 страниц)
Когда гульба покатится лавиной,
Пей, но следи, кто громче всех несет
КПСС да рюмку половинит —
Тот, к бабке не ходи, и есть сексот!
А.
После обеда я решил выпить кофе и встал в очередь к буфету, где Дуся на агрегате величиной со сноповязалку варила, как бы мы сегодня сказали, эспрессо. Ни капучино, ни латте, ни американо – тогда еще никто не знал, за исключением выезжавших на Запад. Хитрость была в том, что, смолов зерна, буфетчица, мухлюя, из одной засыпки делала три чашки кофе. Если попадалась первая порция – ты за пятнадцать копеек получал вполне приличный ароматный напиток с ажурной пенкой, вторая чашка была пожиже, но пить можно, а вот третья содержала слегка подкрашенный кипяток. Зная этот секрет, я прикинул: сейчас Дуся выставит мне бурду, и галантно пропустил вперед незнакомую, явно не московскую даму, судя по глуповатому лицу – поэтессу. Провинциалка, не посвященная в тайны столичной литературной жизни, душевно поблагодарила.
– На здоровье!
Вдруг из очереди меня выдернула чья-то рука, и знакомый голос тихо пропел в ухо:
– «Пойдемте сударь, о, пойдемте, вас ждут давно-о в заве-е-етном уголке-е-е!»
Лялин, обняв, повел меня на «веранду», примыкавшую к Пестрому залу. Там за закрытыми дверями питались литературные начальники и важные, в том числе зарубежные, гости. «Веранда», обшитая деревом и украшенная грузинской чеканкой, сегодня пустовала, если не считать сидевшего за обильным столом Бутова, одетого в синюю ветровку с нашивкой «Porsh». Такого количества молний на отдельно взятой куртке мне прежде видеть не приходилось. Модный народ – чекисты!
– «Выпей меда, выпей бра-а-аги, про изменщицу забу-удь!» – пробасил Папикян, усадил меня и взялся за бутылку с нежной решимостью.
– Мне сегодня еще работать… – и я, как на плакате, заслонил ладонью пустую рюмку.
– А нам, значит, бездельничать? – нехорошо усмехнулся Палыч.
– Граммулечку, Жоржик! Армянский выдержанный. Обидишь!
– Ладно…
Понимая, что мне еще подписывать в свет газету, я только обмочил губы в ароматном коньяке.
– Ну как там ваша комиссия? – прищурившись, спросил Бутов.
– Работаем.
– Знаем, как вы работаете. С кем и о чем в Переделкино совещались, тоже знаем. Ну, просто как дети малые!
– Откуда знаете? – смутился я.
– От верблюда.
– Мы ничего… мы просто поговорили…
– Значит, теперь слушай сюда: про все, что вы нафантазировали, забудь!
– Но Ковригин…
– Ты кушай, кушай! – Лялин положил мне на тарелку сациви. – Хочешь напечатать свой «Дембель»?
– Хочу.
– В Италию хочешь?
– Хочу.
– Квартиру без тещи в Филевской пойме хочешь?
– Хочу.
– Тогда делай то, что говорят. Повестушка у тебя нормальная. Я прочитал. Ничего страшного в ней нет. В жизни еще хуже. – Бутов долил коньяк в мою рюмку. – Знаешь, какой у нас в роте «неуставняк» был? Меня самого на первом году по утрам петухом кричать заставляли – дедов будить.
– Но ведь Ковригин…
– Слушай, Полуяков, оставь ты в покое Ковригина! Он сам как-нибудь выпутается. Знал, куда лез. Ты лучше спроси, откуда у меня твоя рукопись?
– Откуда? Из «Юности»?
– Наивный чукотский юноша! Мог ты влипнуть, парень, покруче Ковригина. Ты кушай, кушай! – Папикян положил мне на тарелку севрюгу.
– Вот гад!
– Ты о себе лучше думай. С тобой-то, как с Ковригиным, никто нянькаться не станет – просто перекроют кислород. Везде.
– Жорж, не дури! – обнял меня Лялин. – У тебя вся жизнь спереди! Скушай тарталеточку.
– Я обедал только что.
– Ничего страшного, – осклабился чекист. – Обед – как жена, а тарталеточка – она вроде молодой актриски. Так ведь, Полуяков?
– Не пугай мальчика! Жорж, дело очень опасное! – страдальчески вздернул крашеные брови Папикян.
– И что мне теперь делать? – спросил я обреченно.
– Ну вот, уже лучше. Забудь все, что вы там, в Переделкино, придумали! – Чекист улыбнулся.
– Забыл, – кивнул я искренне, так как на самом деле не мог вспомнить наш план спасения классика.
– Верю! Толковый ты парень. Может, тебя к нам взять, а? Подпишешь бумажку, будешь органам помогать, денежку кое-какую получать… – Он посмотрел на меня как оценщик.
– Не уродуй ребенку жизнь! – попросил парторг. – У вас и так стукачей хватает. Возьми тогда уж Макетсона. Он, по-моему, об этом мечтает.
– Зачем нам этот трепач?
– Вам видней. «Я отлучусь в сокровищницу тро-оллей, где золото Артура трам-там-там…» – поведал Лялин и умчался, нетерпеливо перебирая ногами.
Проводив взглядом Папикяна, чекист, не чокаясь, выпил коньяк и закусил лимоном.
– А разве он на вас не работает? – спросил я.
– Кто?
– Макетсон.
– На нас не работают, Гога, мы не плантаторы, с нами сотрудничают. А с чего ты взял, что он наш?
– Как это с чего?! Все время отпрашивается, говорит, по вашим заданиям. В командировки от вас ездит…
– В какие еще командировки? Ты ничего не путаешь?
– Нет. Сегодня с половины дня отпросился на собеседование. Сказал, вы его в диссидентское подполье внедряете.
– Что-о? Какое еще на хер подполье? Нет никакого подполья. Полсотни психов и обиженных внуков. Ладно, разберемся. А с кем собеседование, не сказал?
– С Бобковым.
– С ке-ем?
– С Бобковым…
– Ты хоть знаешь, кто такой Филипп Денисович Бобков?
– Кто?
– Начальник Пятого управления. Генерал армии. Я в конторе пятнадцать лет работаю и его один раз видел. На торжественном собрании. Ну, Макетсон… Ну, фантаст! Хорошо, что просигналил. Мы организация благодарная, всегда поддержим, если надо. С повестью пока не поможем, время еще не пришло. Но если в чем другом – обращайся, а теперь дуй в партком!
Я встал, потом снова сел, допил для храбрости коньяк и выпалил:
– Худрук Театра имени М. пристает к актрисам.
– Знаем. К твоей тоже пристает? – с интересом посмотрел на меня Бутов. – Вот ведь старый кобель, ему из Индии возят укрепляющие таблетки. И что он там еще отчудил?
– Затащил ее в кабинет и хотел изнасиловать…
– Ну да, изнасилуешь такую лосиху!
– Она ему отказала… в решительной форме. А Виолетта Гаврилова, между прочим, – комсорг театра, и ее теперь увольняют.
– Правильно увольняет. Она же его с этим… каскадером вместе избила.
– Вы знаете?
– Кое-что…
– Каскадер случайно зашел в приемную, увидел и заступился.
– Уверен? Кто может подтвердить?
– Лета.
– Нет, она заинтересованное лицо. Еще?
– Секретарша.
– Точно! Она нам уже писала. Правда, анонимно. Ладно, будем вникать. На этого старого козла давно жалуются, а за жабры взять трудно: он Ленина в кино играл. Ничего, разберемся. Хорошо, что довел до сведения. А может, все-таки к нам?.. – Он глянул на меня с суровой мечтательностью. – Ладно, ладно, не буду портить тебе жизнь. А сейчас давай в партком…
– «Гони, коня, мой витязь синеокий, в светелке ждет тебя твоя невеста…» – пропел вернувшийся Лялин.
– Коля, заткнись, надоел! – рявкнул Бутов. – Лучше налей!
58. Последняя подпись
Нет, не читал я вашего «Живагу»,
Но знаю: автор – гад, герой – дебил.
И я бы дефицитную бумагу
Куда полезней злоупотребил.
А.
В парткоме сидела, закутавшись в павловопосадский платок, Арина и, всхлипывая, вязала варежку.
– Ну что? – спросил я.
– Ничего хорошего. Вечером приедет Ленка и останется ночевать. Ник, гад, специально постригся и у своего предка фирменную брызгалку выпросил. «Интим-спрей» называется. Из Гамбурга привезли. Готовится, сволочь! Что делать?
– А что ты в прошлый раз делала?
– Не помню. Пьяная была в хлам.
– Напейся снова!
– Издеваешься?
– Почему? Кто не помнит – тот не страдает.
– Ты чего сегодня такой злой?
– А чему радоваться-то? У себя?
– Ну да. Только не в себе. Ждет тебя…
– Остальные уже там?
– Ушли.
– Почему? Я же не опоздал.
– Он всех членов комиссии по одному вызывал.
…Владимир Иванович курил, стоя у окна и глядя на прохожих. Пепельница была полна изжеванных папиросных окурков. Увидев меня, он вздохнул, кряхтя, нагнулся к сейфу, достал и сунул мне машинописные странички, сплоченные железной скрепкой.
– Подписывай!
– Что это?
– Решение вашей комиссии.
– Но мы же еще не собирались.
– Считай, что собирались. Все уже подмахнули. Ознакомься и закорючку поставь!
Пропустив три абзаца про решения XXVI съезда КПСС, моральный облик и роль многонациональной советской литературы в коммунистическом воспитании, я прочел следующее: «Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии парткома Московской писательской организации СП РСФСР по персональному делу члена КПСС Ковригина А. В., всесторонне изучив обстоятельства дела, а также внимательно ознакомившись с текстом “Крамольных рассказов” вышеназванного автора, пришли к следующему решению, строгость которого продиктована…»
Дальше шел абзац про международную напряженность, провокацию с корейским «боингом», про воду на вражью мельницу, про подрывную работу западных разведок и их «радиоподголосков»… В конце объявлялся приговор, выделенный нижним подчеркиванием: «…учитывая тяжесть содеянного поступка, порочащего высокое звание коммуниста, а также цинично-непримиримую и дерзкую в отношении советского строя позицию, занятую автором клеветнического опуса, комиссия рекомендует партийному комитету исключить Ковригина А. В. из рядов КПСС и поставить вопрос о целесообразности его пребывания в Союзе писателей СССР…»
– И Зыбин это подписал? – тихо спросил я.
– Конечно.
– И Ашукина?
– Без звука.
Я открыл последнюю страничку, чуть отличавшуюся от прочих оттенком и фактурой. Там в столбик были напечатаны по алфавиту фамилии всех членов комиссии, а напротив теснились, наезжая друг на друга, как в зарплатной ведомости, разноцветные росчерки. У Капы подпись оказалась разборчивая, словно из школьной прописи. У Флагелянского – затейливая, вроде виньетки, у Застрехина на конце почему-то стоял твердый знак, а у Зыбина вышла загогулина, похожая на удивленного червяка. Борозда поставил три буквы «БИН». В самом верху, возле слов «Председатель комиссии Полуяков Г. М.» оставалось немного свободного места.
– Ручку дать?
– У меня есть.
Я аккуратно расписался на четырех копиях.
– Ну вот… Теперь документ в порядке. Один экземпляр можешь взять себе, чтобы жизнь медом не казалась. – И Шуваев убрал оставшиеся бумаги в сейф.
– Значит, все-таки исключаем? – спросил я, пряча странички в портфель.
– Значит – так.
– И ничего нельзя было сделать?
– Нельзя. Я куда только не стучался. Стена. Пастернака им, сволочам, мало. Хотя тот, царствие ему небесное, за дело огреб.
– Как это за дело?
– Подожди, я же тебе уже рассказывал.
– Нет.
– Разве? Ну, тогда слушай и на ус мотай. То, что он рукопись итальяшкам передал, ты, конечно, знаешь? Не сам, разумеется, передал, а через эту свою фифу Ивинскую. Прямо закон жизни: как только старый кобель с молодой сучкой завяжется – жди сюрпризов!
– А что ему оставалось делать? – Коньяк придал мне смелости. – У нас же его не печатали!
– С чего ты взял? Да, «Новый мир» и «Знамя» ему отказали. А кому они не отказывали, тебе, что ли?
– Да уж, особенно – «Знамя»…
Я не забыл, с каким омерзением редакционная дама Наталья Иванова, удивительно похожая на возбужденную очковую змею, швырнула мне в лицо рукопись «Дембеля», прокартавив: «Забирайте эту мерзость и убирайтесь!»
– Я и сам, Егорушка, лагерные стихи до сих пор не могу напечатать, – вздохнул Шуваев, – даже почти никому не показываю. Зачем редакторов в дурацкое положение ставить? Негоже – значит нельзя. Подождем, пока можно станет. Негоже нам, как безродным космополитам, «непроходняк» на Запад сплавлять. Ты смотри, мил друг, поосторожней с этим! – Владимир Иванович улыбнулся синими губами.
– Скажете тоже! – замахал я руками, вспомнив слова Бутова.
– В журналах Пастернаку, конечно, отказали, но в Совиздате «Живагу» печатать дозволили, конечно, после проработки и доработки. А кто не дорабатывал, покажи! Но ему же, гению, не терпелось, да еще эта звезда на вешалке Ивинская подзуживала и сводила его с кем ни поподя… Без ЦРУ тоже дело не обошлось.
– ЦРУ?
– А чего ты ухмыляешься? Организация серьезная. Щупальца по всему миру распустила…
– Владимир Иванович, но это же чистая шпиономания.
– Может, ты и прав, Егорушка, но такое уж мы поколение, до печенок испуганное. Только не в этом суть. Гораздо важнее, почему на Пастернака все тогда накинулись, как собаки. Любой факт, мил человек, надо в конкретно-исторических условиях рассматривать. Вот ты представь: тысяча девятьсот пятьдесят восьмой, оттепель. Год-другой, как людей из лагерей стали выпускать. Про войну и про плен полправды хотя бы разрешили писать, а раньше-то ведь только: «гремя огнем, пылая блеском стали…» Люди зашевелились. Даже троцкисты недобитые из-под ковра выглянули, а прежде дышать боялись. Никита Сергеевич послабление писателям дал, мол, валяйте, кайтесь от души, как при Сталине дрожали. Тогда-то и Солженицын вынырнул. Но предупредили: знайте меру – в Ленине и в партии сомневаться ни-ни! А еще нельзя отдавать рукописи за границу без разрешения. И вся недолга! По сравнению с прежним ярмом – курорт, Гагры, Кисловодск! Так нет же, этот сукин сын, Борис Леонидович, отдал роман за кордон. Да еще с хитрым таким скандалом: издательство выбрал вроде бы почти коммунистическое… Ему-то Нобелевская замаячила, а нам – снова ярмо и зона. Начальство взбесилось: прикроем, мол, вашу мелкобуржуазную вольницу к чертовой матери! А какая вольница? Только-только сажать перестали. Хрущ топал-орал: «Даже свинья не гадит там, где ест!» А жрал Борис Леонидович в три горла. Ты дачу его в Переделкино видел?
– Видел…
– Не каждый член Политбюро такую имел. Вот тогда все и поднялись: фронтовики, сидельцы, троцкисты недобитые, молодежь. Все озлились: «Ну что за гнилой овощ этот самый Пастернак! В революции не участвовал, на Гражданской не воевал, в библиотеке у Луначарского отсиживался. Но про лейтенанта Шмидта поэмку накатал. Первым стихи про великого Сталина сляпал…»
– Не может быть!
– Точно. В «Правде» напечатано. У меня и вырезка где-то валяется. Почти всех, кто с ним начинал, пересажали или перестреляли. Маяковский с Есениным сами на себя руки наложили. А с этого как с гуся вода: на свежем воздухе в Переделкино Шекспира переводил да жен менял, пока мы воевали и баланду лагерную хлебали. Наконец всем послабление вышло, ну и сиди, где сидел, шекспирь дальше, куда ты со своим малахольным Живагой лезешь, зачем о Гражданской войне пишешь, если в глаза ее не видал, для чего нас с властью ссоришь, гад? Да и роман-то, по совести сказать, слабый вышел, рыхлый. Правильно Набоков сказал: «Беспомощная путаная дрянь с опереточными злодеями…»
– Набоков?
– Ну да, Набоков.
– А вы-то откуда знаете?
– От верблюда. Книжица есть такая, для служебного пользования, в ней разные цитаты собраны. Бен Гурион, например, считал, что «Доктор Живаго» – это худшее из всего написанного евреем о евреях.
– Да вы что?!
– Погоди, парень, ты сам-то роман читал?
– Не привелось… – сознался я.
– Не горюй! Я тебе принесу. Уникальное издание, карманное. Его нарочно враги выпустили, чтобы нашим олухам в Женеве на Фестивале молодежи и студентов раздавать.
– Спасибо! Я аккуратно читаю.
– Заметил. Но не в этом суть. На Пастернака тогда все – и правые, и левые, и евреи, и русаки – взъелись: «Так-перетак, зачем ты, сытый небожитель, нас, грешных, с властью стравливаешь? Тебе Нобелевка, а нам сапогом в рыло!» Знаешь, как его на собраниях несли? Но особо Ковригин отличился! Любо-дорого! Молодой был, горячий…
– Ковригин?
– Ну да! Его как раз тогда заметили и двигать стали. Кто ж знал, что Лешку на том же переклинет? Урок не впрок. Пастернак-то понял потом, во что его втянули, и до срока помер. Смотри, чтобы твой «Дембель» тоже куда-нибудь не усвистал! Сгоришь.
– Владимир Иванович, но ведь это же моя рукопись… В конце-то концов…
– Пил?
– Немного.
– Я же предупреждал! А если бы тебя сегодня к Черняеву позвали? Кто наливал?
– Лялин.
– От этого не отвяжешься. Послушай меня, Егор: хер – он тоже вроде твой, а куда ни попадя совать нельзя. Понял?
– Вы о чем?
– Сам знаешь. Ты, чую, французских фильмов на фестивале насмотрелся. А мы с тобой в СССР живем. Знаешь такую страну?
– Знаю.
– Видно, плохо знаешь. Вон, глянь-ка!
Шуваев показал в окно на длинноногую старшеклассницу с портфелем. Из-под коротенького пальто виднелась синяя форменная юбка.
– Девка уже в соку, по ночам небось томится. А попробуй-ка! Получишь, как с куста, десять лет за развращение несовершеннолетней. Зато где-нибудь в Индии или в том же Афганистане она бы уже трех ребятишек нянчила. И никто бы слова тебе не сказал. Понял меня? И какая страна в этом смысле нормальнее, еще вопрос. Надо жить по законам того царства-государства, где родился. Нельзя – значит нельзя. Я же его, носорога, умолял: покайся, Леша, уймись, повинную голову топор не рубит. Уперся: я – Ковригин! Подумаешь, Ковригин! И не таких в муку истолкли.
– А если он во Франкфурте попросит политическое убежище?
– Ты-то откуда про Франкфурт знаешь? – Секретарь парткома с тревогой посмотрел на меня.
– Так мы же делегацию на парткоме утверждали… – спохватился я.
– Ну да, ну да… Накрылся Лешкин Франкфурт. Отказ пришел. Невыездным стал наш классик. Вот оно как бывает! Собрание сочинений ему в «Худлите» зарубили, набор первого тома рассыпали. «Наш современник» повесть вернул. Если мы его завтра исключим – совсем беда!
– А что же делать?
– Сам всю голову сломал. То, что вы с Капой и Зыбиным придумали, – чепуха на постном масле. Даже не пытайтесь. Не знаю, как тут быть. Мне все эти игры хуже горькой редьки. У меня сердце маленькое, врачи вообще удивляются, как я до сих пор жив. Ладно, иди, газетой занимайся. Некролог Клинского поставили в номер?
– Обижаете!
– Ступай. И не пей сегодня! Водка – враг совести. А завтра совесть всем нам понадобится.
Честно говоря, тогда, 3 октября 1983 года, я вышел из парткома, ухмыляясь. Мне было жаль этого доброго, честного, измученного Владимира Ивановича, настолько замороченного жизнью, что он верил в глупые страшилки про всемогущее ЦРУ и всерьез считал скандал с великим романом Пастернака (мною тогда еще не осиленным) результатом многоходовой операции западных спецслужб. Вот уж и впрямь испуганное поколение! Только в 2010 году, когда в американской печати появились рассекреченные документы, касающиеся операции «Доктор Живаго», я подивился тому, насколько был осведомлен Шуваев. Все оказалось чистой правдой – и про Ивинскую, и про спецтираж для Фестиваля молодежи в Женеве. В секретной инструкции ЦРУ исполнителям без обиняков объяснялась цель операции: любыми путями портить налаживающиеся отношения советской власти с интеллигенцией. Но особенно поразила меня судьба миланского издателя романа «Доктор Живаго» некоего Фельтринелли: тот, будучи платным агентом ЦРУ, сначала тусил среди итальянских коммунистов, а потом получил новое задание и, перебежав в «красные бригады», подорвался в клочья, когда собирал бомбу для очередного террористического акта. Вот вам и «страшилки советского агитпропа». Слушайте старших, мои молодые читатели!
59. Почему Толстой не дул в ус?
Шагая с нашим веком в ногу,
Он поспевал едва-едва,
А пил нечасто и немного:
Раз в день от силы литра два…
А.
В холле я встретил Веню Пазина, он старательно прикнопливал к стенду новые фотографии, сделанные на юбилейных вечерах Ираклия Андроникова и Михаила Танича, автора знаменитой песенки «А у нас во дворе…». Если бы, мне кто-нибудь сказал тогда, что именно обаятельный телевизионный лермонтовед Андроников и накатал роковую «телегу» в ГПУ на своих друзей обэриутов, я бы плюнул лжецу в лицо. О век спасительного неведения, где ты?
– Ну ты зайдешь ко мне или нет? – спросил Пазин, обидчиво морща острый носик.
– Зайду.
– Пошли сейчас!
– Не могу, мне сегодня газету подписывать.
– Зря, таких «нюшек» ты еще не видел.
Отвязавшись от Вени, я, здороваясь со знакомыми литераторами, добрался до гардероба и наконец вдел руки в плащ, расторопно поданный Козловским. Но у самого выхода на мне повис пьяный в хлам Влад Золотуев – бывший секретарь партбюро поэтов. Недавно его стремительно переизбрали за пьяную шутку на собрании. Он съязвил, что ненавидит в поэзии картавость. Сразу несколько заслуженных членов, начинавших литературную жизнь еще в идиш-секции ССП (ее разогнали по делу космополитов), возмутились и просигналили куда следует. Золотуева сразу задвинули. За прилюдный антисемитизм карали строго. На его место срочно выбрали тихую Ашукину, вообще не знавшую, как мне сначала казалось, слова «еврей».
После падения Влад, и прежде считавший водку диетическим продуктом, стал пить так, словно ему поручили осушить подземное озеро алкоголя. Иногда его могучий организм давал сбои, и на поэта накатывали мечты о трезвой жизни, краткие, как лето на Шпицбергене.
– Жора… – Золотуев схватил меня за плечо и зашептал многонедельным перегаром: – Ковригин – совесть русской литературы. Ты продался евреям?
– Никто никому не продавался. – Я попытался высвободиться, но он вцепился в меня, как в последнюю надежду.
– Тебя проклянут потомки!
С большим трудом мне удалось оторвать его пальцы от моего рукава, но едва я сделал это, как он начал заваливаться на бок.
– Увезите немедленно! – подскочил Бородинский. – Позор! Сейчас приедет консул Великобритании!
– А что у нас сегодня?
– Кружков читает новые переводы.
– Я переводил Ф-р-роста! – взревел Влад. – А ваш Гришка Кружков…
– Немедленно увезите его! Я вызову милицию…
– Евреи – жалкие интерпретаторы. Они не способны создать новое! – орал Золотуев.
– Какая милиция? Он секретарь партбюро поэтов! – преувеличил я.
– А вот уж и нет! – злорадно возразил осведомленный Семен Аркадьевич. – И вообще, коммунисты так не пьют!
– Пьют! – прорычал Влад. – Пигмей!
– Что-о?! – взвился наш цербер, болезненно воспринимавший любые намеки на свой малый рост, хотя за долгую жизнь мог бы и привыкнуть. – Вызовите наряд!
– Сейчас увезу, сейчас… – успокоил я, озираясь.
– Поехали в Переделкино! – роняя вислые слюни, заплакал Влад. – Там хорошо! Там мой дом…
– Не могу – мне еще газету подписывать.
Упав с партийных вершин, от тоски Влад еще и развелся, а точнее – жена, которую он во хмелю лупил по-черносотенному безжалостно, выставила его из дому и вставила новый замок. Теперь он жил где придется. Иногда в Переделкино, если пустовал номер. Год назад я уже возил его домой, и закончилось это феерической историей. Вы не поверите, но с пьяных глаз Влад перепутал…
Вдруг я увидел моего поэта-сверстника Женю Юхина. Светясь лирическим простодушием, он шел в гардероб, крутя на пальце номерок, будто пропуск в рай.
– Женя! – позвал я. – Ты куда?
– А что? – осторожно ответил он, подозревая в моем вопросе намек на его общеизвестный роман с немолодой литературной львицей, которая ввела юношу в русскую словесность, фигурально выражаясь, за руку.
– Будь другом, подержи Влада! Я в туалет сбегаю. Мне его еще везти в Переделкино.
– Ладно, только быстрей… – доверчиво согласился Женя.
Передав Юхину Золотуева, шатающегося, как стрелка метронома, я метнулся направо и дальше – вниз к туалету. Надо знать Дом литераторов: в подвальном этаже располагались не только сортир, но еще нижний буфет и бильярдная, причем, пройдя насквозь, можно было по специальному тоннелю попасть в Дом Ростовых, где обитало правление СП СССР, или, как его еще называли, Большой союз. Там сидел сам Марков – классик соцреализма, Герой Социалистического Труда, член Верховного Совета СССР и ЦК КПСС. Мягкий и отзывчивый, Георгий Мокеевич еще не ведал, что с ним случится через три года. Выступая на открытии 7-го съезда писателей пред очами всего Политбюро во главе с Горбачевым, он от чувства ответственности прямо на трибуне впадет в предобморочный ступор, огорчит начальство, будет в тот же день сдан на пенсию и окончит дни в безвестности.
А из особняка Ростовых можно было, миновав внутренний скверик, выйти на параллельную улицу Воровского, к Театру киноактера. Так я, подлец, и поступил. По дороге мне повстречался высокий плечистый Вадим Секвойский, у которого десять лет назад я занимался в поэтическом семинаре. С тех пор мэтр издали наблюдал за моими успехами с отеческой ревностью. Он с кием наперевес вышел из бильярдной, чтобы освежиться в нижнем буфете коньячком, но, увидав меня, помрачнел, подозвал и, оглядевшись, шепнул:
– Жора, вы понимаете, что навсегда можете испортить себе биографию?! Поверьте, один сомнительный эпизод перевесит потом все хорошее. Мы-то с ярмарки едем, а вам в литературе еще жить и жить!
– Спасибо за заботу, учту…
Проскочив тоннель, я поднялся по ступенькам и очутился в узком коридоре Большого союза. Навстречу, заслоняя просвет, двигался, словно огромный поршень, Юрий Николаевич Перченко, большой начальник, отвечавший, так сказать, за материальную сторону советской литературы: квартиры, машины, ордена, путевки, загранкомандировки и т. п. Перченко был так толст, что на самолет ему брали два билета: в одном кресле не помещался. За ним просительной тенью семенил тощий поэт Скляр и, всунув шевелящиеся губы в большое начальственное ухо, скулил:
– Юрий Николаевич, невозможно в квартире работать. Шум. Пыль. Схожу с ума. Окна выходят на улицу.
– На какую улицу?
– Горького.
– Ну так давай в Измайлово тебя перекинем. Зелень. Тишина.
– Нет, что вы… Мне бы в центре, но во двор окнами. А?
Я вжался в дверную нишу, пропуская начальство, но толстяк, заметив меня, остановился и хитро прищурился:
– А вот и наш дембелек! Сколько там дней до приказа осталось?
– Завтра, – вздохнул я, поняв аллегорию и подыграв.
– Очень на тебя надеемся, паренек, не подведи! Сделаешь дело – заходи, о будущем потолкуем. – На прощание он совершил невероятное – подал мне свою пухлую руку.
Его пожатие напоминало железные тиски, обернутые ватой.
Они двинулись дальше по коридору, и Скляр продолжал нудить в ухо начальнику:
– Юрий Николаевич, мне бы и площадь увеличить. Книги ставить некуда…
Скатившись вниз по ступенькам и махнув рукой знакомому гардеробщику, я выскочил на улицу. Там веяло горчащей осенней прохладой. Над головой старинные усадебные липы смыкали редеющие кроны, а сквозь них, как сквозь прорехи в золотой парче, виднелись темно-синее небо и зеленые облака, какие бывают только в городе. Посреди клумбы с увядающими календулами и настурциями сидел в покойном кресле, чуть склонив голову, бронзовый Толстой.
«Была бы у меня Ясная Поляна, Лев Николаевич, я бы тоже в ус не дул!»
На Садовом кольце злобно рычали машины, остановленные красным светом. Пешеходы старались в короткий зеленый промежуток перебежать широченную площадь Восстания. Две учительницы переводили через проезжую часть класс, видимо, шли из зоопарка. Несчастные педагогини мольбами и угрозами подгоняли шалящих детей и с ужасом смотрели на оскалившиеся радиаторы автомобилей: те как раз взревели с новой силой на желтый сигнал светофора.
«Не задавят, конечно, а все равно страшно!» – подумал я, вспомнив Алену, в нее бес непослушания вселялся чаще всего при переходе проезжей части.
В редакции пахло валерьянкой. С разбегу я налетел на все то же зеркало в кудрявой раме.
– Какого черта!
– Не волнуйся, экселенс, купили, сейчас увезут. – Крыков сложил ладони в индийской мольбе.
– А дома ты чего не торгуешь?
– Эта старая сука, графиня, как сортир мыть, так сразу слепая, а как мебель занесу – звонит в милицию, мол, тут у нас спекулируют. Баб можно сколько угодно водить, это она понимает, а спекуляция ни-ни… Убить ее, что ли?
– Убей.
– Жалко. Она Ленина видела.
– Как там твой Палаткин? Что-то он плохо выглядит… – Я хотел добавить про звонок из ремстройжилконторы, но удержался.
– Еще бы! Ему такие дозы антибиотика колют, в организме ничего живого не осталось. Хоть немного отдохну от него. Заколебал! Совсем на девочках повернулся. А ты заходи!
– Мне еще газету подписывать.
– Потом приезжай. У Лисенка подружка есть – по первому свистку прибегает.
– Никаких подружек, но как-нибудь, может быть, и загляну. Не один.
– Ого!
– Сможешь на пару часов отъехать?
– Без вопросов. Да, чуть не забыл. – Крыков вынул из кармана и протянул мне червонец.
– Что это?
– Комиссионные. Благодаря тебе зеркало этому горному барану за триста сорок впарили. А вот и еще, тоже от него, презент… – Боба протянул мне коричневый плоский брусок, издававший несвежий аромат.
– Что это?
– Бастурма. Настоящая. Пастухи в горах вялят.
– Как-то странно пахнет…
– В этом весь цимес!
– Спасибо.
Я взял деньги и заглянул в залу: Маша делала Макетсону массаж головы. На столе стояли пузырек валерьянки и пустой стакан с темно-коричневым осадком на дне. Выпученные глаза ответсека страдали.
– Вы разве не на собеседовании? – удивился я.
– Т-с! – Он приложил палец к губам.
– Где Торможенко?
– На Цветной уехал, – сообщила Маша, погружая хищные пальцы в пегие седины любовника, точно пианист – в клавиатуру рояля.
– Давно?
– Не очень. Унесите скорее!
– Что?
– Это! – она кивнула на брусок у меня в руках.
Зайдя в кабинет, я первым делом завернул сомнительную бастурму в первый попавшийся листок и убрал подальше в ящик стола, потом закурил и несколько минут, чтобы успокоиться, смотрел в окно на торопливые ноги прохожих, К концу дня их стало больше. Мое сердце разбухло и ныло, как мочевой пузырь после пивного бара. Я набрал рабочий телефон Жеки, но там было занято. Зашел безутешный Макетсон.
– Меня вызывают, – еле слышно произнес он рыдающими губами.
– Куда?
– На Лубянку.
– Когда?
– Завтра к девяти ноль-ноль. Даже не представляю, что случилось!
– Вас решили заслать нелегалом в Южную Корею.
– Шутите?
– Да какие тут шутки! Опять вас завтра на работе не будет. Сегодня-то вы идете туда?
– Иду, – потупился он.
– Значит, мне номер подписывать?
– Вам… Все так хорошо складывалось. Расцвел гимнокалициум. Большая редкость!
– Значит, вы ездили в Обираловку?
– Да, и объяснился с женой. Она все поняла и отпускает меня. Благородная женщина! Правда, мою коллекцию кактусов хочет оставить себе на память. Это для меня страшный удар!
– А дети?
– Детям она объяснит, что у папы теперь очень важная работа и приезжать я буду только по субботам.
– Везет же! Меня бы за такое убили на месте.
– Моя жена не такая, – мучительно улыбнулся ответсек. – Как вы думаете, она не могла пожаловаться на Лубянку?
Вбежал взволнованный Гарик. Он тоже подстригся, но в отличие от Макетсона стильно. На нем была новая кожаная куртка цвета грязного апельсина. От водителя разило парфюмом так, словно он принял ванну из одеколона «Арамис».
– Починился? – спросил я.
– Немножко. А где мой талон? Маша сказала, что талонов нет. Почему, Егор-джан? Мне семью надо кормить, им арев…
– Какую еще семью? – удивился я.
– Какую надо!
– Пойдем-пойдем, голодающий. – Макетсон, приобняв шофера, повлек его из кабинета.
Проводив взглядом водителя, который на глазах превращался в плейбоя, я снова набрал номер Жеки, и он снял трубку:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.