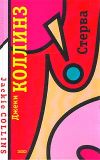Текст книги "Секс в СССР, или Веселая жизнь"
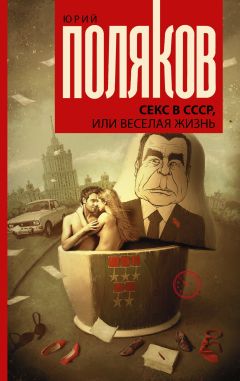
Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 44 страниц)
И миг настал – она разделась
(Как уболтал – не помню сам),
Но вдруг смутилась и зарделась,
Ладошкой скрыв курчавый срам…
А.
Увидев меня, счастливого и дрожащего от холода, Этерия Максовна только покачала головой. Чтобы согреться, я налил из графинчика коньяку, опрокинул рюмку и закусил долькой лимона: нашел-таки, подлец! А стол уже ломился от яств: в мельхиоровой оправе искрилась черная икра. Рядом, точно мелкие янтарные окатыши, светилась красная. С возрастом я почему-то перестал сострадать несчастным, невылупившимся малькам. Ломтики севрюги, окаймленные золотистым жирком, лежали на тарелке завиток к завитку. Тремя веерами раскрылась мясная нарезка: розовая баночная ветчина, темно-красная копченая колбаса с белыми глазками сала и смуглая буженина. В густом соусе сациви угадывались куски расчлененной курицы. Середину стола занимала «клумба» – круглое блюдо с укропом, петрушкой, кинзой, редисом, перистым луком, свежими помидорами и огурцами. Ресторану ЦДЛ в порядке исключения разрешалось за наличный расчет закупать овощи и зелень на Центральном колхозном рынке, что возле Старого цирка, а не брать вялую ботву с овощной базы, как обычные предприятия общепита. Баловала советская власть подлую творческую интеллигенцию. Избаловала на свою беду!
Часы показывали пятнадцать минут шестого: Леты еще не было. И это нормально. Женщины всегда опаздывают. Когда Нина собирается, скажем, в театр, нужно каждые пять минут заходить в комнату и орать, а еще лучше бы, как плантатор, подгонять ударами кнута. Если не торопить, успеешь в лучшем случае к антракту. Я выпил еще рюмку и пошел встречать Гаврилову на улицу. На ступеньках Театра киноактера появились билетные спекулянты. Я разглядел через дорогу афишу – «Иван Васильевич». Смеркалось. Ветер стал еще холодней. Но изнутри меня грели коньяк и предвкушения. Алое солнце садилось прямо на шпиль высотки, как сочащийся кусок мяса на шампур. Красные кленовые листья, приклеенные к асфальту дождем, добравшимся и сюда, казались лужицами крови. Красиво, черт подери!
Вдруг черной молнией ударила страшная мысль: ну, конечно же, бедная Лета все перепутала, она пыталась войти в ЦДЛ с улицы Герцена, как в прошлый раз, и ее грубо остановил неумолимый Бородинский. Уж если он не пустил Микояна, что ему какая-то актриса? Скорей туда! Главное, чтобы не обиделась и не ушла…
Семен Аркадьевич стоял на посту и, как пограничник, ощупывал взглядом каждого входящего.
– Меня не спрашивали?
– Нет.
– Девушка.
– Нет.
– Лета Гаврилова.
– Нет. Жора, не мешайте! Сегодня много безбилетников. Гражданин, вы куда? – тонким голосом вскричал он. – Ах, это вы! Простите, не узнал…
– Если придет, скажите, я жду ее в ресторане.
– Скажу, скажу, – пообещал он и, как бойцовый шпиц, бросился на очередного безбилетника. – Немедленно покиньте дом!
Вернувшись, я увидел за моим столом Шлионского. Развалившись на стуле, он в одной руке держал рюмку коньяка, а в другой вилку с куском севрюги.
– Алик сказал, здесь ты сидишь.
– Ну я…
– С утра ни черта не жрал! – признался Вова, резко выпил и жадно закусил.
– Знаешь, я жду даму.
– Сейчас уйду. Ох, и нахренчились мы тогда с Шовхалом! Я вот что, собственно, хотел тебе сказать: Бюро пропаганды зовет в Курган. Дает по тридцать путевок на нос. Ну, как обычно: школы, заводы, ПТУ, техникумы, колхозы… Понял? Неделя – и пятихатка в кармане.
– За семь дней тридцать выступлений? Нереально!
– Что ты как маленький! Кто тебе будет тридцать встреч организовывать? У них там своих дел полно. Выступим раз пять, остальные путевки они сами проштампуют, чтобы мы от них только отвязались.
– Когда?
– Послезавтра утром вылетать. Из Внукова.
– Во вторник партком по Ковригину.
– Черт! Тогда облом. Вы его действительно исключать будете?
– Похоже.
– Вот повезет мужику! Сразу на Западе переведут.
– Его и так переводят.
– Ладно, думай!
– И думать нечего. – Я посмотрел на часы. – Не могу.
– Давай выпьем за мою дочь – и я пойду. – Шлионский маханул еще рюмку и потянулся вилкой к черной икре.
– Дочь? Люция родила? Когда? – Я перенаправил его руку на буженину.
– При чем тут Люция? Она вообще не при делах. Понимаешь, неделю назад утром звонок в дверь. «Здравствуйте, папа! Я к вам с поезда». Стою, ничего не понимаю. «Ты кто, девочка?» – «Юля – ваша дочь!» – «Откуда?» – «Из Уфы…» – И протягивает фотографию мамы, а потом мою публикацию в «Юности» за шестьдесят восьмой год с надписью: «Очаровательной Анастасии от очарованного поэта. Уфа. 8 марта 1967 г.». Вспомнил. Я выступал там, в районной библиотеке, а потом, как обычно, с девчонками из абонемента и читального зала выпивали под тортик. Замужние скоро разбежались, а одна, тихая такая, рыжая, осталась. Лет тридцати, на излете срока годности. По-трезвому не взглянешь, но если хорошо выпить… Пошли гулять по ночной Уфе, я на обрыве читал ей стихи и обещал вниз броситься, если она меня не поцелует.
– Бросился бы?
– Запросто. Но поцеловала. Потом просочились ко мне в гостиницу. Еще полночи читал ей стихи, свои и Есенина, думал уже: не пройму. До утра сопротивлялась, а потом махнула рукой и сама разделась. Представь, Гога, в таком возрасте целинницей оказалась! Пришлось пробивать штольню и обучать по ускоренной программе. Утром я на поезд, а она в библиотеку. Еще до Москвы не доехал, как уже и забыл. Знаешь, сколько у меня таких было? «Уберите руки! Я буду кричать! Ну, зачем? Ну не надо… Ты же меня не любишь…» Некоторые потом в Москву приезжали, с Люцией из-за меня дрались. А эта Анастасия вообще ни разу не позвонила, не написала, родила, видно, для себя, чтобы от тоски не сбрендить…
– А с чего вдруг вспомнила?
– Дочь закончила школу. В институт надо поступать. Вот такие, братишка, дела. Юлька у нас теперь живет. У тебя, часом, нет хорошего репетитора по математике?
– Надо подумать. А Люция?
– Что Люция? Сначала о мою голову вазу разбила. С таз величиной. Я в Гусь-Хрустальном выступал – мне на фабрике подарили. Потом поорала и успокоилась. Это ж еще до нее было, а девчонка ни в чем не виновата. Короче, Люция сама позвонила Анастасии в Уфу, просила не волноваться, обещала присмотреть за ребенком.
– Похожа хоть на тебя?
– Вылитая.
– Ты с ней говорил?
– С кем?
– С библиотекаршей.
– Говорил.
– Ну и что?
– Ничего. Извинялась за навязчивость, обещала выслать с премии денег, но главное – умоляла ни в коем случае не знакомить дочь с поэтами. Понял? Ну, посошок – и побежал. Не исключайте Ковригина!
Вова со скоростью самозарядной винтовки выпил подряд три рюмки и умчался, а мне пришлось брать новый графинчик. Пока Алик нес коньяк, я постарался равномерно разложить на блюдах оставшуюся закуску, чтобы урон, нанесенный Шлионским, не так бросался в глаза.
– Шампанское – открывать? – злорадно спросил халдей, вернувшись.
– Пока не надо, – отказался я и пошел к Этерии Максовне:
– Можно позвонить?
– Только быстро, Жорж. Телефон служебный.
– Алло, кто это? – ответила бабушка после долгих гудков, впивавшихся прямо в мое сердце.
– Можно Лету?
– Кто спрашивает? Стойте, сама догадаюсь. Федор?
– Угу.
– Странно. Ваш голос очень похож на Василия. Леты нет. С утра ушла.
– А когда вернется?
– Думаю, поздно. У нее встреча. Кажется, в Доме литераторов…
В душе расцвели золотые шары надежды. Я вернулся к столу, выровнял кратеры, оставленные Шлионским в икорницах, выпил коньячку и стал гадать, почему Лета опаздывает. В голову лезли страшные картины несчастных случаев: длинные девичьи ноги бессильно раскинулись на сером асфальте, а белокурые волосы мокнут в красной луже крови. В первый раз я увидел человека, погибшего под колесами, лет в десять. Однажды на весь июль родители сдали меня в городской пионерский лагерь: целый день под присмотром, только ночуешь дома. Нарезвившись, мы к вечеру возвращались строем из Сада имени Баумана и увидели: толпится народ, мечутся санитары с носилками, милиционеры машут полосатыми палками и просят не напирать, а лучше – разойтись. «Не смотреть!» – крикнул Женя, наш вожатый. Но я все-таки посмотрел: седой мужчина в темном костюме, вывернувшись, как большая кукла, лежал на мостовой в нескольких метрах от грузовика. Лицо его было свинцово-бледным, мертвым, но глаза еще жалко моргали. На подножке машины сидел водитель-убийца и жадно курил, уставившись в одну точку. Над ним нависал орудовец с чистым листком, заправленным в планшет: пытался составить протокол. «Не жилец!» – вздохнул Женя. «Почему?» – спросил кто-то из любопытных. «Ботинки от удара с ног слетели. А это – верный признак…»
42. Киммерийские сумерки
До вечной тьмы я ждал Вас под часами.
В свое депо трамвай ушел, звеня.
Ну, разве мог я, рассудите сами,
В тот вечер не напиться, как свинья?
А.
Чтобы отогнать мрачное видение, я хлопнул еще рюмку и осмотрелся: зал ресторана был полон, за столиками сидела солидная публика, литературные неудачники сюда забредали редко: дороговато, а кто-нибудь посторонний с улицы зайти вообще не мог. Недалеко от меня в углу, за камином обильно ужинали краснолицые пузаны в импортных пиджаках, судя по разговору о поставках лобовых стекол «триплекс», – снабженцы из автомобильной отрасли. Напротив, под витражными окнами большая компания отмечала, сдвинув столы, новую книгу Генриха Гофмана, Героя Советского Союза, в прошлом личного пилота Мехлиса, а ныне автора приключенческих романов о разведчиках и подпольщиках. Его сын, ироничный поэт Витя Гофман, написал на папашу такую эпиграмму:
Если б не было гестапо,
Что бы ели – я и папа?
Гофман-старший умрет в 1995-м от инсульта. О том, что дело идет к апоплексическому удару, можно было догадаться уже в тот памятный вечер, глядя на свекольное после несколько рюмок лицо писателя. А вот ирониста Витю застрелят в собственной квартире в 2015-м, кажется, за карточный долг. Но вернемся в 30 сентября 1983-го. Среди многочисленных гофмановских гостей я заметил литфондовскую невесту Соню Шохет, она липла к воениздатовскому редактору Бельченко, подстриженному под «полубокс».
У входа гуляла золотая литературная молодежь, в основном «писдочки» и «сыписы», человек шесть. Витя Урофеев страстно шептал что-то в ухо импортному субъекту, похоже, французу: вокруг куриной шеи иностранца был повязан пестрый шелковый платок. Востроносая блондинка Ника Лаева читала пьяной компании свои стихи. Она завывала, как Белла Ахмадулина, беспрерывно курила, как Марина Цветаева, и кутала плечи в черную вязаную шаль, как Анна Ахматова. Недавно Лаева вышла-таки замуж. Ее свежий супруг, молодой злобный критик Сеня Вигель, похожий на отощавшего Мефистофеля, ехидно и внимательно оглядывал жующую публику, ища, по всей видимости, жертву для очередной разгромной статьи. Если бы мне кто-то сказал в тот миг, что через десять лет он станет батюшкой, а Ника – попадьей, я бы от хохота свалился со стула. Чудны Твои дела, Господи!
Мимо пробежал мрачно устремленный Золотуев, но, заметив меня, вернулся и подсел.
– Это коньяк? – спросил он, морщась.
– Да.
– С утра жмет и давит.
Влад вылил полграфина в фужер, поглотил с утробным клекотом, отдышался и угрюмо спросил:
– Есть информация, что Ковригин вас всех на хер послал. Это так?
– Отчасти.
– За ним кто-то стоит. Говорят, ты был у Клинского?
– Вызывали.
– Про меня он не спрашивал?
– Нет.
– Странно… Историю с пальто не вспоминал?
– Мне кажется, он давно забыл.
– Эти люди ничего не забывают. Говорят, ты в Италию летишь?
– Да вот вроде бы решилось…
– Дешево покупают! – Влад плеснул остатки коньяка в фужер, залпом выпил, бросил в пасть пучок зелени из «клумбы» и гордо удалился, по-коровьи жуя свисающую изо рта петрушку. Я вздохнул, заказал третий графин и снова пошел к Этерии Максовне.
– Можно позвонить?
– Жорж, нельзя так навязываться женщине. Если мужчина звонил мне больше трех раз в день, я его бросала. Он тряпка!
– В последний раз!
– Хорошо. Но ваша дама не придет.
– Почему?
– Насколько она опаздывает?
– На час.
– Голубчик, на час женщину может задержать только катастрофа.
– Какая? – тихо спросил я, снова представив себе разбросанные на асфальте белые девичьи ноги и далеко отлетевшие в стороны туфли.
– Ну, не знаю, неудачно выкрасила волосы. Прыщ не запудривается…
– А еще? – Я набирал номер Театра имени М.
– Муж вернулся из командировки и срочно захотел ласки…
– Театр, – ответил тоскующий административный баритон.
– Пригласите, пожалуйста, к телефону Виолетту Гаврилову.
– Кто спрашивает?
– Из райкома комсомола.
– Из райкома? Ее нет. Звоните домой.
– А когда будет?
– Не знаю… – замешкался голос. – Думаю, теперь лучше звонить ей домой.
Я в отчаянии положил трубку.
– Жорж, никогда не связывайтесь с актрисами. Они безумны. Говорю вам как специалистка.
Этерия Максовна умерла через два года, незадолго до кончины снова выйдя замуж и разведясь. А я вернулся к столу. Алик как раз принес третий графин коньяку.
– Не идет?
– Нет. – Я покачал головой и выпил.
– А что ты хотел от женщины? – с оттенком сочувствия вздохнул он. – Тупиковая ветвь. Поешь хотя бы! Пропадет продукт.
Я намазал черный хлеб красной икрой, а белый – черной, сверху прилепил ломтики севрюги, потом сложил оба куска вместе и съел. Жуя, я чувствовал себя подлецом: бутерброды надо было отнести домой и скормить растущему организму ребенка. Но тогда Нина сразу поймет, что я вернулся к очагу не с обсуждения книги Преловского, а из ресторана, где обхаживал женщину, ибо нормальные мужики водку икрой не закусывают.
Тем временем из парткома вышла Арина, заперла дверь, подхватила большую хозяйственную сумку и побрела через ресторан в холл сдавать ключ дежурному администратору. Когда она поравнялась с моим столиком, я ее окликнул:
– Эй, на барже, что грустим?
– Да ну… Надоело…
– Выпьешь?
– Ага, шампанского, – кивнула она, опускаясь на стул. – Чуть-чуть. Ты-то как?
– Ничего.
– Владимир Иванович пол-литра выхлебал, а ему нельзя. У него сердце маленькое.
– У меня большое!
– Оно и видно.
Я взял бутылку, выглядевшую посредине стола как новогодняя елка, ободрал с горлышка фольгу, раскрутил витую петельку проволочного намордника, расшатал пластмассовую затычку. Раздался хлопок, белая пробка, будто ракета, выстрелила в потолок, и я едва успел направить пенную струю в камин. Разгневанный Алик подскочил и вырвал бутылку из моих рук:
– Не умеешь – не берись!
– Холодное шампанское не стреляет, – парировал я.
– У дураков даже клизма стреляет. Пардон, мадам! – Официант галантно изогнулся и медленно, пережидая пену, налил шипучку в бокал.
Запахло дрожжами.
– Спасибо, Алик!
– Угощайтесь, мадам! Все для вас! – Он глянул на меня, как парфюмер на ассенизатора, и ушел, качая бедрами.
Мы с Ариной выпили.
– Закуси!
Она поклевала.
– Чего опять тоскуешь?
– Понимаешь, Ник канючит, чтобы я снова Ленку Сурганову позвала. Понравилось гаду втроем! Ему теперь со мной одной это не интересно. Какая же я идиотка! Сама себе мужа испортила. Он же до меня был как чукча. Одну позицию знал. Нет… две. Дура я набитая! – Она залпом выпила шампанское, икнула и побрела сдавать ключи.
Но в одиночестве я оставался недолго: ко мне, перепорхнув от Гофманов, подсела Соня Шохет, крашеная блондинка с лицом умной лошади. Она мечтала выйти замуж за любого писателя и выбрала для этого способ, который на колхозном рынке называется «попробуй и купи». Все пробовали, но никто не покупал.
– Гога, ты писал заявление на Переделкино? – спросила она, призывно глядя на початое шампанское.
– Писал. – Я налил ей в бокал.
– Представь, Борьку Мукачина сегодня с «белкой» по скорой увезли. Допился. И прожил-то в доме всего пять дней. В его комнату Майнер перебирается – вид из окна получше. А тридцать седьмой теперь свободен. Заезжай хоть завтра! Желающих много, но ты знаешь, как я к тебе отношусь…
– Знаю, – кивнул я, подлив шампанское в бокал.
Она пила мелкими птичьими глотками, глядя на меня грустными, одинокими, на все готовыми глазами. Сквозь тонкую кофточку угадывался черный бюстгальтер «анжелика», возвышая ее и без того полновесную грудь.
А что, если взять и отомстить вероломной Гавриловой? На мгновение я представил себе, как это произойдет. Лихорадочные поиски такси. Знакомство на ощупь на заднем сиденье. Чужая квартира, пахнущая незнакомой и непонятной жизнью. Гостеприимная женская суета. Вместо обещанного чая срывание всех и всяческих одежд. Страстные попытки приладиться к незнакомому телу, которое, брыкаясь колючими ногами, хочет показать себя с самой лучшей стороны. Наконец, болезненные содрогания, напоминающие приступ сладкого радикулита. Усталость, переходящая в раскаяние. Желание немедленно одеться и покинуть место преступления. Озноб. Отвращение к миру. Рассеянные мысли о венерических последствиях. Чужой подъезд. Пустая утренняя столица. Радикальное отсутствие такси. Тяжелый оптимизм просыпающегося города. Догадливые толстые дворничихи, шаркающие по асфальту березовыми метлами. А с плаката строго смотрит белозубый ударник труда, никогда не изменяющий жене.
– Знаешь, Сонь, не смогу я, наверное…
– Жаль. Надумаешь – звони, – вздохнула она, допила бокал, шатко встала и оглядела ресторанный зал, ища новые варианты.
Я посмотрел на часы: семь. Ждать бесполезно. Алик плюхнул на стол тарелки с корейкой и судаком под польским соусом.
– Я же еще не просил.
– Не надо было сразу все заказывать. Ешь, пока не лопнешь.
Спас Боба. Он влетел в ресторан, дико озираясь, и метнулся ко мне.
– Экселенс, хорошо, что я тебя нашел.
– А что случилось?
– Папа поймал на «тройке» триппер. Такой злоедучий, что сразу с конца закапало. А у него меньше недели до возвращения жены. В Литфондовскую поликлинику нельзя, в диспансер тоже. Все-таки лауреат Госпремии. По телику про Ленина все время рассказывает. Страна знает его в лицо. Ты говорил, у тебя есть хороший уролог?
– Сексопатолог.
– Черт, перепутал. Надо что-то делать!
– А ты-то чего так волнуешься?
– Папа на меня стрелки переводит. Говорит, надо было их проверить.
– Ну и проверил бы.
– Я раньше всегда проверял. А теперь у меня Лисенок. Не могу.
– Любовь?
– Возможно.
– Может, еще и женишься?
– Не исключено. Лисенок, экселенс, это… это… ангел, который умеет все!
– Рад за тебя! Коньячку?
– Баловство. Алик, бутылку водки! – заорал Крыков. – Сонька, иди к нам!
– А как же Лисенок?
– Она на выходные к маме в Тулу уехала. Экселенс, надо спасать Папу!
– Надо!
– Как зовут папу? – спросила, подсаживаясь, любопытная Соня.
– Мартен Минаевич.
– Ты внебрачный сын Палаткина? – Ее глаза округлились и стали размером с пятикопеечные монеты.
– Тс-с! Тайна!! – заржал Крыков.
Мы выпили водки – и опустились киммерийские сумерки.
43. Здравствуй, жизнь!
Лед любви, какой он тонкий!
Вот и хрустнул под стопой…
Каждый на своем обломке —
Расплываемся с тобой.
А.
Мне приснилось – я жую наждачную бумагу и страдаю, что нечем запить эту шершавую дрянь. Открыв глаза, я почувствовал трескучую сухость во рту и, преодолевая головокружение, доковылял до кухни, нашел в холодильнике бутылку пива и выдул, чуть не задохнувшись. Отдышался – полегчало. Телу снова захотелось жить, а душе мечтать. Унимая озноб, я побродил по квартире: никого. На часах одиннадцать. Значит, Нина отвела дочь в сад и поехала на работу. Стоп! Во-первых, Алена болеет, во‐вторых, жена на бюллетене, а в‐третьих, сегодня суббота. Не сходится… На столе обнаружилась записка, придавленная хлебным ножом. Опять, что ли, в магазин? Потом прочитаю – сейчас сил нет.
В окно лезло нестерпимо яркое солнце, внизу кто-то выбивал ковер: бух-бух-бух. Из вентиляционной решетки мерзко тянуло горелыми блинами. Краткое облегчение, дарованное пивом, сменилось новым приступом жизнебоязни. Внезапный телефонный звонок прицельно ударил в ту часть мозга, которая отвечает за ненависть к человечеству.
– Алло-о!
– Жорик, это Лета. Проснулся?
– Почти… – В животе возникла теплота, как от рюмки «пшеничной».
– Прости. Я вчера честно не могла. Ну, честно! Ты меня ждал?
– Да.
– Бедненький… Долго?
– Не очень.
– Обиделся?
– Почти нет.
– Обиделся! Но я правда не могла прийти. Он же мне все платье порвал. Я специально для тебя надела – с декольте.
– Кто порвал? Что случилось-то?
– Ты не поверишь…
Из захлебывающегося рассказа, напоминавшего стрекот швейной машинки, выяснилось: актриса Гаврилова участвовала в групповом избиении художественного руководителя Театра имени М. лауреата Государственных премий СССР и РСФСР, народного артиста Вахтанга Ананьевича Здобина. Дело было так: Здоба после репетиции пригласил Лету в кабинет для «важного разговора», запер дверь и стал грубо приставать, подталкивая девушку к старинному кожаному дивану, на коем, по театральным легендам, не одно поколение актрис добывало роли в обмен на вынужденную ласку. Одолевая сопротивление Леты, худрук твердил, что она зря ломается, что тут у него даже народные наперегонки раздеваются…
– Народных раньше пятидесяти не дают, – усомнился я.
– Ну, значит, они раздевались, когда были еще заслуженными.
– Другое дело.
В общем, Лета сначала отбивалась, а потом размахнулась и врезала насильнику в ухо. Здоба замешкался, оторопев от беспрецедентной наглости крепостной актрисы, а она тем временем кинулась вон, благо ключ торчал в двери. Но разъяренный худрук настиг ее и попытался втащить назад. Некоторое время они боролись в проеме. Привычная ко всему секретарша убежала с криком: «Я на почту!» Старому, но еще крепкому сластолюбцу почти удалось втащить Лету в кабинет, когда в приемную зашел Игорь.
– Какой Игорь? – насторожился я.
– Калашников. Его недавно взяли из Кимрского театра. Он хотел узнать про общежитие.
Кимрский спаситель, как и его песенный однофамилец, недолго думая, одним ударом послал худрука в нокаут.
– Он же в профессию из каскадеров пришел! – восхищенно крикнула в трубку Лета. – В общем, мы теперь оба безработные. Здоба хотел сначала милицию вызвать, но я сказала, что тогда привлеку его за попытку изнасилования. Есть свидетели. Разошлись по нулям…
– Что значит по нулям? Ты же секретарь комсомольской организации! С тобой так нельзя. Срочно беги в райком к Уткину.
– К Уткину? Я тебя умоляю! Он сам пол-актива перетрахал. Сколько раз ко мне подкатывал. Не впишется. А Здоба все равно уволит, найдет повод. Может, и к лучшему. Пойду в Театр имени Г. А если начну жаловаться – никуда не возьмут. Ябед нигде не любят. Слушай, ты извинись перед соседкой. Я психовала и, наверное, слишком рано тебе позвонила. Часов в семь.
– Перед какой соседкой? – переспросил я, чувствуя дурноту.
– Ну, не знаю… Она сняла трубку и спросила: «Вам кого?» Я ответила – тебя. Она мне противным таким голосом сказала – ты еще спишь. Что передать? Говорю: «Передайте, когда проснется, звонила Гаврилова». Не передала? По-моему, у тебя с ней что-то было…
– Нет у меня никакой соседки. Я живу в отдельной квартире.
– А кто же это был?
– Жена.
– Ё-мое! Ты же говорил, что одинокий…
– Это другое…
– Да ладно, все мужики женаты.
– Калашников тоже?
– Вроде нет… Жор, ты прости. Я не хотела тебя подставлять. Она у тебя ревнивая?
– Пожалуй.
– Ну что я могу сделать?
– Сама решай.
– Слу-ушай! Завтра бабка уедет к подруге на дачу, в Абрамцево. До вторника. Они каждый год отмечают, как из-за краскома Усольцева подрались, он за обеими ухаживал, но предложение моей бабке сделал, она наврала, что беременна. Правда, жениться не успел – его чекисты замели. Прикинь: сидят старушки на веранде, хлещут настойку из черноплодки и вспоминают с теплотой своих мужей и любовников. Романтика. Приезжай ко мне завтра! Сможешь?
– А твои родители? – осторожно поинтересовался я.
– Я же говорила, они за границей работают. В Тунисе. Записывай адрес… Ну вот, опять переклинило: ты же меня отвозил. Подъезд помнишь?
– Помню.
– Квартира – 14. Кстати, можешь у меня остаться до вторника, если тебя из дома выгонят. Приедешь?
– Конечно! – выпалил я, глупея от счастья.
– Целую! Жду! Пока!
Короткие гудки отбоя напомнили трель майского соловья. Мое либидо очнулось и сладко забило крылами. Положив трубку, я полез в холодильник за второй бутылкой. Выпив, я снова глянул на записку Нины. Странно: всего одна строчка. Маловато для списка продуктов. Ну-ка… Под листком обнаружились индийские презервативы. Вот влип – я же их в куртке оставил! На зверски вырванной из школьной тетради странице бешеным, но разборчивым подчерком было написано:
Скотина! Убирайся к своей Гавриловой!
Вот попал так попал! От презервативов, конечно, отовраться можно. В крайнем случае скажу честно, как было на самом деле, а Жека подтвердит, хотя правда чаще всего выглядит неубедительно. Если бы не утренний звонок Леты… Ну что за дура! Теперь собрать правдоподобную версию случившегося очень трудно. Можно, например, сказать, будто Гаврилова перепутала меня с заведующим отделом культуры райкома Жорой Борисенко. А гондоны? С ними-то как? Одно совпадение великодушная женская наивность понять и принять еще может, но сразу два – это выше дамского разума.
Выход, конечно, есть: сдать пустые бутылки, год копившиеся на балконе, заклеить на зиму бумагой окна, пропылесосить квартиру, приладить отвалившуюся в ванной плитку, купить цветы и с повинной головой ждать возвращения Нины от матери. Куда же еще она могла уехать с Аленой. Потом недели две-три придется вести себя как цирковая собака, умеющая ходить у ноги без поводка, даже если по пути раскиданы сосиски. Еще надо будет упросить Борисенко, чтобы позвонил Нине и взял вину на себя, мол, у него с Летой шуры-муры, а она девушка творческая и рассеянная. Ему-то по фигу – он в разводе. Вряд ли жена сразу поверит, но неприятная история постепенно переместится в ту часть мозга, где сор прошлого обрастает радужными оболочками, как в раковине-жемчужнице. В сущности, все наши воспоминания – это мусор, покрытый перламутром.
Стоп! Но в таком случае я не смогу поехать к Лете и остаться до вторника. Есть редкие женщины, обладание которыми оправдывает мужское пребывание на земле. Ситуация ослиная, в смысле – буридановская: или Нина, или Лета. А почему «или-или»? Шлионский считает, что жен надо периодически бросать, оставляя наедине с ледяным дыханием одиночества, тогда они, пусть на время, становятся мягче, заботливее, снисходительнее. Что ж, самое время обидеться на Нину и не просто обидеться, а убраться, как она и требует. К маме уехала! Я тоже могу уехать! К Лете! Мне везде рады!
И я неверным пальцем набрал телефон Крыкова:
– Боба, Сонька еще у тебя?
– Сейчас посмотрю…
– Алло, – не сразу ответила Шохет, измученная бессонным счастьем.
– Сонь, путевку еще не отдали?
– Нет, но Пальчиков вроде бы хочет…
– С меня торт. Очень надо!
– Хор. Я позвоню девчонкам. Оплатишь на месте. «Птичье молоко».
– Заметано!
– Слушай, Жор, ты никому не говори, что я у Бобы!
– Могила!
Можно было обойтись без клятв: весь ресторан видел, как Крыков уносил Соню на плече, будто солдат скатанную шинель.
Достав с антресолей спортивную сумку, я побросал в нее вещи из расчета на неделю, предусмотрев даже внезапное похолодание. Время от времени я пытался вызвать по телефону такси, но, как всегда, было глухо занято. С трудом застегнув молнию на сумке, я набрал номер в последний раз и вдруг услышал ответ диспетчера:
– Вызов такси. Куда ехать?
– В Переделкино.
– В Новопеределкино?
– Нет, в городок писателей.
– Машина будет после двадцати ноль-ноль.
– Но мне надо сейчас.
– Все машины на линии. Оформляем заказ?
– Не надо…
«Ничего, поймаю машину на Домодедовской», – решил я и приписал на тетрадном листочке под словами «Убирайся, скотина, к своей Гавриловой!»:
Как скажешь, дорогая!
«В ногах у меня будете валяться!» – мстительно думал я, шагая с сумкой к Домодедовской улице, и представлял себе почему-то Алену с тещей, бьющих передо мной поклоны. Нину у моих ног я при всем желании вообразить не смог. Сзади засигналили: меня нагнал зеленый «пазик» с трафаретной надписью «Москанализация». Я махнул рукой. Из окна высунулся небритый водитель:
– Куда?
– В Переделкино.
– Лезь!
– Сколько?
– Договоримся.
Я погрузил на заднее сиденье сумку и пишущую машинку в черном футляре, потом уселся рядом с шофером. Он газанул, машина дернулась, за спиной загремели железки, накрытые брезентом. Страшным усилием фантазии мне удалось наконец представить себе Нину с виновато опущенной головой. То-то же!
– Здравствуй, жизнь!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.