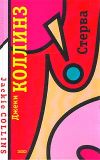Текст книги "Секс в СССР, или Веселая жизнь"
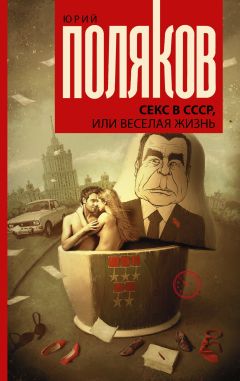
Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 34 (всего у книги 44 страниц)
Сижу, подсолнух лузгаю,
В окно уставил взгляд,
Томясь мечтою русскою —
Найти за печкой клад.
А.
Проверяя, не забыл ли что-нибудь важное, я нащупал в ящике бастурму, развернул и с изумлением понял: нашлась бесследно пропавшая страничка «Невероятного разговора». Чудеса и только! Расправив листок, я вложил его в БЭК, и собравшись уходить, посмотрел на часы. Интересно, Нина вернулась после Жозефа домой или еще нет? Ладно: если в окне пройдут подряд три пары женских ног, позвоню жене. Но шли почему-то одни косолапые мужики в разбитых ботинках. Не судьба! Я застегнул портфель, понюхал бастурму и оставил ее около свежей дырки в полу. В темном коридоре меня чуть не сшибла с ног запыхавшаяся Вера Павловна. Из ее сумки, как боеголовки, предательски торчали три батона колбасы.
– В высотке варено-копченую давали, – смутилась она. – Один батон в руки. Три раза очередь пришлось занимать. Вам не нужно?
– Нет, спасибо. Я, знаете ли, в отпуск ухожу…
– Ого! Везет же… Счастливо отдохнуть! Куда поедете?
– Не знаю. Может, махну в Абхазию, в Гульрипши. Там еще лето.
– А я, представляете, Георгий Михайлович, ни разу в жизни на море не была. Только на Можайском, и то лет десять назад. Там дача у сестры.
– Съездите как-нибудь…
– На какие шиши? Значит, в отпуск?
– Угу.
– А когда назад?
– Еще не знаю.
– Поня-ятно, – протянула догадливая машинистка и глянула на меня с сочувствием.
…Веру Павловну я встретил много лет спустя в Домодедово. Молодящаяся дама, покрытая дорогим загаром и одетая в белый брючный костюм от Армани, показалась мне удивительно похожей на мою давнюю машинистку. Я на всякий случай окликнул, она нехотя оглянулась, сначала нахмурилась, недоумевая, но потом, узнав, улыбнулась ровными, как почетный караул, зубами. Вера Павловна улетала на Крит. Я приехал в аэропорт заранее, не спешил и помог ей подкатить к стойке регистрации большой коричневый чемодан от Луи Виттона. Разговорились…
В самом конце восьмидесятых умерла ее тетка, вдова генерала, завещав Вере, как самой неудачливой в роду, четырехкомнатную квартиру на улице Горького, набитую антиквариатом. Дядя был комендантом поверженного Лейпцига и добра вывез из Германии столько, что попал под следствие вместе со знаменитой певицей Руслановой, однако как-то сумел оправдаться перед Сталиным. Досталась Вере Павловне и гектарная генеральская дача в Кратово. Потом внезапно скончалась, предварительно овдовев, и бездетная сестра, с которой наша машинистка была много лет в такой жуткой ссоре, на какую способны лишь родные люди. Завещание усопшая, собираясь жить долго, не оставила, и Вера Павловна, как единственная наследница, получила хоромы на Садовом кольце и дом на Можайском море. Удачно распродав антиквариат, она выгодно сдала квартиры и дачи внаем, выпихнула замуж бестолковую дочь, подняла внуков, а теперь вот отдыхает, путешествуя по миру. В Москве бывает наездами, в основном для сбора дани и выяснения отношений с неаккуратными съемщиками.
– Надоело по отелям мотаться. Хочу купить дом в Испании, в Таривьехе. Там сейчас рынок недвижимости просел.
– Хорошее место.
– Вы там были?
– Да, прошлым летом гостил у Бори Токарева.
– Это тот, который в «Двух капитанах» играет?
– Угу.
– Ах, как он мне нравится! Женат?
– С детства.
– Жаль. Ну, а вы-то как, Егор?
– Работаю в «Литературной газете».
– Ах, ну да, мне кто-то говорил. Вот вы, наверное, знаете, стоит ли брать акции «Норильского никеля»?
– Я в этом не разбираюсь.
– Ну, ничего, в самолете кого-нибудь спрошу. Иногда, знаете, очень умные люди попадаются…
Тут подошла ее очередь, я взгромоздил чемодан на ленту, и электронная цифирь показала 31 килограмм.
– У вас перевес! – вскричала девушка за стойкой.
– Не волнуйтесь – я доплачу, – равнодушно ответила бывшая машинистка.
…Я вышел из редакции. На улице было зябко, солнце село, но еще пробивалось лучами сквозь проходные дворы. Несмотря на тяжелый портфель, я решил дойти до Киевского вокзала пешком. Люблю гулять по Москве. Если бы можно было выбирать вид загробной жизни, мне бы хотелось, если, конечно, заслужу, бродить по яркой осенней столице и любоваться видами родного города. Возможно, ко мне приставят особого ангела, разбирающегося в зодчестве. Он, как ручной сокол, сидел бы на моем правом плече и нежным шепотом, щекочущим ухо, рассказывал, чем знаменит тот или иной дом, кто обитал в том или ином подъезде и в каком именно сквере Аполлон Григорьев нашел свою падшую возлюбленную…
Стоя у наземного перехода в ожидании зеленого света, я заметил в толпе Семеркина и помахал рукой. Но он старательно смотрел в другую сторону – пришлось окликнуть. Миша нехотя обрадовался встрече.
– Ну как, ушли документы? – спросил я.
– Ушли…
– Слушай, а может, мне еще селедочку с собой прихватить, банок десять? Говорят, там котируется.
– Ты разве ничего не знаешь?
– Не-ет. А что случилось?
– Тебя же вычеркнули из делегации.
– Когда?
– Вчера вечером…
– Ясно. Может, я теперь вообще невыездной?
– Не исключено… – вздохнул Семеркин и побежал на зеленый свет.
А я остался стоять на тротуаре, тупо наблюдая, как на круглом экране светофора смешной зеленый человечек торопливо перебирает ножками, не сходя с места. Я ринулся, когда на экране уже появился красный истуканчик, и мне каким-то чудом удалось перебежать на другую сторону, не попав под колеса рванувших с места автомобилей. Видимо, мой лимит неприятностей и провалов на сегодня был исчерпан до дна. Четыре плюса – обхохочешься!
Возле американского посольства я остановился в задумчивости. Внешний периметр охранял наш обычный советский милиционер, лениво и совсем небдительно топтавшийся возле типовой дежурной будки. Зато в глубине мощного портала, у высоких закрытых дверей, застыли, вытянувшись в струнку, два рослых морпеха в роскошной черной форме с золотыми позументами. Белый и негр. Это нарочно, чтобы мы не думали, будто у них там темнокожих линчуют. Я вдруг вообразил, как, оттолкнув нашего тетеху-милиционера, брошусь к морпехам с криком о помощи и они сноровисто распахнут передо мной высокие двери. Через мгновение я уже в свободном мире, и меня ведут к послу – внимательному, гладко причесанному на пробор джентльмену в дымчатых очках. Он сажает меня в кресло, наливает, чтобы успокоить, виски со льдом, а потом с внимательной улыбкой слушает мой сбивчивый детский английский. Однако понять-то меня легко: я прошу политическое убежище! Мотивы очевидны: мои повести не печатают, а теперь еще за принципиальность, проявленную на заседании парткома, гонят из газеты, вычеркнули из очереди на улучшение жилья, выбросили из делегации, отлетающей в Италию… Мало? Хорошо же! Вот вам: моя жена со мной разводится, а дочь будет расти без отца. Еще аргументы в пользу побега? Пожалуйста! Лета Гаврилова обещала мне взаимность, но влюбилась без памяти в актеришку с замашками неряшливого клоуна, а девушка, которую она мне подсовывает вместо себя, страдает циститом и писает прямо посреди улицы! Снова мало? Тогда вернемся к моей жене: она, сделав прическу у Жозефа, печет – вы не поверите – пирог с грибами неизвестно для кого! Теперь-то достаточно? «Инаф, инаф!» – кричит посол, у которого от ужаса исказился пробор и запотели очки. То-то же! Поэтому я, как Галич, Тарковский и Битов, выбираю свободу! Нина никогда меня больше не увидит, разве только услышит по «голосам» и будет в отчаянии рвать на себе прическу от Жозефа! Ведь из-за «железного занавеса», как и с того света, никто еще не возвращался…
– Здесь не надо стоять! – послышался тихий и злой голос. – Пройдите!
Неизвестно откуда взявшийся здоровяк в сером плаще незаметно пнул меня кулаком в бок
– А когда построено это здание? – голосом любознательного прохожего поинтересовался я.
– Тогда же, когда и Лубянка. Ясно? Пройдите!
– Не волнуйтесь – прохожу…
На Смоленке я зашел в угловой пивной бар, что напротив входа в метро. К трем автоматам, напоминающим «мойдодыров» из книжки Чуковского, выстроились тесные, перепутавшиеся очереди, но главная беда заключалась в другом: катастрофически не хватало кружек, так как их постоянно били или уносили с собой. У опытных пиводобытчиков имелись наготове обрезанные молочные пакеты или полулитровые стеклянные банки – большая редкость в те годы. Свой пакет подарил мне, уходя, мужичок, щедрый после пива с водкой. Я достиг автомата, бросил в светящуюся щель двадцатикопеечную монету, и агрегат, содрогнувшись, выплюнул в мою емкость 385 граммов «Ячменного колоса». Еще я купил десять соленых сушек по копейке за штуку, пристроился у высокого стола и начал мириться с жизнью. Пиво, как известно, – самый древний транквилизатор, придуманный немецким гением. Правда, недавно я прочел у Юрия Петухова, что германцы сперли идею у соседей-славян, получивших рецепт от своих предков арийцев, которые называли пиво «сомой». Доканчивая третий пакет, я решил, что начну новую повесть со сцены в пивной – и никак иначе! Потом мы разговорились с доцентом-химиком, пристроившимся рядом. Он от души плеснул мне в пиво «андроповки», вынул из «кейса» копченую селедку и стал горячо доказывать, что социализм – гибнущая от энтропии система, обреченная на крах. Зато в новом мироустройстве, разумеется, рыночном, которое грядет на смену социализму, самые большие зарплаты достанутся научным работникам.
– И писателям, – добавил я, пожалев, что не взял у Веры Павловны батон варено-копченой колбасы, а бастурму, хоть она и с душком, оставил крысе.
– Согласен! – кивнул доцент и снова долил в пиво «андроповки».
85. Под ковром истории
Электричка с истошным звуком
Мчится, свет впереди неся,
Приучайте сердца к разлукам,
Ведь иначе прожить нельзя…
А.
Я сел у окна. В вагоне оказалось много свободных мест: электричка шла до Внуково, да и трудовой народ уже почти схлынул. Часы показывали без чего-то девять, значит, на ужин я опоздал. Жаль: после пива всегда хочется есть. Состав дернулся, и людная платформа с витыми чугунными столбами, подпирающими навес, поползла назад. За темным стеклом потянулась плохо освещенная привокзальная разруха, проплыли узорные тени сталинских домов, потом замелькали новостройки, похожие на огромные ульи, заселенные светлячками.
Я достал из портфеля страничку «Крамольных рассказов», пропахшую бастурмой, и расправил на портфеле.
…С Ковригиным после той истории я не однажды сталкивался на разных литературных сходках, но он со мной никогда не здоровался, даже кивком не удостаивал, отворачиваясь. Через общих знакомых я пытался разведать, за что же такая немилость, ведь, спасая классика от исключения, я пострадал не так чтобы очень сильно, но все-таки… Из газеты мне пришлось перейти в журнал «Вахта», но там я не задержался – послал на три буквы главного редактора Альфреда Полуханова, системного самодура, превратившего журнал в образцовое крепостное хозяйство. Он нажаловался в ЦК ВЛКСМ, требовал наказать меня по партийной линии, организовал обличительное заседание бюро, обвинял в пьянстве на рабочем месте. Клевета! Хотя, если честно, непьющая редакция – это такая же нелепость, как бездымная домна. Меня вызвали в верха и поблагодарили за то, что хоть я решился послать Полуханова туда, где ему давно и место. В итоге я ушел без последствий, по собственному желанию и оказался, как тогда выражались, на вольных хлебах, что означало отсутствие постоянного заработка.
По моей просьбе Ашукина, вхожая в дом вождя деревенской прозы, завела с ним разговор обо мне, но услышав фамилию «Полуяков», он побагровел и рявкнул, что, мол, из-за «этого сопляка», то есть из-за меня, ему обломилась верная Нобелевская премия! Я, конечно, рассказу пугливой Капы не поверил, но в самом конце перестройки собственными глазами прочитал, кажется, в «Неделе», большое интервью Ковригина, и там он утверждал, что непременно получил бы «Нобелевку», если бы его исключили из партии. «Почему же не исключили?» – поинтересовался дотошный корреспондент. «Интриги!» – был ответ.
Много лет спустя я спросил у Сухонина, как все было на самом деле. Он сначала мялся, но потом все-таки раскололся. Ковригина задолго до скандала по согласованию с руководством выдвинули на Нобелевскую премию как большого советского писателя, не чуждого умеренной оппозиционности. Шансы у него были неплохие. На фоне «разрядки» Запад мог после эмигрантов Бунина и Солженицына почтить высшей литературной премией писателя, не убегавшего из СССР. Но тут в Америке к власти пришел голливудский ковбой Рейган, начались «звездные войны» – и шансы Ковригина упали. Когда же вдруг наметился скандал с «Крамольными рассказами», Нобелевский комитет снова заинтересовался занозистым советским классиком. А что? Удобный случай напакостить «империи зла», сбившей корейский «боинг», дав премию мятежному деревенщику, и заодно поднять в СССР акции «русской партии», столь не любимой Андроповым. На недовольство советских евреев, постепенно убывавших на историческую родину, уже особенно не рассчитывали.
В одночасье Ковригин снова стал вполне реальным претендентом. Тогда у кого-то возникла смелая идея: подыграть ЦРУ, раздуть скандал, исключить классика из партии, а потом, когда его объявят лауреатом, восстановить в связи с искренним раскаянием. Но прежде он должен, приняв награду из рук шведского короля, резко ответить в обязательной нобелевской лекции на все инсинуации Запада, объяснив миру, кто на самом деле «империя зла», а за кем светлое будущее человечества. Роскошная контрпропагандистская акция! Кроме того, в противовес сквалыжному Солженицыну СССР получал нового литературного лидера с безусловным мировым авторитетом. Шолохов к тому времени совсем одряхлел, да и жить ему оставалось меньше года. Операцию как раз собирались согласовать с генсеком, но тот впал в беспамятство, а счет шел на дни, ведь лауреата объявляли в первой половине октября. Поколебавшись, решили в кои веки проявить самостоятельность. Короче, дали отмашку на свой страх и риск…
– А Шуваев знал об этой операции?
– Нет. Его не посвящали. Покойный Владимир Иванович был слишком прямолинеен. Он честно спасал друга, отчего и пострадал потом.
– Неужели Ковригин ему ничего так и не сказал?
– Нет. Алексей Владимирович был непрост. Оч-ень непрост! – произнес ТТ со своим знаменитым придыханием.
…Вызывающее поведение Ковригина (конечно, согласованное) тут же стало известно на Западе. План работал, автор «Крамольных рассказов» стоял в списке соискателей первым номером. Но тут другая влиятельная группа в верхах сообразила, что такое усиление «русистов» очень не понравится Андропову, если он все-таки придет в себя. К тому же операцию начали без его благословения, а это чревато высочайшим гневом и разборками полетов. Противники плана «Нобелевка» решили нанести ответный удар. Накануне заседания парткома Ковригина вызвал к себе начальник Пятого управления генерал армии Бобков и строго предупредил: если писатель будет и дальше вести себя вызывающе, его немедленно вышлют из страны, как Солженицына. И вождь деревенской прозы никогда больше не увидит ни жены, ни дочери, ни Амалии, ни милых проселков, ни своих любимых икон… Бобков работал еще с Судоплатовым и слов на ветер не бросал. Ковригин занервничал, ведь Андропов пришел в Кремль из КГБ, поэтому в случае чего поверит своим бывшим подчиненным, а не кому-то другому.
– На тайном совещании мы решили так: Леша кается, но его все равно исключают с небольшим перевесом, а потом, после жесткого выступления перед мировой прессой в Стокгольме, решение отменяется вышестоящим органом. Победителей не судят!
– А Лялин был в курсе?
– Отчасти. Он выполнял установку Клинского.
…Таким образом, Нобелевскую премию Ковригин должен был получить в промежутке между исключением и отменой решения, счет шел уже на часы, но тут очнулся Андропов и, не разобравшись спросонья, приказал: ни в коем случае не исключать!
– Мне позвонил по вертушке Зимянин и велел срочно замять дело – я взял под козырек.
– Да, помню, вы пришли и потребовали…
– А вы, мой все еще молодой друг, не задумывались, почему я так долго шел из секретариата в партком?
– Не может быть!
– Да, именно так. Я нарочно давал время, чтобы вы успели исключить Ковригина. Надо было, чтобы информация через Флагелянского ушла на Запад. Все было продумано до мелочей. Но мне и в голову не могло прийти, что вы, Георгий Михайлович, выкинете такой фортель! Теперь-то вам хоть понятно, каких международных дров вы тогда наломали?
– Теперь ясно… – Я ощутил себя мышью, зацепившей хвостиком какой-то проводок в суперкомпьютере и обрушившей весь мировой валютный рынок.
– Большего я вам рассказать пока не могу. Время еще не пришло.
– Вот, значит, почему Ковригин на меня так злился…
– Еще бы! Вы лишили его бессмертия. А чем он хуже Солженицына? Лучше. Талантливей!
Ковригина в последний раз я видел в Переделкино в середине 1990-х. Он пришел со своей дачи посмотреть фильм, тогда их еще крутили в кинозале Дома творчества. На нем были подшитые валенки, длиннополая дубленка и пыжиковая шапка с опущенными ушами: стояли лютые крещенские морозы. Алексей Владимирович опирался на резной посох, напоминая пророка. Его похудевшее лицо, словно вылепленное из красноватой глины, мне сразу не понравилось. Потом я заметил, что «глинистость» появляется у раковых больных незадолго перед смертью. Именно такое лицо было у певца Хворостовского, когда он давал последний концерт… И точно, Ковригин вскоре скончался, смерть его прошла незаметно, по телевизору о ней если и сообщили, то между делом. В те времена, как и ныне, все, что пахнет русским духом, в эфир пускают неохотно. Помер Максим, да и хрен с ним!
– Следующая станция – Переделкино!
Я вложил расправленную страничку «Крамольных рассказов» в распечатку биоритмов и пошел к выходу. Зубчатая стена темного леса за окном поредела и заиграла огоньками дач.
86. Желтый пеньюар
Октябрь – заплата на заплате:
Багрянец, зелень, желтизна…
А незнакомка на кровати —
О господи, моя жена!
А.
Я сошел с электрички и побрел в Дом творчества. Дорога сначала уперлась в глухие, всегда закрытые ворота патриаршей резиденции. Впрочем, Золотуев своими глазами видел, как в них въезжала черная «Волга». Влад даже рассмотрел сквозь затемненные стекла бородатый профиль и крестик на куколе патриарха Пимена. Затем асфальт резко сворачивал налево, за деревьями виднелись купола действующей церкви, куда я и сам несколько раз заглядывал из любопытства. Дальше путь шел вдоль тесного кладбища, буквально навалившегося на шоссе, бывали случаи, когда машины на крутом повороте задевали ограду. Под мостом в темноте журчала мелкая, но быстрая Сетунь, ветер шевелил темные султаны рогоза, и казалось, там, в ночной засаде, притаился эскадрон гусар летучих.
В пустом вестибюле меня окликнула «генеральша»:
– Юргенс, ну что же вы, предупреждать надо!
– О чем?
– Что гостей ждете!
– Я? Каких гостей?
– Даму.
– Даму? – Я понял, что Лета все-таки прислала мне Вику в качестве утешительного приза.
– Не волнуйтесь, я дала ей ключ.
– Зачем?
– Она сначала сидела здесь, – Ядвига Витольдовна кивнула на кресла под лестницей, – но к ней стали мужики приставать – сначала Краскин, а потом и Майнер. Понять их можно: интересная женщина, с изюминкой. Бедняжка, ей было так неприятно. Она же любит вас – это видно.
– Спасибо… А где Ефросинья Михайловна?
– У нее коза заболела. Пришлось подменить.
– Какая коза?
– Обыкновенная. Она ее на балконе держит.
– Ах, ну да… – Я пошел к лестнице.
– Вы слышали, объявили лауреата Нобелевской премии по литературе?
– Когда?
– Только что. В программе «Время».
– Кто?
– Голдинг. Англичанин. Знаете такого писателя?
– Знаю.
– А что он написал?
– «Повелитель мух».
– Хорошая книга?
– Хорошая.
– Я тоже так думаю, что Нобелевскую премию зря не присудят.
– А где все?
– Шовхал в баре отвальную дает.
И в самом деле, из недр бара доносились гул голосов и звон бокалов. А что? Спуститься к ним, хорошенько еще выпить и потом осуществить с бесстыдной актрисой все химеры, накопившиеся в неандертальских потемках похоти со времен мечтательного отрочества! Но я отогнал искушение, поднялся на второй этаж и толкнул дверь номера, приготовив на лице выражение хмурого недоумения. В комнате горела только настольная лампа. Во вращающемся кресле, отвернувшись к окну, сидела неведомая мне женщина, над спинкой виднелась только ее прическа «сэссон», безумно популярная в ту пору. Моду на нее в СССР занесла, кажется, Мирей Матье.
– Вот так неожиданность… – молвил я. – Вы давно здесь?
– Давно, – ответил знакомый голос. – и мы, кажется, были уже на «ты».
Кресло медленно повернулось. Я увидел Нину и чуть не задохнулся. Мало того что стрижка от Жозефа необыкновенно шла ей, она еще, видимо, там же в парикмахерской сделала себе журнальный макияж с синими веками и кровавыми, резко очерченными губами. Кроме того, на жене было ее лучшее австрийское платье, пурпурное с белыми зигзагами, за ним она и теща, сменяя друг друга, простояли в ЦУМе целый день, заняв очередь с вечера.
– Вы… А я думал, ты с Аленой…
– Зачем? Могу же я с мужем хоть раз побыть наедине…
– Конечно! Я так рад!
– Не заметно.
– Правда! Просто у меня сегодня был тяжелый день.
– Я знаю.
– Откуда?
– Я тоже слушаю «Голос Свободы». И Жека кое-что рассказал. Ты в самом деле проголосовал против исключения Ковригина?
– Да.
– И твой голос был главным?
– Да.
– Иди сюда!
Я подошел.
– Наклонись!
– Нас вычеркнули из списков очередников.
– Плевать!
– Я не поеду в Италию.
– Плевать!
– Зато пришли чешские полки.
– Вот видишь, не все так уж и плохо…
Она обняла меня за шею и впилась незнакомым сверлящим поцелуем. От Нины пахло тропическими дурманящими духами, а помада на губах была сладкой, как мед.
– Опять пил пиво? – спросила жена, отдышавшись.
– Ну, да, по дороге.
– Заешь. Мама испекла пирог с грибами. Под газетой. Где тут у вас душ?
– По коридору налево.
– А почему ты сразу не признался, что купил эти дурацкие изделия с Ипатовым пополам?
– Он тебе и это рассказал?
– Конечно, спас друга.
– Ты все равно подумала бы черт знает что! – ответил я так достоверно, что самому сделалось стыдно.
– А что я, по-твоему, должна была подумать? Кстати, где они? – спросила Нина и внимательно посмотрела мне в глаза. – Израсходовал? Судя по приставучим козлам внизу, тут у вас не соскучишься!
– Как ты можешь?! – Я суровым шагом подошел к кровати и поднял подушку.
В свете настольной лампы два ярких квадратика блеснули позолотой.
– А почему под подушкой?
– Я надеялся, что ты приедешь.
– С чего бы это?
– Ты пошла к Жозефу.
– Кто проболтался?
– Алена. Ты же знаешь, как я люблю твои новые прически!
– Знаю. Но все слишком логично выходит. Подозрительно. Врешь! Ты от природы изменщик. Так что прибереги эти изделия на будущее. Или ты чего-то боишься?
– А чего мне бояться?
– Детей, например.
– Дети – цветы жизни.
– Да ну его этот душ, еще перехватит кто-нибудь в коридоре. У вас тут вертеп какой-то…
Нина встала, томно потянулась, шагнула, подхватив сумку, к шкафу и, заслонившись скрипучей створкой, начала раздеваться. Я видел, как сначала над дверцей пламенем взметнулось платье, потом на пол упали серым комочком колготки, а следом белой скомканной гроздью – трусики. Чайкой метнулся по комнате и пал, как подстреленный, бюстгальтер. Наконец жена в желтом пеньюаре вышла из укрытия. Я уже лежал в кровати, дожевывая пирог и изнывая, как во вторую ночь после свадьбы. В первую меня напоили друзья и родственники.
– Подвинься, – попросила Нина, села и стала осторожно вынимать сережки из ушей.
Я нетерпеливо протянул руку и сквозь полупрозрачный шифон почувствовал уколы волосков.
– Я решила везде подстричься, – влекущим голосом призналась она. – Не мешай, сейчас увидишь.
…Жены, если захотят, умеют удивить. Но как бы они ни старались в своей заранее продуманной внезапности, их сила не в этом, тут любая случайная кобылица даст им фору. Но только с женой ты понимаешь, что постоянство в жизни важнее новизны. Ласки давно и привычно любимой женщины – это как стихи из хрестоматии: они знакомы до неузнаваемости. В том и сила.
…Ранним утром меня разбудил мерный накатывающий гул. Открыв глаза, я понял: это колокольный звон. В номере было светло. На полу лежал желтый пеньюар, словно островок, заросший одуванчиками. Рядом, у стены, спала, свернувшись калачиком, Нина. Я нежно погладил разметавшийся «сэссон», а потом потрогал пальцами колкую стрижку, она в ответ вздохнула и шевельнула бедрами. У меня от нежности заломило в висках. Вот и сейчас, спустя столько лет, я помню то давнее мое умиление и чувствую в пальцах щекотку тайных волос. Я встал, обжигаясь подошвами о холодный пол, подошел к окну и отдернул занавеску. Парк за ночь побелел, палые листья от первого заморозка свернулись в трубочки. Лужи подернулись ледяными струпьями. Вороны распушились, словно надели зимние шубки. Из-под портика вышла Капа и, озираясь, поспешила по дорожке. На ней было темное пальто, а голова повязана оренбургским платком. Секретарь партбюро поэтов Ашукина явно торопилась на утреннюю службу.
– Что это? – сонным голосом спросила Нина.
– Колокола.
– Красиво звонят… Надо будет Алену покрестить.
– Можно и покрестить.
– Тебе когда на работу?
– Я в отпуске. А тебе?
– Взяла отгул. Иди ко мне!
– Иду.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.