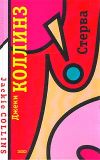Текст книги "Секс в СССР, или Веселая жизнь"
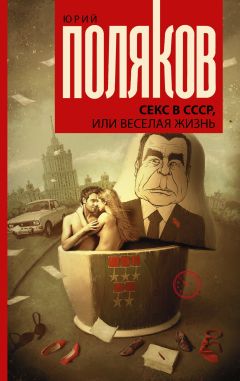
Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 44 страниц)
Скрылась, будто солнышко за тучами,
Молодость. В бессонной тишине
Забываю девушек уступчивых,
Помню всех, не уступивших мне.
А.
…После всех переживаний я, кажется, вздремнул и очнулся от пряного женского запаха, наполнившего комнату. Дверь была открыта, а на пороге стояла Лета в белом пончо с лиловой бахромой. Из-под малинового берета по плечам рассыпались змейками золотые волосы. Она улыбалась:
– Ну, здравствуй!
– Здравствуй, Лета… – Я вскочил с кресла, чуть не опрокинув журнальный столик с едой и выпивкой.
– Можно войти?
– Конечно!
Она сделала церемонный шаг и вскинула руки, точно белые крылья. Тут же из-за левого косяка, как в кукольном театре, высунулась усатая голова в черной шляпе. Один глаз был наискось закрыт черной бандитской повязкой. Проверещав «Приве-етик!» – голова исчезла. Следом из-за правого косяка вынырнула небритая рожа и пропела с кавказским акцентом: «Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощенье!» Облизнувшись, она тоже пропала.
– Извини, Жор, я не одна… – смущенно улыбнулась Гаврилова. – Это ничего?
– Ничего…
– Не выгонишь?
– Заходите, – пригласил я упавшим голосом. – Очень рад!
– Ребята, нам здесь рады! – Она снова подняла белые крылья, а когда опустила, рядом с ней плечом к плечу стояли: усатая девушка в широком сером салопе и небритый широкоплечий парень с буйной, как у Анджелы Дэвис, черной шевелюрой. На нем было затертое до белесости кожаное пальто, туго перетянутое в поясе (в таком ходил Глеб Жеглов) и красный шарф домашней вязки.
– Это Вика. Ты ее знаешь, – представила подругу Лета.
Бандитка сделала книксен, отклеила усы, сняла повязку, шляпу и сразу стала похожа на молодую актрису Неверову.
– Здравствуйте, Жора! – пропела она и, подпорхнув, влажно клюнула меня в щеку.
– А это Игорь, я тебя про него рассказывала. Это он Здобе между глаз дал!
Актер подошел ко мне, печатая шаг, поклонился, щелкнув каблуками и, отведя локоть, больно сжал мощной пятерней мою ладонь:
– Вы в каком полку служили?
– В артиллерийском… – простодушно ответил я, расклеивая сдавленные пальцы.
– А я откосил. У меня справка! – Он захохотал, как оперный злодей.
Девушки прыснули, причем Лета глянула на актера с восторгом. Мое сердце заныло в злом предчувствии.
– Раздевайтесь, – предложил я.
– Как, вот так – сразу? – изумился Калашников. – Нет, так нельзя, сначала надо выпить и поговорить об искусстве.
– Калаш, не дурачься! Жор, ты извини… – смутилась Лета. – Мы на минутку. Так вышло. Сегодня в Доме кино новый фильм крутят. Там Игорь снимался – с моста в воду на коне прыгал… Мы хотим успеть к концу.
– Конь утонул. Я выплыл! – снова захохотал актер и придвинулся к столу. – Ого, колбаска! Что налить дамам – горькой или кисленькой?
– Горькой! – в один голос воскликнули актрисы.
– «Бескозырка белая, в полоску воротник, комсомолка смелая спросила напрямик…» – пропел каскадер и, поддев зубом, сорвал металлическую пробку с имбирной настойки, а потом, оплавив зажигалкой пластмассу, откупорил заодно и «Фетяску».
– Сейчас еще принесу стаканы из столовой… – спохватился я.
– Боишься бытового сифилиса? – картинно оскорбился Калашников. – Не дрейфь, здесь все проверенные! – Он наполнил два стакана, один протянул Лете, второй – Вике.
– Ну, за хозяина поляны!
Актрисы выпили с привычной лихостью до дна. Игорь налил нам – и бутылка кончилась.
– За что пьем?
– За победу! – подсказала Вика.
– За нашу победу! – со значением уточнил актер. – Здобе абзац! – Опрокинув стакан, он ловко зацепил вилкой весь кусок тресковой печени и, капая маслом на газету, целиком уместил во рту.
Дамы тоже налегли. Я с нарастающей ненавистью наблюдал, как мой соперник из двух кусков хлеба, белого и черного, слепил бутерброд с сыром, рыбой и колбасой, как он рвал его хищными белыми зубами, облизывая влажные губы, и глотал, почти не жуя, со сладким еканьем. Пока девушки по-сестрински делили котлету, каскадер смел сосиски с тушеной капустой. Мне хотелось разбить о голову обжоры бутылку из-под имбирной. Зато Лета следила за его насыщением с каким-то чувственным наслаждением. Вика же, наоборот, по-моему, поглядывала на актера с раздражением.
– Ну, еще раз за победу! – Он разлил по стаканам «Фетяску».
– А что у вас за победа такая? – полюбопытствовал я.
– Господи, Жора, забыла рассказать! – всплеснула руками Лета. – Вообрази, утром звонит секретарша и срочно вызывает меня к Здобе. Думала, напоследок поиздевается и трудовую книжку в морду швырнет. Приезжаю. Вхожу в кабинет, а он выскочил из-за стола, бросился ко мне, как Незнамов к Кручининой: «Ах, Виолетта Андреевна, вы у нас такая талантливая! Хочу поставить “Дядю Ваню”. Как вам роль Сони?» Я обалдела: «Спасибо, говорю, давно мечтала…» Выхожу, а в приемной Игорь уже сидит…
Калашников как раз заел последний кусок чавычи «трюфелем» и радостно подхватил:
– Сижу, никого не трогаю, прикидываю, с какой руки бить, а тут Летка из кабинета с этим упырем выходит. Он меня как увидел, аж затрясся: «Ах, Игорь Александрович, как вам у нас работается? Ах, мы в “Королеве” хотим оживить драку на кладбище. Знаю, вы великолепно фехтуете! Не откажите, голубчик!» Слушайте, люди, какая сколопендра его укусила?
– Говорят, к нему вчера какой-то мужик в штатском заезжал, – сообщила Вика. – А когда уехал, Здоба пузырек валокордина выхлебал.
– Не важно! – воскликнула Лета. – Главное: мы спасены! За справедливость!
– Виват, виват, виват!
Бутылка «Фетяски» опустела, а на столе не осталось ничего, кроме крошек, корок и скомканных фантиков. Каскадер, поколебавшись, взял консервную банку за отогнутую крышку и шумно выпил масло, оставшееся от печени, закусив черной коркой, затем он вытянул из букета клиновый лист, отломал черенок и стал ковырять им в зубах.
– Еще выпить есть? – спросила Вика.
– Нет.
– Не хочу показаться Карлсоном, который живет на крыше, но нам вроде бы пора… – задумчиво произнес Калашников.
– Проводишь? – просительно шепнула мне Лета.
Под заинтересованными взглядами телефонной очереди мы спустились в холл. Каскадер, почуяв публику, присел на корточки и часть пути проделал гусиным шагом. Гаврилову, шедшую со мной под руку, узнали, удивились и зашушукались. Ядвига Витольдовна подмигнула мне с уважением. Мы вышли в шуршащую осеннюю темноту. Лета приостановилась, давая подруге с каскадером уйти вперед.
– Жор, прости! – зашептала она. – Ты мне правда сначала понравился, но в Игоря я втрескалась как дура. Со мной никогда еще такого не было. Даже в ушах звенит. Не злись! Ты хороший и наплевать, что женат… Но теперь уже ничего не получится. Понимаешь?
– Понимаю.
– Хочешь, Неверова у тебя сегодня останется?
– Она вроде замуж собиралась?
– Проехали. С Додиком они расплевались. Окончательно.
– А что так?
– Задолбал своей ревностью, хоть паранджу надевай. Она вчера психанула – и теперь совсем одна. Понял? Попробуй! Ей все равно сегодня ехать некуда.
– Я же ее почти не знаю.
– Узнаешь.
– Глупость какая-то! – возмутился я, чувствуя постыдный трепет животного низа.
– Прекрати! Скажу, ты хочешь с ней погулять и показать Переделкино. Все будет нормально!
– Как твоя бабушка?
– Оклемалась. Завтра забираем домой.
– Машина не нужна?
– Нет, спасибо. Игорь уже договорился. Ну, сказать Неверовой?
– Даже не знаю…
Мы вышли на шоссе – и тут Вика взвизгнула:
– Ой, пописать забыла!
– Можно вернуться… – растерялся я.
– Жора потом тебя проводит, – добавила Лета.
– Что за проблема? – засмеялся каскадер. – Мы на природе! Я бы тоже отлил. Мальчики налево, девочки направо!
– Ой, не дотерплю! – захныкала Неверова.
Она присела так, что полы ее салопа легли на землю, и актриса стала похожа на тряпичную куклу, какой накрывают заварочный чайник. Все, даже Калашников, деликатно отвернулись. Озорница сделала свое дело, встала, поправилась, и мы как ни в чем не бывало пошли вниз, к Самаринским прудам. Я незаметно оглянулся: на темном асфальте дымилась лужица, посеребренная луной. Игорь на ходу голосовал, но редкие в это время машины даже не притормаживали.
– Давай, Жора, давай! – шептала мне Лета. – Скажи, что покажешь ей дачу Пастернака. Она ждет.
– Не хочу! – огрызнулся я.
– Ты долго еще пробудешь в Переделкино?
– Побуду.
– Не грусти. Все будет хорошо…
Показались фары. Каскадер широкими шагами вышел на середину дороги, пал на колени и стал размахивать красным шарфом, как терпящий бедствие. Водитель «копейки» сначала пытался его объехать, но Игорь ловко преграждал ему путь. Мужик остановил машину и выскочил с монтировкой, но буквально через минуту уже братался с Калашниковым.
– Карета подана. Дамы, прошу! – Актер картинно распахнул дверцы.
– Жор, поедем с нами! – вдруг попросила Вика.
– Нет, у меня был трудный день.
– Отдыхай! – обидно засмеялся каскадер, и они умчались.
74. Мне голос был…
От Новопеределкино до Неринги,
От Старого Оскола до Инты
Мы сладострастно «Голосу Америки»
Внимаем, широко разинув рты,
Развесив уши
На шестую часть суши.
А.
Проводив гостей, я долго и бесцельно бродил по Переделкино. Сквозь прорехи в фиолетовых тучах посверкивали крупинки звезд. В воздухе пахло мокрой прелью и дальней гарью. Деревья, теряя листья, дрожали на ветру, как обиженные. Зазаборные собаки, лениво перебрехиваясь, информировали друг друга, что я для них не представляю никакой опасности. Сквозь редкие планки палисадов светились астры и гортензии. Кое-где почерневшие золотые шары безутешными снопами навалились на ограды. В канаве ворочались усталые осенние лягушки. Иногда из туч, мигая сигнальными огнями, вываливался самолет, похожий на подводную лодку с крыльями, и, утробно ревя, тонул за внуковским лесом.
«И в самом деле, как они летают?»
Стыдно признаться, но я жалел, что не предложил Неверовой остаться, даже вернулся к тому месту, где на асфальте еще темнело влажное пятно, напоминавшее очертаниями Австралию. Озорная девушка! Я свернул в дачный проулок. Поселок отходил ко сну. Окна в домах погасли либо еле теплились синевой включенных телевизоров. Зато дача Ковригина светилась, будто огромный китайский фонарь, оттуда неслись музыка, застольный гомон и смех. Пахло шашлыком. Празднует! У ворот стояла служебная «Волга» Сухонина. Водитель спал за стеклом, откинув сиденье и выставив острый кадык.
Когда я вернулся в корпус, в холле никого не было, очередь к телефону рассосалась, «генеральша» легла спать и приглушила свет. Я заглянул под лестницу, надеясь увидеть вчерашнего ветерана и продолжить разговор, но там никого не оказалось. Чайника с успокоительным отваром у зеркала тоже не было.
– Угомонись! – высунулась из-за шкафа недовольная Ядвига Витольдовна. – Бар закрылся. Все легли. Ступай к себе!
– Иду…
– А эта твоя Гаврилова лучше, чем в кино. Так редко бывает. Почему она у тебя не осталась?
– Полюбила другого.
– Этого клоуна?
– Он актер…
– Какие же мы, бабы, дуры! Спокойной ночи, Юргенс!
Не успел я войти в номер и расшнуровать ботинки, в дверь постучали.
– Кто там?
На пороге стояли Золотуев и Краскин. Влад, как противотанковую гранату, держал в одной руке пол-литра, а в другой стакан. Лева прижимал к груди черно-серебристый VEF размером с обувную коробку.
– Здесь пили! – потянув носом воздух, определил бывший секретарь партбюро.
– И закусывали! – поддержал бывший женолаз.
– Вы чего? – спросил я.
– Сейчас будут повторять, – сообщил Влад.
– Что буду повторять?
– Узнаешь, идеологический диверсант!
– Ну, что, продинамила тебя твоя актриска? Зря кормил и поил, – хмыкнул Лева, глядя на неразобранную постель. – Говорили тебе, бери Розу – не пожалеешь!
– Никто меня не динамил. Я сам воздержался. Не в том настроении.
– Еще бы! Вся Москва гудит, – засмеялся Золотуев. – Ну, ты и дал, парень, стране угля, мелкого, но много! – Он поставил на стол бутылку.
– Я вообще-то спать собирался.
– Мы тоже. Хлеб остался?
– Остался.
– Давай! И посуду тоже…
– Зря ты воздержался! Секс – лучший антидепрессант. – Краскин сел в кресло, поставил на стол приемник и покрутил ручку, шаря по скрипучим волнам радиоэфира.
В комнате зазвучал голос беглого советского актера Юлиана Панича, рыдавшего в эфире очередную главу «Архипелага ГУЛАГ»:
«…Ах, доброе русское слово – острог – и крепкое-то какое! сколочено как! В нем, кажется, сама крепость этих стен, из которых не вырвешься. И все тут стянуто в этих шести звуках – и строгость, и острога, и острота (ежовая острота, когда иглами в морду, когда мерзлой роже метель в глаза, острота затесанных кольев предзонника и опять же проволоки колючей острота), и осторожность (арестантская) где-то рядышком тут прилегает, – а рог? Да рог прямо торчит, выпирает! прямо в нас и наставлен!»
– Ядрено пишет, – кивнул бывший секретарь партбюро, разливая водку по стаканам. – И что не в глаз – то в бровь!
– Завидуешь! Как думаете, – Краскин с отвращением понюхал алкоголь, – это у нас когда-нибудь напечатают?
– Это – никогда! – покачал головой Золотуев, выпил и закусил корочкой хлеба.
Мы тоже маханули. Вкусовые рецепторы еще протестовали против грубого национального напитка, а пищевод уже благодарно теплел. Панич, наконец, отрыдал. В чуждом эфире пропиликала звуковая заставка – и пошли новости, которые, чередуясь, читали мужчина и женщина. Голоса у дикторов были хорошо поставленные, но с какой-то особой антисоветской гнусавинкой. Я узнал много нового и интересного. Генсеку Андропову стало лучше, его отключили от аппарата искусственного дыхания, однако он еще привязан к клинике из-за ежедневных процедур гемодиализа. Резкое ухудшение у кремлевского лидера, оказывается, наступило из-за нервного потрясения, когда разразился скандал с корейским «боингом», сбитым советскими ПВО.
– Думаешь, это мы его сбили? – усомнился Краскин.
– А кто? Илья-пророк молнией херакнул?
– Разве гемодиализ каждый день делают? – спросил я.
– Это нам с тобой раз в неделю будут делать. Сэкономят. А ему – каждый день! – уверенно ответил Лева. – Герантократы!
Мы выпили за омоложение Политбюро.
«…В Афганистане на мине, – гнусаво глумились дикторы, – подорвался советский бронетранспортер с целым взводом десантников, включая полковника Генерального штаба. Академика Сахарова, объявившего в городе Горьком бессрочную голодовку, стали кормить принудительно. Елена Боннэр просит защиты у мировой общественности…»
– Через задницу, что ли? – нахмурился Золотуев.
– Звери! – согласился Краскин.
– Странно, – заметил я, – взвод в бронетранспортер не влезет. В лучшем случае – отделение.
– Не цепляйся к деталям. Главное, наши мальчики гибнут! – вздохнул Лева.
– А полковник?
– Он за это деньги получает.
Дикторы не унимались: «…лидер “Солидарности” Лех Валенса объявил вчера, что Нобелевскую премию Мира передаст монастырю Свята Гура в Ченстохове…»
– Я бы себе оставил… – вздохнул Краскин.
– Ну и жмот!
– «…Судьба корреспондента “Литературной газеты” Олега Битова, бесследно исчезнувшего четырнадцатого сентября в Венеции, куда он по командировке прилетел на Международный фестиваль, остается неизвестной. По некоторым сведениям, Битов попросил политического убежища в одном из посольств, но информация пока не подтверждена никакими заявлениями беглеца. Он позвонил с неустановленного номера своему брату, писателю Андрею Битову, и сообщил, что с ним все в порядке. Мы связались по телефону с Андреем, он не подтвердил и не опроверг данную информацию».
– Знаешь Олега Битова? – спросил я Влада.
– Знаю.
– Мог сбежать?
– Мог.
– А я наши горы ни на что не променяю! – прослезился Краскин.
– Ну и мудак… Главное не горы, а люди!
Мы еще выпили за моря, горы, людей, женщин и девушек.
– «…Андрей Тарковский в письме, посланном на днях отцу, известному советскому поэту Арсению Тарковскому, так объяснил свое нежелание возвращаться из творческой командировки в Италию, куда его направило Госкино: “…Я не знаю, кому это выгодно таким образом толковать тяжелую ситуацию, в которой я оказался благодаря многолетней травле начальством Госкино, и в частности Ермашом – его председателем. Может быть, ты не подсчитывал, но за двадцать с лишним лет работы в советском кино около 17 лет я был безнадежно безработным. Госкино не хотело, чтобы я работал. Меня травили все это время, и последней каплей стал скандал в Каннах, где было сделано все, чтобы я не получил премию за фильм “Ностальгия”…»
– Это он папе пишет? – уточнил Влад.
– Папе.
– А такое впечатление, что человечеству… К нам, в Союз, из Венеции письмо идет недели две, если без задержки. Как оно на «Голосе Свободы» раньше оказалось?
– Не важно. Но премию он вроде как получил? – засомневался Краскин.
– За режиссуру, – вспомнил я. – А хотел Гран-при…
– Хотеть не вредно, – отозвался Золотуев. – Семнадцать лет простоя. Это сильно! Погоди, сколько фильмов Тарковский снял за двадцать лет? «Рублев», «Солярис», «Сталкер», «Зеркало»…
– «Иваново детство», – подсказал Краскин.
– Разве его?
– Его.
– Получается, пять картин.
– Шесть. «Ностальгия».
– Эта не считается.
– Почему не считается? За наш же счет снимал.
– Откуда ты, Лева, все знаешь? Выходит, один фильм в четыре года, – подытожил Золотуев. – Не так мало.
– Меньшов три снял, – добавил я.
– Что там Меньшов! Сам Бондарчук меньше снял.
– Не меньше! С «Красными колоколами» тоже выходит шесть, – возразил осведомленный Краскин, не пропускавший кинофестивалей. – А он на десять лет старше Тарковского.
– Зато Бондарчука не травят. В орденах, как в сбруе, – вставил я.
– Меня бы так травили, как Тарковского! – вздохнул опальный Золотуев и разлил по стаканам оставшуюся водку.
– А откуда все-таки у них письмо к отцу? Он его сначала радиостанциям, что ли, продиктовал, а потом папе отправил? – удивился Лева.
– Может, передал кто-нибудь? – со значением спросил я, глянув в глаза альпинисту.
– Тихо! – цыкнул Влад. – Начинается…
– «…Как нам сообщили из Москвы, там сегодня конфузом закончилась попытка исключить из партии за острую рукопись “Крамольных рассказов” лидера деревенской прозы, официального русского националиста Алексея Ковригина. Исключение инициировано по указанию генсека Андропова, которого возмутил рассказ, где он сам выведен в неприглядном свете. Рукопись была перехвачена КГБ во время попытки передать ее на Запад и положена на стол партийному лидеру, не чуждому изящной словесности. По некоторым сведениям, он сам сочиняет стихи в свободное от работы время. Однако, несмотря на беспрецедентное давление со стороны ЦК КПСС, решение об исключении на заседании парткома Московской писательской организации не прошло с перевесом всего в один голос. Имя смельчака нам выяснить пока не удается. Вероятно, персональное дело Ковригина будет теперь, когда генсек Андропов пришел в себя, разбираться на Политбюро. По непроверенным сведениям, писатель, не отдавший свой голос палачам русской литературы, уже задержан органами…»
– Понял? – хлопнул меня по плечу Влад.
– Что?
– За тебя, страдалец! Суши сухари!
– Только не зазнавайся! – предостерег Краскин.
«…В Ташкенте завершился Седьмой съезд писателей Азии и Африки, в котором принял участие член Политбюро ЦК КПСС Шараф Рашидов, ко всему прочему еще и плодовитый литератор, хотя по поводу авторства его книг высказываются сомнения. После окончания грандиозного банкета для развоза перепившихся писателей по отелям был отмобилизован весь городской парк машин скорой помощи…»
75. Узнаю тебя, жизнь…
Елочку пейзанин спилит,
Курочку обжора съест.
Наша жизнь – игра на вылет.
Выигрыш – могильный крест.
А.
Утром, когда я умывался, в форточку влетел воробей и долго, жалобно чирикая, метался по номеру: шарахнулся о люстру, юркнул за диван, снова встал на крыло, потом ударился с маху о стекло, упал на подоконник, пополз, как раненый, вороша крыльями, и все-таки упорхнул, сообразив, что выход там же, где и вход. Как это похоже на нашу жизнь, черт возьми, как похоже!
Когда я возвращался с завтрака, Ефросинья Михайловна протянула мне трубку общественного телефона:
– Егорушка, тебя!
Звонил Гарик. С колесами все в порядке, его земляк так завулканизировал камеры, что они теперь стали как новенькие. Гвоздь оказался старинный, с квадратной шляпкой. Ханер-папа очень обрадовался, он, оказывается, всякие там древности собирает.
– Когда приедешь? – строго спросил я.
– Прости, Егор-джан, я отпуск за свой счет взял. Начальнику сказал, ты не возражаешь. Очень надо в Степанакерт…
– А чего ж ты вчера не предупредил, деловой?
– Извини, забыл… Знаешь, сколько всего надо родне накупить. Мне целый список в телеграмме прислали, им арев! Мечусь туда-сюда, как обгорелый…
– И когда же тебя теперь ждать?
– После свадьбы…
Я обозвал Гарика бараном и повесил трубку. Больше мы с ним никогда не виделись. Чертыхаясь, я выскочил из будки и едва не сшиб с ног сердито сопевшего Омирова: после завтрака он обыкновенно занимался телефонным охмурением, а я незаконно занял его место. Великий слепец проживет еще лет десять и скоропостижно умрет здесь же, в Переделкино. Поклонница, приехавшая его навестить, будет клясться милиционеру, что у них ничего такого не было, а просто он читал новые стихи и вдруг, прохрипев: «Горим!» – пал на подушку замертво. Так оно или нет, но поэт предсказал свой конец в стихах:
В теле юный пожар не стихает,
Сердце помнит горячку атак.
Я умру, захлебнувшись стихами,
Я вернусь в мой пылающий танк.
Выйдя из кабинки, я спросил Ефросинью Михайловну, не собирается ли кто из писателей-автомобилистов в Москву? Она покачала головой: десять минут назад Майнер ходил-спрашивал, нет ли попутчиков, и уехал один-одинешенек. День начинался неудачно.
– Говорят, про тебя вчера по радио рассказывали? – спросила вдогонку «доярка».
– Ну, не совсем про меня…
– Вот и ладно. Ты только, Егорушка, с Золотуевым не пей! Он сам дурной и тебя с толку сбивает… Ты лучше с девушками. Полезнее!
– Не буду, Ефросинья Михайловна.
Десятичасовую электричку, на которую я, наспех одевшись, мчался сломя голову, отменили, следующую пришлось ждать сорок минут. Я бродил по платформе, греясь на случайном октябрьском солнышке, и думал сразу обо всем, что произошло со мной в последние дни. Каким боком мне выйдет вчерашнее голосование? С одной стороны, я ослушался, не выполнил приказ. С другой стороны, угадал, так сказать, вектор событий. Наверху явно передумали карать Ковригина. Почему? Что стряслось? Вон ведь как они заволновались. По двести граммов коньяка на нос Шуваев никогда еще на моей памяти не заказывал. Дай бог в суете и про меня позабудут. А если не забудут? Тогда точно отовсюду погонят, кислород перекроют, а то еще и посадят. Интересно, Нинка будет мне передачи носить? В глубине души я понимал: никто меня никуда не посадит, но мне хотелось так думать, как в детстве хотелось заболеть, чтобы отомстить родителям, которые в очередной раз отказались взять домой с помойки ничейную собаку.
С Ниной я уже пять дней не разговаривал, и в душе от этого возникла какая-то тянущая пустота. Жены обладают удивительным свойством: они раздражают своим наличием и удручают отсутствием. Видимо, прочность брака зависит от того, какое из этих двух чувств берет верх. Да и по Алене я соскучился. Дети – неизлечимое осложнение от болезни по имени «Любовь». И о Лете я тоже не мог не думать. Зачем, уезжая, она спросила, долго ли еще я пробуду в Переделкино? Она же влюблена в этого малахольного каскадера. Но кто их разберет, актрис, испорченных системой Станиславского?!
…Послышались визгливые гудки электрички. Еще минуту-две назад она, похожая на зеленую гусеницу, изгибалась на дальнем повороте, и вот уже монстр с оскаленной решеткой и квадратными стеклянными глазами, лязгая гармошчатыми сочленениями, налетел на платформу. Вихрь, воняющий горелой смазкой, вымел из-под ног палые листья и окурки. С шипением выпустив из утробы одних и приняв других пассажиров, чудовище тронулось в путь, набирая скорость. Мимо потянулись, а потом понеслись неряшливые дачные домики, огороды с рыжими перекопанными грядками, переезды с полосатыми шлагбаумами и караванами машин, дожидающихся зеленого света.
Я смотрел в окно и думал о том, что из-за влюбленного барана Гарика стану теперь гораздо ближе к народу: новый шофер уж точно домой возить меня не будет. А где теперь мой дом?
«Ну, ничего, – успокаивал я себя. – Гарик женится и вернется…»
Гарик женился, но не вернулся. Могучий ханер-папа устроил парня в автохозяйство, обслуживающее дипломатический корпус: зарплата в рублях и в валюте. Года чрез два, как мне рассказали, мой бывший шофер появился в редакции, одетый в роскошный джинсовый костюм, принес дорогой армянский коньяк и похвастался, что оформляется на работу в Иран, в наше посольство. А лет через десять – двенадцать после событий, описываемых в этой почти достоверной хронике, я встретил на Сивцевом Вражке его жену с чернявым большеглазым мальчиком. Она сильно изменилась, подурнела, и я, не узнав, прошел мимо, но Марго окликнула меня – мы поговорили. Когда началась война в Нагорном Карабахе, Гарик метнулся туда, чтобы перевезти в Москву мать и сестер, но вместо этого вступил в отряд, в котором воевал его погибший друг-одноклассник. Младший командир Саркисян храбро сражался и пропал без вести под Мартакертом, разделив судьбу многих «азатамартиков» – борцов за свободу. Летом 1994 года, когда объявили перемирие, Марго летала в Карабах, чтобы разыскать мужа или хотя бы его могилу, но бесполезно.
– Правда, он похож на Гарика? – Она погладила сына по жесткой шевелюре, но не черной, как у отца, а темно-рыжей.
– Как зовут?
– Аветик.
– Очень похож! – подтвердил я.
– Все так говорят! – и бедная женщина в голос зарыдала, хотя с гибели моего невезучего водителя прошел уже не один год.
– Мама, пойдем! – попросил мальчик. – Люди же смотрят…
– Гарик всегда вас хвалил и называл Егор-джан… – Вдова вытерла слезы. – Прощайте!
…У посольства напротив редакции стояла черная «Волга». Часть тротуара была снова огорожена железными барьерами. Трое мужчин в одинаковых серых плащах сидели на корточках, рассматривая что-то на асфальте. Я хотел подойти поближе, но один из них погрозил мне пальцем. В подъезде я снова столкнулся со знакомым постовым, пользовавшимся нашим туалетом:
– Что там опять у вас случилось?
– Кто-то ночью мелом написал на асфальте…
– Что?
– Не могу сказать.
– Колись, а то больше в сортир не пущу!
– Ладно. «Коммунисты – палачи!»
– Ого! Маразм крепчает.
…В редакции было тихо, хотя до планерки оставалось десять минут. Даже из каморки Веры Павловны не доносился привычный железный клекот. В темном коридоре я снова споткнулся о стул на гнутых ножках и громко выругался. На шум из залы выглянул Макетсон.
– А где же все? – удивился я.
– Машенька на бюллетене.
– Что с ней?
– Нервы.
– Ясно. А как Галя?
– Нормально. На службе. Она мужественная женщина.
– Это я понял. А Торможенко куда делся?
– Его срочно вызвал к себе ТТ.
– Вот как… Крыков?
– Не видел, но стул стоит.
– Явится – сразу ко мне.
– Хорошо. Про Гарика уже знаете?
– Знаю.
– Новый шофер будет в понедельник. Когда планерка?
– По обстоятельствам. Вы же никуда теперь не торопитесь?
– Нет, я теперь всегда на месте… – ответил боец невидимого фронта, мстительно потупившись.
– Прекрасно!
– А вы здесь надолго? – спросил он, поигрывая железным строкомером, которым Галя вчера чуть не убила Синезубку.
– В каком смысле?
– Никуда в ближайший час не собираетесь?
– Нет, буду у себя.
– Возможно, я отойду минут на пятнадцать. Мне Кикнадзе из Уругвая новый кактус привез. Вообразите, цветет круглый год! Я подарю Машеньке к свадьбе!
И он вернулся за свой стол, к любовно разложенным макетным листам и цветным фломастерам, всем своим видом показывая, что отныне он целиком принадлежит редакции.
С Синезубкой Макетсон прожил недолго, год или два, она с ребенком ушла от него, кажется, к молодому поэту-переводчику, а сам Борис Львович вернулся в семью. Жена Галя приняла его без единого упрека. Иногда мы сталкивались с ним в ЦДЛ, даже выпивали по рюмке. После 1991-го он стал носить на голове кипу и таскал в гардероб на реализацию «Еврейскую газету», которую начал издавать после победы демократии. Умер Макетсон, кажется, в конце нулевых от инсульта, завещав коллекцию своих кактусов университету в Хайфе, но дар был вежливо отклонен. Тогда наследники передали колючее наследие ответсека в одну из школ Обираловки.
Подходя к двери кабинета, я услышал, что телефон звонит без умолку, и успел сорвать трубку – это был Жека.
– Салют, суперфосфат! Ты на работе?
– Нет, в Лефортово.
– Слушал вчера?
– Слушал.
– Молодец!
– Служу Советскому Союзу.
– Могу привезти в обед то, что обещал.
– А что ты мне обещал?
– Тогда – сюрприз! Подойдешь к метро?
– Когда?
– Через час.
– Ладно.
Я закурил, поколебался и набрал свой домашний номер: по средам у Нины иногда выдавался библиотечный день, и она трудилась над каталожными карточками дома. Но трубку сняла Алена.
– Привет, вредительница!
– Папа, – спросила она тещиным голосом, – ты где шляешься?
– В командировке.
– Бабушка сказала, из таких командировок дурные болезни привозят.
– Обычно ты у нас грипп из сада притаскиваешь. Кстати, почему ты дома? Опять болеешь?
– Нет, просто бабушка сказала, что в саду детей портят.
– А где мама?
– В парикмахерскую пошла. К Жозефу. Ладно, меня бабушка зовет. Ты когда из командировки вернешься?
– Не знаю…
Я положил трубку. Сердце нехорошо затвердело. Жозеф был знаменитым на всю Москву женским парикмахером и кудесничал, кажется, в «Чародейке» на Новом Арбате. Записывались к нему за месяц, да еще потом ходили отмечаться. Он стриг и причесывал не по утвержденному перечню фасонов, а по вдохновению, перенося на головы клиенток свежие веяния зарубежной волосяной моды. Зачем Нине понадобился Жозеф? Ясное дело: для красоты. А красота ей зачем? Еще понятнее: молодая привлекательная мать-одиночка не прочь познакомиться для серьезных отношений и последующего создания семьи… А что ты хотел? Это у царей бывшие жены шли на плаху или в монастырь. Современная советская труженица имеет право на личное счастье после окончания рабочего дня…
Я ощутил странное шевеление в углу, поднял глаза и увидел знакомую крысу, пропавшую полгода назад. Вернулась! Так вот почему мыши умолкли. Крыса потирала розовые передние лапки и шевелила усами, будто улыбаясь, а ее голый, похожий на дождевого червяка хвост подрагивал, точно от смеха. Я дружески швырнул в грызунью рукописью, но она успела юркнуть в свежую дырку под плинтусом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.