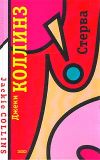Текст книги "Секс в СССР, или Веселая жизнь"
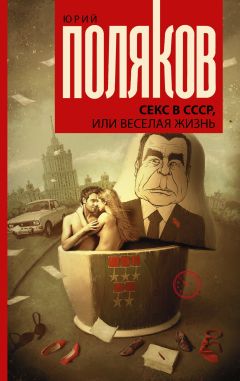
Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 44 страниц)
И пусть пока талант твой не замечен,
Пускай ты ничего не написал,
Но если двинешь кони, обеспечен
Тебе, по крайней мере, Малый зал.
А.
На панихиду я не опоздал, так как ее перенесли на полчаса из-за накладки с ритуальным автобусом. Напольные часы в холле и большие, «балетные», зеркала возле гардероба были задернуты черным крепом. Козловский и Данетыч тоже надели на рукава траурные повязки. Пахло свежей хвоей. Из репродуктора, скрытого в стене, звучала печальная музыка, вроде бы Шопен. Гроб уже стоял в Малом зале на скошенном постаменте, окруженный венками от родных, соратников, Союза писателей, Совиздата, Министерства путей сообщения, ДОСААФа. Кольский лежал, уперев подбородок в грудь, казалось, он пытается рассмотреть мыски старомодных ботинок, выглядывавшие из-под белого покрывала. Нос у него, как у всех покойников, укрупнился, на висках был заметен густой бежевый грим, похожий на крем для обуви. Костюм «после тяжелой продолжительной болезни» стал ему, некогда тучному старику, велик, обвис – и орденская колодка сползла набок.
Сами награды покоились на красных подушечках, разложенных по краю постамента. «Знак Почета», «Красная Звезда» и медаль «За отвагу» потемнели от времени, зато орден Отечественной войны 1-й степени сиял сувенирной позолотой: в последнее время такие давали многим ветеранам к круглым победным датам. Вдоль стены поставили десяток стульев для немощных и утомленных. По краям этого ряда, не замечая друг друга, сидели две вдовы: сухая старушка в черном платочке, первая жена, и молодящаяся дама в траурной шляпке с вуалью – в прошлом медсестра санатория. Дочерей тоже было две: старшая выглядела ровесницей второй жены, а младшая по виду – студентка. Третье поколение Кольских отсутствовало: единственный внук служил во Внешторге и попросил политическое убежище в Западной Германии, после чего фронтовика настиг первый инфаркт. Этой скорбной информацией поделился Макетсон, знавший все про всех.
Ко мне устало подошел «писательский Харон» Арий Натанович Бакк. Он был весь в черном, лишь волосы, выкрашенные хной, слегка отливали старой бронзой.
– Где комсомол? – вяло спросил он. – Выносить некому.
– Не волнуйтесь! Ребята будут…
– После похорон Фадеева я вообще не волнуюсь. Вот теперь катафалк на полпути сломался. Буду ругаться… К вдовам подойди! – посоветовал он равнодушным голосом и удалился.
Решив выразить соболезнования по старшинству: сначала бывшей жене, а потом действующей, – я прислонил портфель к стене и пошел сочувствовать.
– Спасибо, молодой человек! – кивнула старшая вдова. – Вы от какой же организации будете?
– От комсомола.
– О, Степан Герасимович был знаком с Косаревым!
– Сидели в президиуме, – добавила полуседая дочь.
Я поклонился и отправился к конкурентке по скорби.
– Ах, я не переживу, – заплакала младшая вдова. – Степа после юбилея собирался в Пицунду! Мы уже и путевки купили…
– Мама! Что ты такое говоришь?! – зло зашептала юная дочь.
– А что я говорю? Путевки жалко…
Выполнив печальный долг, я глянул на часы: до панихиды, по моему опыту, оставалось минут десять. На выходе из зала у конторки Арий меланхолично крутил диск телефона:
– Где комсомол?
– Едут.
– Смотри. Вот ведь как бывает: две вдовы, а выносить некому. Но это еще что! Фиму Вацетиса хоронили целых четыре вдовы. Последняя едва школу кончила. Он ее так и звал: «Мой последний звоночек». Как в воду глядел!
– Мне надо отойти. Ненадолго.
– Валяй! Все равно автобуса пока нет.
Я направился на кухню, там, в боковой каморке сидела Карина Тиграновна, волоокая восточная дама с арбузным бюстом и бедрами, как ростральные колонны. Когда директором ресторана назначили Петросяна, величественного армянина с манерами оперного певца, по понедельникам в ЦДЛ стали варить хаш, спасший не одного пьющего писателя от преждевременной гибели.
– Что тебе, Жорик? – Она оторвала темные маслянистые глаза от накладных.
– Карина Тиграновна, мне нужен сегодня хороший столик.
– Когда?
– К пяти.
– В пять у камина свободно. – Она посмотрела на меня так, точно одолжила сто рублей.
– О, спасибо!
Когда я вернулся, моих комсомольцев все еще не было, зато подтянулись соратники Кольского – ветхие дедушки и бабушки с приметами прежней комсомольской боевитости. Одни принесли гвоздики, другие – поздние астры с дачных клумб. Старики обнимались, стыдя друг друга за немощь, лысины и вставные челюсти, вспоминали умерших друзей. Наш местный фотограф Веня Пазин, суетясь, снимал ветеранов в разных ракурсах – для истории. Щелкнул он для забавы и меня, шепнув попутно:
– Зайди, из новенького кое-что покажу. Не пожалеешь!
– Забегу обязательно, – пообещал я.
Подошел Арий:
– Автобус приехал. Где комсомол? Кто гроб потащит?
– Арий Натанович, – спросил я, чтобы оттянуть время, – а случалось в вашей практике, когда совсем некому было выносить?
– Случалось.
– И что же вы делали?
– Выходил на улицу, ловил мужиков попроще, давал по трешке и – вперед!
– Да вон же они! – Я с облегчением кивнул на Колунова и Ревича.
Парни вошли в траурный зал развязной походкой людей, пьющих по утрам не только чай, кофе и рассол.
– Эти? – с подозрением уточнил Арий. – Новенькие, что ли?
– Да вы что! Они и в прошлый раз выносили.
– Забыл. Память испортилась. Помру, наверное, скоро.
– Типун вам на язык!
Я-то почти не сомневался, что ребята придут, ведь после похорон всегда справляли обильные поминки, а мои разгильдяи-комсомольцы, являясь сынами разных народов и побегами противоположных ветвей русской поэзии, совпадали в страстной любви к дармовой выпивке и закуске. Я незаметно показал опоздавшим мерзавцам кулак и шепнул Арию:
– Можно начинать.
– Рано, ждем начальство.
– ТТ?
– Вряд ли. Не по рангу.
Писателей в ЦДЛ хоронили по трем категориям. С рядовыми и заметными тружениками пера прощались в Малом зале. Как бы сейчас сказали – «экономкласс». С известными и крупными литераторами – в Дубовом, освобождая ресторан от столов и стульев. А гигантов и классиков выставляли в Большом зале на сцене. На такую панихиду могли даже члены Политбюро пожаловать, тогда ЦДЛ оцепляли и переводили на спецрежим. Раздолбаи нехотя подошли ко мне: Володя Колунов был смущен опозданием, зато жестоковыйный Яша Ревич обуян похмельной гордыней.
– Вы охренели? – гневным шепотом спросил я.
– Жор, прости, в зоопарк забежали – пивка дернуть, – объяснил Володя. – Трубы горели.
– Я же просил!
– Так мы же здесь.
– А что, там теперь пиво дают? – удивился я.
Каждый год, 22 апреля, наша комсомольская организация отрабатывала Ленинский коммунистический субботник в зоопарке, и спиртное мы всегда брали с собой: в ларьках на территории зверосада продавали только газировку и квас.
– Да, теперь дают, ларек открыли – за вольером с горными козлами, – усмехнулся Яша.
– Ревич, у тебя за год взносы не плачены! – сквитался я. – Когда погасишь, морда?
– Добавь: жидовская!
– Не добавлю.
– Полагаю, Георгий, здесь, перед лицом вечности, не время и не место обсуждать бухгалтерские мелочи! – скорбно возразил жмот. – Заплачу. Позже. В соответствующей обстановке.
– Ты чего борзеешь? На историческую родину собрался?
– Там слишком жарко, и я не люблю евреек…
Колунов жив-здоров по сей день, стихи давно забросил, редактирует рекламные буклеты завода холодильных установок, а вот Яша Ревич умер с похмелья еще в самом начале 1990-х, взносы так и не заплатив. Перед смертью он постоянно ходил в гипсе, ломая то ногу, то руку: алкоголь вымывает кальций, и кости становятся совсем хрупкими. Но русские девушки его все равно любили.
35. Останки века
Рыдает прощальная медь,
Несут на подушечках алых
Награды… Хочу умереть
Еще при живых идеалах!
А.
Наконец собралось человек пятнадцать – друзья, соратники, однополчане, собратья по творчеству – в основном остатки некогда могучего призыва ударников в литературу. Раньше считали: если человек отлично работает на производстве, то и писать будет хорошо. Оказалось, все не так просто. Перо не рашпиль. От фрезерного станка до письменного стола далековато. Мало кто из тех «призывников» выписался в приличного литератора, но зато они были первыми на собраниях, где прорабатывались коллеги, оступившиеся на творческом пути. Некоторые доросли до больших литературных начальников.
Пришел Шуваев, долго жал всем руки, обнимал с почтением: многие ветераны, как и усопший, имели значок «50 лет в партии». Наконец Владимир Иванович открыл траурный митинг:
– Ушел из жизни наш боевой товарищ Степан Герасимович Захаров-Кольский – коммунист, писатель, храбрый солдат, человек трудной судьбы, один из последних могикан первых пятилеток…
Я слушал, слушал, и мне стало казаться: все, что говорят о покойном, относится не к высохшему телу, лежащему в гробу, не к старику с кустистыми бровями над провалившимися глазницами, а сразу к нескольким титанам, колебавшим земной диск своими подвигами. Захаров-Кольский вышел из бедняцкой семьи Костромской губернии, учился в церковно-приходской школе. В 1919-м вступил в комсомол, был направлен в продотряд, потом в часть особого назначения, получил сабельный удар под Варшавой, попал в плен, бежал из польского концлагеря, подавлял Кронштадтский мятеж, вступил в ВКП(б), боролся с басмачами, демобилизовался после второго ранения и пошел учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин. После железнодорожного втуза его послали на Кольский полуостров – приводить в порядок старые пути и строить новую ветку на Ваенгу, но случилось жуткое крушение. Срок он отбывал там же, только уже с кайлом, а не с циркулем. За ударный труд и по вновь открывшимся обстоятельствам его освободили (попался настоящий вредитель) и возвратили на прежнюю должность, позже наградили орденом. Молодой специалист написал письмо в «Комсомольскую правду» про то, как бюрократы мешают развитию отрасли и разворовывают выручку «Желрыбы». Железнодорожникам cоветская власть дала тогда «колонизационные права», и деньги текли рекой. Злодеев, перечисленных в письме, арестовали. Совиздат заказал принципиальному рабкору книгу о железнодорожниках Севера. Захаров написал с помощью редактора местной многотиражки «Красный путь» роман и назвал его «Шпалы рабочей судьбы». Книга вышла под псевдонимом Степан Кольский (соавтора, скрытого троцкиста, к тому времени уже взяли). Вскоре появилась теплая рецензия на «Шпалы» в «Правде». Автора вызвали в Москву, спешно приняли в Союз советских писателей, билет ему лично вручал Федор Панферов, автор бессмертных «Брусков». Это и называлось – «призыв ударников в литературу».
На Север молодого писателя уже не отпустили, взяли на работу в Совиздат, после разгрома правотроцкистского подполья там возник острый кадровый дефицит. В июне 41-го Кольский ушел на фронт, воевал сначала политруком в стрелковом батальоне, потом инструктором Политуправления железнодорожных войск, печатался в армейских газетах. Был ранен под Белгородом, Победу встретил в Будапеште, где получил контузию. После войны вернулся в Совиздат, сочинил книгу «Дорогами красных богатырей», получившую высокую оценку Фадеева. Кольскому присудили Сталинскую премию второй степени. Он стал заместителем директора Совиздата, где после разоблачения космополитов и низкопоклонников почти не осталось сотрудников. Решения ХХ съезда и развенчание культа личности Степан Герасимович встретил холодно, написал статью «А если без черной краски?», которую не взяли ни в одну газету. Но правдолюб прочитал ее на закрытом партсобрании Совиздата, за что был подвергнут жесткой товарищеской критике и со строгим выговором сослан в ДОСААФ, где просидел до пенсии, воспитывая и закаляя подрастающее поколение. Подлечивая старые раны в санатории, он сошелся с молоденькой медсестрой и покинул семью, за что получил второй партийный выговор, но не строгий.
В старости Степан Герасимович часто и тяжко болел. Смерть принял как истинный коммунист, на переднем крае, борясь с головотяпством. За несколько дней до своего 80-летия, которое предполагали отметить в узком домашнем кругу, Кольский в приподнятом настроении гулял в окрестностях Переделкина и поругался с обходчиками, сурово упрекнув их в плохом состоянии шпал и насыпи. В ответ был грубо послан в неопределенном направлении. Взволнованный ветеран вернулся в Дом творчества, где проживал, готовясь к отъезду в Пицунду, пожаловался на сердце, вызвали скорую, но помощь пришла слишком поздно.
Я слушал прощальные речи, смотрел на скорбные останки, на ордена и понимал: вот он, жестокий и прекрасный двадцатый век, обернувшись мертвой плотью, лежит передо мной, весь уместившись в узком ящике, обитом оборчатой красной тканью.
Колунов пихнул меня локтем в бок.
– Что?
– Проснись! Тебе слово дали.
– Мне?
– Ну, Егор, смелее! – с напряженным дружелюбием призвал Шуваев. – Робкий что-то комсомол нынче пошел, не то что былое племя…
– Нет, не робкий, – очнулся я и сразу же врубился, поскольку выступал не на первых похоронах. – Не робкий, а благоговеющий перед подвигом отцов и дедов, в молчаливой благодарности склоняющий голову перед вкладом Степана Герасимовича в великое дело Победы над врагом и созидания светлого будущего…
По горестным рядам прошелестел ропот одобрения: мой находчивый и искренний пафос оценили. А Владимир Иванович глянул на меня с лукавой отеческой гордостью.
– Мир праху твоему, Степан Герасимович, война всему тому, что ты ненавидел, и долгие лета всему тому, что ты любил!
Под нарастающие звуки траурного марша, лившегося сверху, мы слаженно подхватили тяжелый гроб, сбитый из влажного теса, вынесли в распахнутые двери и закатили в квадратный приемник катафалка. Неструганые доски кололись сквозь материю, и я занозил палец. Пока ветхие соратники, подсаживая друг друга, заползали в автобус, я вернулся за плащом и портфелем, обнаружив, что черных покрывал на зеркалах уже нет, большой узорный циферблат напольных часов открыт, некролог убран, даже постамент успели унести, и только лесной запах хвои еще витал в воздухе. Шуваев издали погрозил мне пальцем, показав на часы, мол, не опаздывай! Я в ответ взмахнул руками, мол, прилечу, как птица, на крыльях ответственности.
В автобусе Арий посадил меня рядом с собой и, заметив, как я зубами пытаюсь извлечь занозу из пальца, покачал головой:
– Кошмар! Из горбыля сбивают, как ящики. А какие гробы в Америке! Фантастика!
– Вы были в Америке? – позавидовал я.
– Ну да, летал с делегацией переводчиков Уитмена. Зашел к коллегам. Не поверишь: гроб из полированного дуба, инкрустированный черным и розовым деревом, ручки позолоченные, а в крышке, напротив лица, окошечко! У нас таких никогда не будет…
– А статую Свободы видели?
– Да, зеленая, как залежавшаяся покойница…
Я вдруг понял: шоферы ритуальных автобусов знают какие-то тайные маршруты, к тому же прочие водители уступают им дорогу охотнее, чем скорой помощи, хотя, в сущности, зачем торопиться катафалку? На месте мы были через полчаса. Востряковское кладбище напоминало лабиринт, поросший пожелтевшими березками. С надгробных фотографий смотрели молодые, здоровые и даже веселые граждане. Наверное, все-таки правильней прикреплять к плитам и крестам снимки, сделанные в день смерти или похорон, а то кажется, будто в землю зарыли живых и бодрых людей. В одной из оград росла голубая кремлевская ель.
– Мужик работал в спецлесопитомнике, – объяснил Арий. – Как говорится, от безутешных коллег…
Возле свежевырытой ямы, на куче глины, подстелив брезент, сидели угрюмые могильщики, похожие на расконвоированных уголовников.
– Прощаемся! – скомандовал Арий.
Вова и Яша сняли крышку. Заостренный профиль Кольского словно бы оплыл, пока мы ехали до кладбища. Я подумал, что все видят это лицо в последний раз, скоро оно навсегда исчезнет и не повторится больше никогда, сколько бы миллиардов людей ни родилось на планете. Никогда. Вдовы, рыдая, с двух сторон припали к телу. Старшая воровато сунула в мертвые руки иконку. Младшая тщательно разгладила кустистые брови усопшего, словно это имело перед зарытием какой-то особый смысл. Тучный ветеран никак не мог наклониться, чтобы поцеловать Кольского: мешал огромный живот. Наконец толстяк тяжело подпрыгнул и клюнул покойного друга в лоб. Через десять минут работяги уже ровняли холмик. Бригадир лопатой перерубил стебли гвоздик, сложенных снопом под портретом.
– Воруют! – объяснил он и с надеждой глянул на меня.
Арий нехотя дал ему пятерку. Рыдающих вдов повели под руки. Я хотел заглянуть на могилу тестя, но грянул гром, в воздухе запахло железом, упали тяжелые капли, а потом обрушился сплошной ливень, и в автобус возвращались бегом. Я вымок и запачкал глиной новые ботинки.
– Разве это дождь? – усмехнулся Арий, смахивая воду с кожаного пиджака. – Вот когда хоронили Леонида Мартынова, была такая гроза, что гроб плавал в яме. Представляешь?
– «Вода благоволила литься…» – продекламировал я.
– Что?
– Это стихи.
– Чьи?
– Мартынова.
– Я думал, он прозаик.
Колунов поехал на поминки к старшей вдове в Лаврушинский переулок, а Ревич – к младшей в Безбожный, где «молодожен» Кольский получил квартиру в новом писательском доме. Арий с кладбища помчался к прозаику Анатолию Киму, икнувшему утром, узнав, что вопреки обещаниям его не выдвинули на Государственную премию. Наш Харон скончался через два года, сгорел на работе: презрев гипертонический криз, он встал с постели, чтобы организовать важные похороны классика-лауреата, в прошлом члена горкома. На панихиду ждали самого Гришина, нервничали, но тот прислал лишь помощника и венок. С поминок Ария увезли в больницу, откуда он уже не вышел. После его смерти писателей стали хоронить кое-как.
36. «Рифмы отдыхающего поля»
Побит рекорд. Волненья в Газе,
А третий мир разут-раздет.
Гляжу, воссев на унитазе,
В бесстыжие глаза газет.
А.
Я выскочил из катафалка на «Октябрьской» и, закрываясь от ливня портфелем, шмыгнул в метро, а вынырнул уже на Красной Пресне. Здесь дождя не было вовсе. Из-за стены зоопарка тянуло вольерными ароматами. Напротив редакции, возле могильника поруганных женщин стоял «пазик» Судмедэкспертизы. Два очкарика в серых халатах задумчиво склонились над желтым человеческим черепом, словно пара близоруких Гамлетов. На железные барьеры налегали зеваки, следя, как из траншеи копатели выбрасывают на расстеленный брезент коричневые кости разной величины – набралась уже целая куча.
Я спустился в подвал, сразу же налетел в коридоре на оттоманку и выругался. В редакции все было как обычно: из-за Толиной двери доносилось мерное тюканье с философическими паузами: он ваял голографический роман. Из машбюро слышался железный стрекот, будто там засела цикада размером с мотоцикл: Вера Павловна зарабатывала на жизнь чадам и домочадцам. В зале Синезубка и Макетсон, сидя каждый за своим столом, обменивались милыми колкостями:
– Борис Львович, вы знаете, что у вас один бакенбард гуще другого?
– Знаю. А вы, Машенька, знаете, что у женщин одна грудь всегда чувствительнее другой?
– Ах, вот вы какой! Откуда же вам это известно?!
– В «Здоровье» прочитал. А еще там написано…
Увидев меня, ответсек осекся и после паузы скорбно спросил:
– Похоронили?
– Да. А что с некрологом?
– Заказали в объединении. Хороший был человек. Подарил мне клейстокактус!
– Он еще у вас не зацвел? – полюбопытствовала мстительная Маша.
– Н-нет… Не знаю…
– А вы узнайте!
– Макеты с досылом отвезли? – спросил я.
– Конечно, Георгий Михайлович! – с обидой ответил Макетсон. – Уже и полосы сверстали, правда, с дырками.
– Давайте! А где Крыков? Когда он уберет эту чертову раскладушку?
– Убежал. У него опять какие-то дела с Эдиком.
– Появится – сразу ко мне!
Выходя в коридор, я услышал:
– Макетсон, купите у Крыкова оттоманку.
– Зачем, Машенька?
– Она мне нравится. Хочу быть одалиской…
Я зашел в кабинет. Чуткие мыши за плинтусами на время притихли. Разложив на столе свежие, непросохшие полосы, я осторожно, чтобы не замарать обшлага нового костюма, стал просматривать номер. На первой полосе все вроде бы нормально: шапка «Ближе к жизни, ближе к народу…». Большая фотография белозубого хлопкороба, утирающего со лба пот. Текст Тимура Зульфикаримова «Храните мир, земляне-земляки!». Исправив в «шапке» лукавое многоточие на честный восклицательный знак, я прочитал информацию в «Секретариате МО СП РСФСР» и заменил Толино дурацкое «днесь» на простое «недавно». Потом набрал домашний номер Бобы. Никто не снял трубку. Куда он, сволочь, запропастился? Вечно не найдешь его, когда позарез нужен!
Конечно, сегодняшний ужин с Летой – это лишь пролог, так сказать, скромная прелюдия. Склонить советскую девушку к постельному многоборью не так-то просто, действовать надо ласково, осторожно, поэтапно, чтобы не насторожить, не спугнуть, чтобы до самого проникновенного мига она верила, будто твой интерес к ее плоти – всего лишь боковой случайный побег большой, вечнозеленой и невинной любви. В общем, до взаимных содроганий мне еще шагать, как Седову до Северного полюса, и не факт, что дойду. С другой стороны, женщины, особенно творческие, непредсказуемы, вроде ленинградской погоды. Вдруг все случится, как в западном кино? «Мадемуазель, я проходил мимо бара и увидел в окне вас, грустную и одинокую… Бокал шампанского?» А утром: «Боже, я искал тебя всю жизнь!» Вдруг и с Летой выйдет так же? Актриса все-таки… И куда тогда податься с податливой дамой? У нас тут не растленный Запад с неоновыми отелями, гостеприимно распахивающими двери перед прохожими любовниками во всякое время суток. Нет, у нас такого никогда не будет. Значит, надо предупредить Бобу: пусть хоть пустые бутылки, сволочь, с объедками уберет и чистое белье постелет: все-таки восходящая звезда советского кино!
На второй полосе теснилась подборка стихов Эры Метелиной, довоенной советской львицы, превратившейся с годами в вертлявую старуху Шапокляк. Когда-то она съездила в свите Хрущева в Индию и, зная английский, переводила Никите Сергеевичу. В Дели Метелина допоздна читала ему свою поэму и ушла из президентского люкса под утро. На деликатный вопрос, как ему стихи, вождь загадочно ответил: «Горчица!» С тех пор на всякий случай поэтессу включали во всевозможные делегации, и она объехала полмира, привозя из каждого вояжа стихи, которые безропотно печатали:
Как рыбья кость, торчит громада Кельна,
Обочь кварталы красных фонарей.
Мне за продажных пролетарок больно,
А сердце бьет в набат: «Домой! Скорей!»
Следом под общей рубрикой «Поэзия и труд» шли два материала – «В ритме станков» и «Рифмы отдыхающего поля». Через сто лет над нами будут смеяться. И правильно сделают! Отчет о собрании прозаиков занимал, как и задумано, без малого две трети номера. Тягомотина редкая! Если не знать о древнем конфликте между почвенниками и космополитами, вообще ничего не поймешь. Но если знать… Вот Иван Овинов говорит о новой повести Марка Курчавкина, опубликованной в «Юности»: «Читая расхлябанный рассказец “Двое на подоконнике”, я понял, что дух широких ржаных полей не доносится в провизорскую конурку автора…» Курчавкин в долгу не остался: «В бесконечном романе “Подзол”, вышедшем в “Нашем современнике”, Овинов хочет втиснуть наш новый, устремленный к звездам мир в старую бочку из-под прокисшей капусты…» На всякий случай я убрал и то, и другое.
Куски, подготовленные разными сотрудниками, сильно отличались друг от друга. Маша переложила стенограмму округлыми, ничего почти не значащими фразами, напоминавшими запудренные прыщи на девичьем лице: «Оратор далее подробно остановился на задачах, которые стоят перед творческим объединением, призвав товарищей по перу глубже изучать жизнь народа». Халтурщик Боба попросту сократил отчет, оставив куски прямой речи: «А вот что я хочу вам сказать, други мои, – обратился к залу Тихон Супонин, – тонкое растет от толстого, а не наоборот! И зачем нашему народу книжки, где кудрей много, а головы мало?» Ему возразил Кирилл Шпинатов: «Кудри, коллега, растут из головы, если она, конечно, есть!» Однако Супонин за словом в карман не полез: «Не знаю, как у вас, петрушек, а у нас в народе бают: “Рожа корява, да макушка кудрява!” Я представил себе, как, остановив бег карандашей, постно переглянулись стенографистки, и вычеркнул весь абзац.
В куске, сварганенном Толей, отовсюду лезли раритеты: «отнюдь», «вдругорядь», «паче», «дотоле», «втуне», «зане»… Тоже мне, былинник речистый! Пришлось менять их на человеческие слова. Для некролога было оставлено место, а снимок покойного уже заверстан. С фотографии смотрел молодой красивый политрук с тремя «кубарями» в петлицах. А вот под заголовком «Наши юбиляры» зияла дыра. Непорядок! Самый первый выговор мне как редактору влепили за то, что забыли поздравить со 100-летием Гришу Красного. Когда-то он писал классовые агитки, видел на съезде комсомола Ленина и почти год ездил с Троцким по фронтам на бронепоезде, сочинял листовки, которые печатали тут же, в походной типографии и разбрасывали перед митингами на станциях. Про Ильича ветеран рассказывал постоянно – особенно часто пионерам, вспоминая добрый прищур вождя и его заботу о беспризорниках. А вот про Троцкого Гриша говорил редко, лишь когда, выпив рюмочку-другую, впадал в румяную старческую болтливость. Маяковский, знавшийся с Красным, относился к нему с иронией, и в пятом томе полного собрания сочинений можно найти такую дружескую эпиграмму:
Враг стрелял
не раз в него,
Жаль, что не попал.
Стихоплета
Гришку Красного
Сдать бы
в трибунал!
Трибунала Гриша, несмотря на опасные контакты с Троцким, избежал, числился литсотрудником по разным клубам, но ничего больше не сочинял, полностью отдавшись устным воспоминаниям. Таких застольных мемуаристов бродило по ЦДЛ в избытке, многие видели Ленина. Средний возраст ветеранов составлял лет 75–80. За время моей работы в газете с 40-летием не поздравляли никого, да и с «полтинником» не часто. Союз писателей брал пример с членов Политбюро, похожих на мумии, которые вынесли проветриться.
В кабинет зашел Макетсон. Красное лицо его, отороченное седыми бакенбардами, было скорбным и многозначительным.
– Вызывают? – догадался я.
– Не совсем… Вы меня можете куда-нибудь послать?
– Не понял.
– Не в том смысле. В местную командировку, например… На субботу и воскресенье.
– Зачем?
– Мне нужно съездить в Обираловку. Галя сошла с ума. Дети скучают. Я же не подводник, чтобы на полгода уходить в автономный поход. А Маша… ну, вы меня понимаете…
– А они вас не могут командировать? – Я кивнул в пространство.
– Неловко как-то. Серьезная организация. И Маша не поверит. Надо, чтобы вы при ней вслух меня послали.
– Хорошо. Я подумаю, куда вас послать. А где юбиляры? Почему дырка?
– Толя список перепроверяет.
Ответсек ушел. Следом запорхнула Маша:
– У меня в пять интервью с Парновым. Я пойду?
– А вчера?
– Он отменил. Зря прождала.
– Идите уж…
– А у него и в самом деле отчество – Иудович?
– Да. Но он любит, когда его зовут просто Еремей. И передайте, чтобы Борис Львович срочно ко мне заглянул. Немедленно!
– А что такое? – забеспокоилась Синезубка.
– Совсем забыл ему сказать. В выходные в Малеевке будет двухдневный семинар очеркистов-природоведов. Больше послать некого.
– А можно я поеду с ним?
– Ну, да, конечно, поезжайте – и уже в понедельник Шуваеву отзвонят, что сотрудники «Столичного писателя» ездят на задание парами. Мария Сергеевна, мне здесь, в редакции, этих разговоров достаточно. Вы поняли?
– Понятно. – Жабрина вышла, поникнув головой.
Через пять минут в дверь просунулась седая голова радостного ответсека:
– Спасибо, Георгий Михайлович, я ваш должник!
Вскоре в окне показались торопливые Машины сапожки. За ними виновато хромали «мокроступы» Макетсона. Зазвонил телефон, сначала я не хотел брать трубку. Вдруг – Лета? – «Ах, у нас сегодня внеочередная репетиция. Ах, прости!» Но то была Мария Ивановна:
– Заяц, хорошо, что ты на месте. Срочно скачи сюда! ТТ хочет с членами комиссии поговорить.
Пробегая рысцой по коридору, я заглянул к Торможенко:
– Толя! Проверь всех юбиляров по справочнику!
– Сейчас, – ответил он с презрением.
Когда через пять минут, одним махом одолев крутую лестницу на антресоли, я влетел в приемную, «черзвычайка» во главе с Шуваевым была уже там. В уголочке тихо пристроился Сазанович – недреманное око органов в СП СССР.
– Проходите, зайцы! – разрешила Мария Ивановна.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.