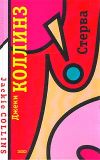Текст книги "Секс в СССР, или Веселая жизнь"
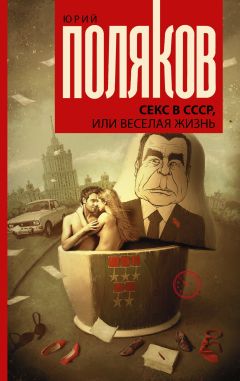
Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 44 страниц)
Сопротивлялась, но едва-едва,
Потом шепнула: надо искупаться ей…
Ты, женщина, как гордая Литва,
Добудешь ласку и под оккупацией.
А.
На самом деле она была всего лишь «майоршей», так как ее мужа, фронтовика-гвардейца, именно в этом звании выгнали в запас по вздорному хрущевскому сокращению армии, иначе он, как уверяла Ядвига Витольдовна, непременно дослужился бы до командира дивизии и стал генералом. Со своей будущей женой, почти не знавшей по-русски, лейтенант Рокотов познакомился, когда его взвод стоял на хуторе близ литовского города Алитуса. Там Ядвига жила у своего дяди, угрюмого пасечника. Ее отца еще до войны убили за сочувствие коммунистам, а мать-полька умерла давным-давно – родами. К Алитусу особые части Красной Армии были стянуты не случайно: пришло время покончить с «лесными братьями», засевшими в Кальнишском лесу и лютовавшими по всей Симнасской волости. Повстанцы никак не могли взять в толк, что Красная империя, по дурной слабости давшая литовцам независимость, теперь, в 1945-м, вернув былое могущество и победив вечный Рейх, последовательно и сурово возвращала в державное стойло беззаконно разбежавшиеся окраины.
Там же, в Кальнишском лесу прятался, скрываясь от мобилизации, и жених юной Ядвиги – Йонас, сын зажиточного соседа-хуторянина. Дело шло к свадьбе, оставалось только скопить приданое и прогнать «советских захватчиков». Но едва девушка увидела бравого лейтенанта Рокотова с орденом Красной Звезды и двумя медалями «За отвагу», гордое сердце хуторянки сдалось в плен почти без боя. «Аš tave myliu!» Это по-литовски означает: «Я тебя люблю!» Так сразу и не поймешь, но ведь написал же поэт: «Ты – моя» сказать лишь могут руки, что срывали черную чадру». В нашем случае, думаю, речь идет о расшитой девичьей рубахе-маршкинайке. И не среди душных хорасанских роз случилось нежное срывание, а скорее всего, на дядином сеновале.
В жестоком бою мало кто из «лесных братьев» уцелел, прорвавшись сквозь окружение. Погиб и Йонас. Накануне ликвидации верные люди донесли ему с хутора, что невеста спуталась с русским, и парень искал смерти, оставшись прикрывать отход уцелевших мятежников. Рокотов тоже был ранен во время облавы, и его увезли в госпиталь. Ядвига осталась без защиты, суровый дядя выгнал ее из дому, не стерпев позора, а земляки, презирая за шашни с русским, плевали вслед и шипели местные ругательства. Брошенка поплакала-поплакала и пешком побрела в Алитус к своему соблазнителю. Раненый лейтенант был еще слаб, на ногах не стоял, но сил предложить руку и сердце прекрасной литовке ему хватило. Свадьбу сыграли в госпитале, весело – со спиртом и патефоном. Потом мотались по гарнизонам, с запада на восток и с севера на юг. Постепенно Ядвига выучила русский язык почти как родной, остался только мягкий акцент, придающий балтийским женщинам влекущую загадочность.
Незадолго до внезапной отставки, вознаграждая за скитания по дальним «точкам», майора Рокотова перевели чуть ли не в столицу, в Голицыно, начальником штаба полка с перспективой стать командиром части. Осели в Одинцово, получив квартиру в хрущевке. Сын поступил в московский техникум. Дочь заканчивала десятилетку. И вдруг – сокращение… Майор, лишившись погонов, поначалу, как водится, запил, но потом под суровым взглядом жены одумался и пошел в обычную школу преподавателем начальной военной подготовки. Деньги, конечно, не те, что прежде, но если приплюсовать пенсию, жить можно. К тому же сама Ядвига, прежде не работавшая, как большинство офицерских жен, устроилась в Дом творчества дежурной по корпусу. К зрелой, но моложавой блондинке с таинственным акцентом озабоченные писатели подкатывали постоянно, но получали холодный отпор: она замужем за офицером чудовищно ревнивым и к тому же награжденным значком «Ворошиловский стрелок». Обычно этого хватало.
Военрук Рокотов проболел совсем недолго и умер в середине семидесятых: открылись старые раны. Овдовев, Ядвига Витольдовна своего отношения к мужским поползновениям не изменила, лишь гордо усмехалась в ответ и объясняла, что замуж больше не собирается, но если у товарища есть острое желание подышать с ней вместе свежим воздухом, он может в воскресенье сопроводить ее на кладбище – там надо подправить ограду на могиле покойного майора.
– Зачем же непременно замуж? – оторопев, спрашивал кто-нибудь из особо настойчивых соискателей.
– А как же иначе? Разве вы не читали Моральный кодекс строителя коммунизма? – удивлялась она так искренне, что ухажер тушевался и отступал.
Но вот что интересно: отметая любые ухаживания, Ядвига Витольдовна к романам, интрижкам и даже обычному блуду насельников вверенного ей старого корпуса относилась не просто снисходительно, а даже, я бы сказал, с каким-то лукавым сообщничеством. В те дни и ночи, когда дежурила «генеральша», переделкинские ловеласы чувствовали себя особенно вольно. А скольких мужей, забывшихся во внебрачном восторге, она спасла от внезапных налетов ревнивых жен! Кстати, «генеральшей» ее прозвали, конечно, за стать, степенность и некоторую надменность в обращении с постояльцами. Но кроме того, в праздничном застолье, выпив рюмку-другую, она, рассказав в очередной раз историю своей жизни, иногда добавляла:
– Эх, какой бы я была генеральшей! Но бодливой корове бог рогов не дает…
– Ядвига Витольдовна, – подсказывал кто-нибудь из писателей-воздыхателей, – правильнее говорить: «бог рог не дает»… У Даля именно так.
– Вы плохо знаете русский язык, мой милый человечек, – надменно отвечала она, мягко растягивая слова.
И соискатель, у которого шансов добиться взаимности было не больше, чем у братьев-фантастов Стругацких высадиться на Луне, тихо соглашался с «генеральшей».
– А вот и я! – вернул меня к реальности Пчелкин. – Сто двадцать пять на восемьдесят пять. Можно на орбиту. Идем, Жорж!
…На улице было темно, сыро и зябко. В черных лужах, как светящиеся головастики, дрожали звезды. Часть ночного неба освещалась ровным розовым заревом, всегда стоящим над бессонным Внуковским аэропортом. Лесополосу сотрясал железный озноб пригородных электричек. Жить не хотелось. Пить вино тоже. По сторонам неровной улицы высились черные дачные терема с желтыми окнами. Из-за заборов поднимались довоенные березы и черные ели, напоминавшие силуэтами китайские пагоды. Старая раскидистая яблоня навалилась кроной на щербатый штакетник. В темной листве, напоминая маломощные лампочки, светились последние плоды. Александр Изотович сорвал и протянул мне яблоко.
– Антоновка. Кисленькая. Помогает. Ужин-то проспал?
– Ругаться не будут? – спросил я, посмотрев на окна дачи.
– Кто? Молин? Пусть только попробует! – В голосе Пчелкина зазвучало былое железо. – Та еще сволочь, лизоблюд. Сталинскую премию получил за роман «Днепрострой зовет!». Полное говно. Читать невозможно: «Митрофан обвил телистую талию Марии заскорузлой пятерней…» Тьфу! К тому же посадил поэта Кормилова. Помнишь песню – «не спит застава под спокойным небом, спускается табун на водопой…»?
– Помню. За что посадил?
– Борька его книгу в «Известиях» разругал, а Молин донос в НКВД накатал, что он, Кормилов, у себя книжки Бухарина хранит и другим дает читать. Борьку взяли и упекли. Вернулся через пятнадцать лет, набил Молину морду – тем все и кончилось. А этому гаду «Трудовуху» к юбилею дали.
– Что?
– Орден Трудового Красного Знамени. – Александр Изотович взялся за сердце и добавил уже гораздо мягче: – Редкая сволочь!
Мы побрели дальше. В воздухе веяло мокрой осенней листвой, которая почему-то особенно пронзительно пахнет в темноте. За лесом простучала невидимая электричка. Два раза дорогу нам перебежали желтые кошачьи глаза.
– Дача драматурга Афигенова, – голосом усталого экскурсовода доложил Пчелкин. – Пьесы – полное говно. Конфликт хорошего с очень хорошим. Десять лет не платил за аренду, газ и электричество. Когда пришли из Литфонда выселять за долги, отстреливался спьяну из наградного «браунинга». Замяли. Есть у него покровители. Получил к юбилею «Веселых ребят». Где справедливость, Жорж, где она?
Мы шли по улице. Холодный ветер качал пагоды елей и срывал листья с берез, светившихся стволами в темноте, как белое женское тело сквозь черное белье. Интересно, у Леты есть черное белье? Наверное, есть: актриса все-таки. Из-за заборов грустно перебрехивались дачные псы, обсуждая меж собой цепную жизнь. Давясь ревом и мигая габаритными огнями, тяжело пошел на посадку во Внуково «Ил-86».
– Вот скажи мне, Жоржик, как такие сараи могут по воздуху летать? – задумчиво спросил Александр Изотович, кивнув на снижающуюся махину.
– Подъемная сила крыла.
– Подъемная сила крыла – это понятно. Летают-то они как?
– Не знаю…
– То-то и оно! Я только поездом езжу. Дача Дерибасова. Поэт, едрена Матрена. Песни – говно, в основном про пионеров. «Горны звучат, барабаны стучат, смело шагает отряд октябрят…»
– У октябрят нет горнов и барабанов, – вяло увился я.
– Я же говорю, мудак, и на всесоюзном конкурсе мудаков занял бы второе место. Знаешь, почему второе?
– Почему? – из вежливости спросил я, хотя прекрасно знал ответ.
– Потому что он мудак! – мрачно и торжественно сообщил Пчелкин. – Жена у него из опереточных. Привыкла ноги задирать, теперь на пенсию вышла и в окошке представления устраивает в чем мать родила…
– Эксгибиционистка, что ли?
– Слова ты какие интересные знаешь… Давай подождем – увидишь! – Он показал на большое, во весь фронтон, окно, задернутое плотной бархатной шторой цвета запекшейся крови.
– Может, на обратном пути?
– Как хочешь.
53. Бабушкины тайны
Поверьте, ваше обнажение
(Пей перед этим иль не пей)
Ведет фатально к умножению
Онтологических скорбей…
А.
Дошли до дачи Агранского, выделявшейся в общем строю домов новым тесовым забором с мощными железными воротами. Под луной, словно чешуя огромного карася, светилась металлическая черепица.
– Богато живет! – позавидовал я: на шести сотках, выделенных Союзом писателей возле Нового Иерусалима, мне удалось пока выстроить только хозблок для лопат и граблей.
– Еще бы! Соавтор Брежнева.
– Он?
– А ты думал – этот маразматик сам «Малую землю» накорябал? Другие постарались. Но Леня был широким мужиком – весь гонорар писарчукам отвалил. Гуляй, рванина!
– А что Агранский еще пишет?
– Да так, говно разное.
В прихожей нас возмущенным мявом встретил огромный сибирский кот с бандитской мордой. Пока Александр Изотович доставал из холодильника мясо, резал и кормил рычащего от жадности зверя, ласково приговаривая: «Жри, сволочь, жри!» – я огляделся.
Дача была обставлена с редкой советской роскошью. В гостиной царил румынский гарнитур «Мираж», потрясавший воображение золоченым цыганским шиком. Теща мечтала о таком же для нашей с Ниной квартиры, но стоил он почти две тысячи рублей, да еще надо было записаться в очередь и целый год два раза в неделю ходить на переклички к магазину – отмечаться. На полу лежал ненастоящий персидский ковер, а на стенах в кудрявых золотых рамах висели картины. Присмотревшись, я обнаружил на одном блеклом пейзажике аккуратную подпись «Саврасовъ». В антикварном салоне на Старом Арбате за такую картинку дали бы рублей восемьсот, а то и тысячу.
Но куда больше меня впечатлила импортная техника: мощная магнитола «Панасоник» с разнесенными серебристыми колонками и «двойка» той же фирмы – огромный куб телевизора, а на нем плоский видак. Тут же, на полке, словно книжные томики, стояли в ряд кассеты с надписями на корешках: «Калигула», «Безумный Макс», «Глубокая глотка», «Эммануэль», «Смерть в Венеции», «Ребенок Розмари», «Бал вампиров», «Апокалипсис»… Мое сердце, и без того омраченное похмельной скорбью, сжалось от классовой тоски.
Кот, нажравшись, посмотрел на нас с презрением и ушел в форточку. Пчелкин как будто того и ждал, он по-хозяйски открыл бар-торшер и вынул оттуда бутылку «Наполеона».
– По чуть-чуть – расширяет сосуды!
Себе он капнул в хрустальную рюмку, а мне налил до краев.
– Заметят!
– Брось, у него выпивки навалом. В «Березке» отоваривается, орденоносец хренов.
Коньяк был хорош. От сердца отлегло.
– Ну, иди – звони! – подтолкнул меня Пчелкин к кабинету, уставленному шкафами с дефицитными собраниями сочинений классиков.
Фиолетовый телефон с кнопками вместо обычного диска стоял на обширном письменном столе, совершенно чистом, если не считать обрамленной фотографии, на который бровастый покойный генсек обнимал лысого шибздика с потомственно грустными глазами, очевидно, Агранского: живьем я никогда его не видел и не читал. Осторожно надавив в нужной последовательности кнопки, я приготовился, как обычно, слушать длинные безнадежные гудки, но Лета тут же сняла трубку.
– Жорик! Как хорошо, что ты позвонил! Ну, прости, прости меня…
– За что? – оторопел я.
– Не издевайся! Сам знаешь, за что. Сейчас я все тебе объясню. Эта старая дура…
– Какая дура?
– Бабка моя. Короче, она, как обычно, поехала к Изольде в Абрамцево, они там нажрались наливки из черноплодки, стали молодость вспоминать, и эта зараза Изольда ни с того ни с сего призналась, что у нее с краскомом Усольцевым тоже было, она даже от него аборт делала. Моя – в обморок.
– Из-за чего?
– Из-за ревности. Бабку по скорой в Загорск. Я – туда. Она под капельницей. У койки на коленях Изольда рыдает. Помирились. Жор, ты прости, что у нас с тобой какой-то водевиль получается. Папа дома – мамы нет, мама дома – папы нет. Ты мою записку прочитал?
– Какую записку?
– Я тебе в двери оставила на всякий случай.
– Хм…
– Наверное, соседский пацан спер, редкий гаденыш. Еще я тебе домой звонила…
– Зачем?!
– Чтобы отбой дать. Трубку сняла не жена, а какая-то тетка. Но я же не дура, два раза на одни грабли наступать, сказала противным таким голосом, что беспокоят из райкома – заседание бюро сегодня отменяется.
– Бюро по средам.
– Да? Не важно. Интеллигентная, спокойная женщина. Выслушала, обещала все тебе передать. Значит, не передала?
– Нет.
– Мама твоя?
– Теща.
– Ой, блин. Наверное, догадалась…
– Не переживай! Я из дома ушел.
– Офигеть! Из-за меня?
– Получается, из-за тебя.
– Жуть. И где ты сейчас?
– В Переделкино, в Доме творчества.
– Да ты что?! У нас послезавтра халтура в Голицыно.
– А завтра что у вас?
– Завтра едем с Игорем в Загорск – бабку проведывать. Ему друг тачку одолжил.
– Я бы тоже мог, у нас редакционная машина…
– В другой раз. У тебя там есть телефон?
– Есть.
– Пишу.
Я продиктовал номер и предупредил, что дозвониться очень трудно, все время занято, надо постоянно набирать, тогда есть шанс вклиниться между писательскими разговорами.
– Прорвемся. Пока-пока! Целую крепко, ваша репка!
В кабинет зашел, хитро улыбаясь, Пчелкин.
– Поговорил? На улице подожди. Мне тоже секретный звоночек надо сделать.
Я допил коньяк, почувствовал доброе жжение в пищеводе, а чуть погодя – нежный удар в затылок. Жизнь возвращалась ко мне, как любящая женщина. Черное небо мерцало, словно расшитое блестками платье певицы областной филармонии. На крыльце сидел кот и, задрав голову, смотрел на звезды. Я спустился по ступенькам и пошел в сад, уже наполовину облетевший. За спиной падали листья, и казалось, за мной по пятам кто-то крадется. От мысли, что во вторник Лета приедет ко мне в Переделкино, душа затомилась надеждой. Из-за забора донеслись приближающиеся голоса, они показались знакомыми, и я осторожно глянул в заборную щель: напротив, под фонарем, остановились, гремя спичками, Ковригин и Шуваев. Сначала потянуло едким «Беломором» – это закурил партсек, а затем повеяло пряной роскошью «Мальборо» – это затянулся и выдохнул вождь деревенских прозаиков.
– Леша, ты идиот и совсем не понимаешь, что происходит?! – явно продолжая спор, упрекал Шуваев.
– И не хочу ничего понимать. Заели, сволочи! Нерусь проклятая. Я уеду!
– Куда? Кто тебя выпустит? Ты же не еврей…
– К черту! Сбегу. Попрошу политическое убежище! У меня командировка во Франкфурт, на книжную ярмарку.
– Ты мне зачем это говоришь?
– А что – донесешь?
– Обязан.
– Доноси!
– Дурак, кому ты там нужен?
– Нужен. Мне Нобелевку дадут.
– Кто?
– Дед Пихто!
– Леша, не чеши хер о колючую проволоку! Доиграешься.
– А что они мне сделают?
– Кислород перекроют!
– Я – Ковригин!
– Ты балда! Забыл, сколько таких Ковригиных они разжевали и выплюнули?
– Мной подавятся.
– Повинись, дурак!
– За что? Никогда!
– Тебя же из партии вышибут!
– Не вышибут. Меня народ любит.
– Снова-здорово… Ну, чего встал, пойдем!
– Погоди, погоди, Володя, крыша мне у этого борзописца понравилась. Вечная черепица! Небось по знакомству, гнида, достал. Мне бы такую – в Залепино…
– Наверное, какой-нибудь оборонный завод штампует.
– Узнаю и себе закажу.
– Как же, за такой в очереди лет десять прождешь.
– Ничего, я письмишко у Маркова подмахну и без очереди возьму! – засмеялся Ковригин.
– Ты же в эмиграцию собрался, Мальбрук хренов…
Фигуры скрылись, голоса отдалились и заглохли. Только в воздухе веяла странная смесь «Беломора» и «Мальборо». Из дома вышел Пчелкин, запер дверь, сунул ключ под жестяной отлив, и мы пошли в Дом творчества, а когда поравнялись с дачей песенника Дерибасова, Александр Изотович хихикнул:
– Ну вот – что я тебе говорил!
Шторы большого фронтонного окна были раздернуты, точно театральный занавес, и там, как на освещенной сцене, сидела в плетеном кресле морщинистая красотка в красном ажурном пеньюаре и черном парике, похожем на баранью шапку. По-балетному воздев худую ногу, она медленно совлекала с варикозной конечности кружевной алый чулок. Напудренное лицо старушки искажалось мечтательной улыбкой, на которую ушел, надо думать, целый тюбик помады.
– Лена Болеховская! – вздохнул Пчелкин. – Звезда Московской оперетты, вся страна с ума сходила, я ее фотографию под подушкой хранил. Бог ты мой!
– И когда же это было?
– После войны. Пошли отсюда! Старость, Жоржик, – это унижение…
54. В тылу врага
Я протрезвел, проспался и, тоскуя,
С небес спускаюсь в низость бытия.
Друзья, скажите, ну какого хрена
Навек в запое не остался я?
А.
Очнувшись утром, я пожалел, что проснулся. В стекло желтой веткой бодро стучал октябрьский день, но тело мое тяжело и подло ныло, в горле пересохло, и хотелось плакать от чувства безысходной вины, словно я вчера совершил нечто звероподобное. Жажда и подняла меня с кровати. Умываясь холодной ядовитой водой, я увидал в зеркале бледного уродца с морщинистыми мешками под глазами, язык был такой белый, словно всю ночь мне пришлось жевать мел. Тошнило. Справа, где у людей помещается печень, у меня упиралось в ребра что-то вроде гандбольного мяча. Выйдя в коридор, я услышал цокот пишущих машинок и возненавидел литературу как вид умственной деятельности. Увидав меня, Ефросинья Михайловна, сменившая поутру «генеральшу», только руками всплеснула:
– Ох, Егорушка, ну зачем же так…
В пустом пищеблоке я без аппетита позавтракал и обошел все столы, ища стаканы с нетронутым яблочным соком. Лида, сжалившись, принесла мне целый графин. На обратном пути возле гардероба я изучил расписание электричек в Москву: на 11.28 вполне можно успеть. Телефонный закуток, как ни странно, оказался свободен, я позвонил в редакцию. Ответил Боба:
– Ты куда пропал, экселенс?
– Выезжаю. А что такое?
– Тебя же тут все обыскались.
– Что случилось?
– Звонила Мария Ивановна. Тебя срочно вызывают в ЦК к Черняеву…
– Когда?
– Сегодня. Обещали перезвонить.
– Зачем? – спросил я, чувствуя, как холодеют пальцы ног.
– Черт их там знает… Велели быть наготове с партбилетом.
– Так я ж в Переделкино, а билет дома… Гарик вышел на работу?
– Нет его, нагорного козла. Опять ремонтируется.
– Я никак не успею. Мне отсюда часа два до Орехова.
– Возьми такси.
– Денег нет, – вздохнул я, вспомнив, как в жестокой борьбе великодуший вырвал у Шовхала почетное право купить водку у таксиста.
– Ладно! Друг спасет друга. Запоминай: я тебя встречаю у Киевского вокзала и везу в твое Кокосово. Успеем.
– Спасибо! – крикнул я и побежал в номер – собираться.
…Осенние дерева, нашумевшиеся за ночь, тоже выглядели усталыми и еле шевелили ветвями. Я шел по обочине узкого шоссе к станции, стараясь не думать о вызове в ЦК, но пытаясь вспомнить, что же мы все-таки решили с Капой и Зыбиным по поводу Ковригина. Слева показалось кладбище, сползавшее по косогору к дороге. Погост как погост. Склад останков. От мрачной загадочности, поразившей меня позавчера, не осталось и следа: поминальный мусор, облупившаяся серебрянка крестов, выцветшие пластмассовые розы старых венков, полустертые имена, даты и эпитафии, шумные воробьи, расклевывающие оставленную на плите горбушку. Боже, оказывается, все мы надрываем сердца крысиной суетой ради того, чтобы лечь потом артрозными костями в эту скудную глину, дрожащую от грохота автомобилей, и смотреть на мир из надгробного овала слепыми фотографическими глазами…
Электричка подошла по расписанию, выросла, лязгая, передо мной, точно кочующая зеленая стена. В тамбуре до тошноты пахло мочой и куревом, я прошел в полупустой вагон, сел и стал смотреть на поплывшие мимо безрадостные ландшафты. Какой же все-таки социализм неряшливый строй! Такое впечатление, что есть секретное постановление ЦК КПСС – строить вдоль железных дорог исключительно уродливые гаражи, сараи, бестолковые склады, устраивать свалки и помойки. На сером бетонном заборе красовалась огромная надпись: «Спартак – чемпион!». Вдали краны волокли по воздуху панели, складывая очередную башню, где новоселы будут мучиться счастьем перед кладбищенскою вечностью. По вагону прошли хорошо одетые погорельцы, жалобно прося на хлеб и зыркая памятливыми зенками.
На вокзальной площади меня встретил Боба. На нем были джинсы, кожаная куртка, клетчатая рубашка и замшевая кепка, как у кинорежиссера. Крыков стоял, облокотившись о крышу своего старого, битого «жигуля» и вращая на пальце ключи, как заправский бомбила. Он долгим взором знатока провожал торопливые ягодицы прохожих дам. Через несколько минут мы уже мчались по Садовому кольцу мимо серой смоленской высотки, уходящей уступами в небо. Изгнанный Тулуповой, Боба пару лет работал таксистом, знал все объезды, развороты, сквозные дворы и рулил легко, даже лихо – с шутками-прибаутками.
– Ну как дела? – спросил я.
– Лечимся. Эд нашел подпольного венеролога. Золотой дед. Еще Первую конную во главе с Буденным от сифилиса пользовал. Давно уже на пенсии, но консультирует в клинике старых большевиков.
– Злится на тебя?
– Папа? Злится.
– Надо было предохраняться. Столько заразы кругом! – заметил я, вспомнив индийские изделия, разрушившие мою семью.
– Мне теперь без надобности. Я Лисенка люблю.
– А Сонька?
– Это благотворительность. Знаешь, иногда проснусь, лежу и просто смотрю на Лисенка. Чудо! Словно рыженький ангел крылышки отстегнул и дремлет.
– Хорошо сказал. На стихи еще не потянуло?
– Потянуло.
– Прочитал бы?
– Запросто.
Спи, недотрога бесстыжая,
Это заслуженный сон.
Долго руно твое рыжее
Я добывал, как Ясон…
– Здорово! Я и не знал, что ты такие хорошие стихи пишешь. А еще?
– Больше нет. Не мои это стихи, экселенс, не мои.
– А чьи?
– Помнишь, какой-то чудик в редакцию целую пачку прислал?
– Помню.
– А что там у вас с Ковригиным?
– Понятия не имею.
– Ходят слухи, его уже закрыли.
– Ерунда. Я видел его вчера в Переделкино – прогуливался.
– В любом случае, недолго ему гулять осталось.
– Почему?
– Папа сказал: Андроп в бешенство пришел от его рассказиков и велел казнить. Слушай, а ты знаешь, что Макетсон к Синезубке от жены съехал?
– К тому все шло. Думаешь, зря?
– Да как тебе сказать… Девушка она шустрая, аккуратная, готовит хорошо. Месяц у меня жила. Только очень орет, когда кончает. Сначала это заводит, а потом на нервы действует. Даже графиня, глухая тетеря, в дверь стала стучать: «Робер, что с вами?» Лисенок – совсем другое дело!
Так, за разговорами, мы домчались до Орехово-Борисово. Когда я увидел очередь к «Белграду», нашу аптеку с крестом во весь фронтон, сломанную «Победу», пузатого теннисиста, бьющего мячом о дощатую стену, мое сердце сладко сжалось, словно я, измученный мореплаватель, после многих лет скитаний вернулся в родную гавань.
– Только быстро! – предупредил Боба, выходя из машины и осматриваясь. – Ну, ты забрался! Окружная где?
– За лесом. Воздух тут хороший.
– На Колыме воздух еще лучше. Пойду промнусь…
Я поднялся на наш 11-й этаж и, прежде чем вставить ключ в скважину, прислушался: в квартире могла засесть теща, а ругаться с ней не хотелось. Во-первых, она обычно прибегала к грубым наветам, во‐вторых, никогда не воспринимала чужие аргументы, а в‐третьих, если честно признаться, ее дочь при всех своих недостатках внебрачных презервативов в карманах не держит. Но за дверью было тихо; я осторожно, опасаясь засады, отпер замок и вошел: в квартире пахло свежими щами. Партбилет лежал там, где и должен, в круглой жестяной коробке из-под вафель «Лесная быль» вместе с другими документами. Из второго тома собрания сочинений Брюсова я достал заначку – две аметистовые четвертные, хотел сразу уйти, но, повинуясь мучительной ностальгии, прошелся по квартире, прощаясь с прежней жизнью. На плите стояла большая кастрюля щей, чуть теплая. Я поднял крышку: так и есть, со шкварками. Тещина работа. Рот наполнился слюной, но мысль налить себе полтарелочки я отогнал как безнравственную, только испробовал, зачерпнув половником: хороши!
В ванной на веревке висели постиранные черные трусики, их Нина надевала, когда у нее начинались месячные. Что ж, этот ее женский секрет останется навсегда со мной. На телевизоре появилась новая ажурная салфетка… Оттого, что без меня как ни в чем не бывало дома продолжается жизнь в ее рутинном многообразии, мое сердце сдавила обида, умноженная похмельной мнительностью. Я даже вообразил, как со временем здесь появится какой-нибудь мерзкий мужик, он будет мыться в моей ванне, сидеть за моим письменным столом и спать с моей женой, которая, кстати, никогда не кричит и не стонет, а только прерывисто вздыхает. Впрочем, может быть, это только со мной?.. А потом принесут из роддома пухлую упаковку с орущим младенцем… Мысль о том, что грядущий ребенок будет Нининым, но уже никак не моим, показалась дикой.
Перед выходом я на всякий случай позвонил в приемную: вдруг надо из Орехова мчаться прямо на Старую площадь.
– Заяц, слава богу, нашелся. Ты где?
– Дома. За партбилетом ездил.
– Что там у тебя случилось? Разводишься?
– Нет вроде.
– Ну, не знаю. Я утром позвонила, тебя спросила, а мне ответили: «Его здесь больше нет!» Да еще таким тоном…
– Теща, наверное. На нее иногда находит.
– Ладно тебе, я сама теща. Хорошо, что позвонил. Отменяется. Черняева самого куда-то вызвали. Живи! Но что-то будет, чувствую. Ты забеги к нам. ТТ хотел с тобой переговорить. Я брякну, как он вернется с совещания. Будешь в редакции?
– Ага! Жду… – Я положил трубку и заметил записку, торчащую из-под телефона:
Выбери день, чтобы подать на развод. Я отпрошусь с работы. Н.
«Да хоть завтра!» – мысленно фыркнул я, взял из шкафа смену белья, две пары носков, скатанных в комочки, и свежую сорочку. Сложил все это в портфель и вышел вон.
Крыков сидел в машине и напевал, выбивая пальцами на «торпеде»: «Барабан был плох. Барабанщик – бог!»
– У тебя что – запор? – спросил он. – Мне еще сегодня в три места надо.
– Редакция в твои планы входит?
– Ладно, экселенс, сам понимаешь: волка ноги кормят. Если у меня ремонт начнут делать, знаешь, сколько всего покупать придется.
– После планерки сразу отпущу.
Когда мы проезжали мимо огорода Клары Васильевны, я удивился, что в окне никого нет, и спросил Бобу:
– Ты видел наш кабачок?
– А у вас тут еще и кабачки растут? – хохотнул Крыков, прибавляя газу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.