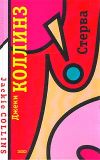Текст книги "Секс в СССР, или Веселая жизнь"
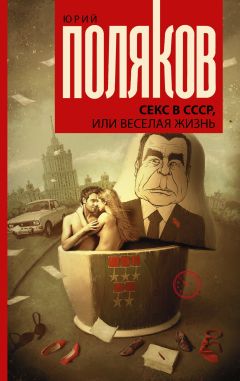
Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 44 страниц)
Изъели вас напраслиной,
Отказами изранили…
Теперь-то вы хоть счастливы
В своем родном Израиле?
А.
Над раскопом возле посольства поставили большую зеленую палатку, вроде той, в которой наш артиллерийский расчет жил во время полевых стрельб. Периметр, выгороженный металлическими барьерами, охранял милицейский наряд. Метрах в ста, на углу Дома звукозаписи, стояла кучка ротозеев. В редакции пахло хлоркой и какой-то еще антимышиной дрянью. В коридоре стояло двухметровое овальное зеркало в деревянной раме, украшенной резными декадентскими бересклетами.
– Это еще что такое?
– Извини, экселенс, через полчаса заберут.
Из каморки Веры Павловны несся непрерывный стрекот: наверстывала, прогульщица! В Толиной комнате царила тишина. В зале, как обычно, ворковали Маша и Макетсон. Ответсек подстригся и укоротил бакенбарды, отчего стала заметнее пожилая дряблость щек, но ему, видимо, казалось, он резко помолодел.
– Георгий Михайлович, вы берете заказ? – спросил ответсек, увидев меня.
– Нет, – грустно ответил я, понимая, что семьи у меня теперь нет и кормить некого.
– Ну как знаете. – Он скомкал оставшиеся талончики и хотел бросить в корзину под столом. – Верстка у вас в кабинете.
– Нет, постойте! Беру! – Я вспомнил о завтрашнем приезде Леты.
– Другое дело! – Борис Львович расправил один талончик и протянул мне, остальные же метнул в корзину.
– Кто сегодня свежая голова? – спросил я, глядя на Синезубку. – Вы?
– Я всегда готова! – бодро ответила Маша. – Но «свежая голова» сегодня – Торможенко.
– А кто забирает тираж? Очередь моя, но я не могу, у меня комиссия парткома. Борис Львович, вам придется!
– Понимаете… – опустил глаза Макетсон.
– Опять?!
– Увы, увы…
– Может, они вам там еще и зарплату положат?
– Георгий Михайлович, – мягко улыбнулся он. – Вы же серьезный человек и сами понимаете…
Я сердито вышел в коридор: Жека старательно натирал антикварную раму полиролью, вонявшую хуже хлорки.
– Убрать! – рявкнул я и толкнул дверь Торможенко.
Толя, развалившись в кресле, курил и болтал по телефону, положив по-американски ноги на стол. Перед ним лежал рулон верстки, даже не распечатанный. Он был так увлечен разговором, что не заметил, как я вошел.
– Нет, старичок, ты не понимаешь одной маленькой вещи. Достоевский писал жутко плохо, но зато полифонично. Толстой писал хорошо, добротно, но одномерно. А голографическая проза – это совсем другое. Это прорыв…
Я кашлянул. Толя с неудовольствием посмотрел на меня и раздраженно буркнул в рубку:
– Тут ко мне зашли. Перезвоню.
От выражения «ко мне зашли», но особенно от слова «тут» густая похмельная кровь бросилась в голову, я побагровел, показал дрожащим пальцем на рулон и, медленно подбирая забытые слова, произнес:
– Если пройдет хоть одна опечатка, я тебя выгоню к чертовой матери! – и вышел, не дожидаясь безнаказанной ухмылки неуязвимого бездельника.
В моем кабинете пахло прокисшим табаком и антимышиной отравой, белевшей вдоль плинтусов. Я открыл форточку, подышал свежим воздухом и закурил. В окне мелькали редкие и неторопливые ноги дневных прохожих. К вечеру они заспешат домой. Талон, бумажный квадратик с круглой печатью Московской писательской организации, я, чтобы не потерять, вложил в редакционное удостоверение и убрал в нагрудный карман.
Раз в неделю стараниями бытовой комиссии каждый писатель или сотрудник аппарата мог купить продовольственный заказ. Обычно: парную курицу, кусок варено-копченой колбасы или гроздь молочных сосисок, упаковку гречки или спагетти, банку шпротов или лосося, кусок сыра, пачку индийского чая… Еще что-то в том же роде. Нельзя сказать, что в московских магазинах ничего из перечисленных продуктов не водилось, но в одной торговой точке купить это все сразу было нереально: побегаешь за той же гречкой. А индийский чай к тому времени совсем исчез из продажи. Другое дело – азербайджанский или грузинский: обпейся! Но это в Москве, а другие города и веси, даже Ленинград, снабжались гораздо хуже. Друзьям и родственникам, наезжавшим из провинции, я дарил обычно пачку индийского чая, и они расцветали, как папуасы при виде елочной игрушки.
К Новому году, 7 Ноября, 8 Марта, Дню Победы в заказ добавляли банки красной икры, крабов, ветчины, палку сырокопченой колбасы, кусок красной рыбы. Еженедельные заказы завели в те годы на всех предприятиях. Объясняли это вполне разумно: когда москвич направляется с работы домой, полки магазинов опустошены толпами, ежедневно наводнявшими Москву в поисках дефицитов. Электрички, ходившие из Твери, Рязани, Калуги или Тулы, в народе звали «колбасными» из-за запаха в вагонах. Организации прикреплялись к разным магазинам, наша редакция получала заказы в 40-м гастрономе, что рядом с Лубянкой, там же отоваривались и чекисты. Иногда я встречал в очереди Палыча, и тот делал вид, будто не знает меня.
Развернув рулон, я просмотрел полосы, все вроде бы нормально, только в отчете о собрании прозаиков вылезла дырка. Надо будет разогнать текст. Зазвонил телефон.
– Алло, – послышался осторожный голос Ашукиной. – Егор, это вы?
– Это я.
– Как вы себя чувствуете?
– Почти хорошо.
– Вы помните, о чем мы договорились?
– Конечно! – соврал я.
– Владимир Иванович в курсе. Он поддерживает, но об этом никто не должен знать.
– Не волнуйтесь.
– Мы в вас верим.
– Я рад. В три встречаемся?
– Встречаемся, – неуверенно ответила Капа и повесила трубку.
Минут десять я сидел, мучительно соображая, о чем же мы договорились с Ашукиной и Зыбиным? Память сохранила яркое впечатление о дерзкой красоте замысла, но суть плана из головы совершенно выпала, и чем упорнее я старался вспомнить наш план, тем безнадежнее забывал. Наконец я решил обмануть измученный мозг, сказав себе: «Черт с ним!», и взялся за чтение свежих полос. Но снова зазвонил телефон.
– Алло?
– Георгий Михайлович?
– Да, я…
– Это Леонид Осипович, директор тридцать четвертого магазина. Я так понимаю, полки вам уже и не нужны?
– Нужны, очень нужны! Просто по работе запарка.
– Тогда можете забирать.
– Когда?
– Хоть сегодня. Отгружаем до девятнадцати тридцати.
– Спасибо! – безрадостно поблагодарил я.
– Не за что. Привет Борису Ефимовичу.
Не обманул Фрумкин! Но зачем мне теперь полки? Не в Переделкино же их везти… Как разведенному комнату мне дадут в лучшем случае через год. Великодушная советская власть регулярно выделяла новые квартиры, улучшая бытовые условия писателей, а жилплощадь, что освобождалась за выездом, уже не возвращалась государству, оставаясь за Союзом писателей, ее получали члены из очереди. Скажем, ютится поэт с чадами и домочадцами в «двушке» у Окружной дороги, как я. Вдруг прибавление в семье. Он идет в правление и подает прошение. Жилищная комиссия рассматривает и ставит его в очередь, он ждет, ругая социализм за плановую нерасторопность. Но тут лауреат Госпремии выслужил себе четырехкомнатную квартиру на Чистых прудах и освободил «трешку» в Измайлово. В нее-то и въезжает счастливый поэт, а его «двушку» занимает прозаик, бедовавший с женой в однокомнатной квартирке на первом этаже. Его же «однушка» достается переводчику, страдавшему в коммуналке. Разведенным писателям поначалу всегда выделяют комнату, даже если есть в наличии незанятые квартиры, в воспитательных целях: мол, не смог сохранить ячейку общества, оторвался в сексуальную самоволку, вот и страдай в коммуналке с подселенцами. Однако через год-два, если провинившийся создал новую семью или ярко проявил себя на литературном поприще, не забыв про общественную работу, его могли переселить в отдельную квартиру. Все зависело от начальства. О, сколько написано ненужных книг и совершено странных идейно-художественных поступков ради улучшения жилищных условий! Даже Булгаков накатал беспомощно-подхалимский «Батум», грезя о многокомнатном раздолье в ампирных сталинских дворцах.
«А может, пока сложить полки в редакции? Пригодятся потом. И перед Фрумкиным как-то неловко…»
С ним я познакомился на «базе» у Бобы, куда Боря иногда водил подружек. Как-то мы ругали качество советских товаров, и я пожаловался, что повесил дома отечественные книжные полки, а они сразу же прогнулись под тяжестью томов.
– Только чешские! – авторитетно заявил Фрумкин. – Эти на века!
– Дефицит, – вздохнул я.
– Помогу! – пообещал он.
Фрумкин был мне должен. Однажды, выпив достаточно, чтобы утратить скромность, он рассказал о своей беде. Как мужчина с левантийской кровью, Боря был похотлив, женился на Элле сразу после школы по страстной любви, совпавшей с советом мамы, и делал это в супружеской спальне каждую ночь, даже в неблагоприятные дни, а Элла, выйдя замуж невинной, как лабораторная мышь, искренне считала, что иной частоты в брачных отношениях не бывает. С годами, остыв к супруге, но сохранив к ней, матери двух его дочерей, заботливое уважение, Боря завел роман с дородной русской красавицей Ирмой Ватемаа, она в кокошнике на массовых празднествах подавала гостям хлеб-соль. Надрываясь, Фрумкин не решался снизить частоту семейных радостей, боясь разоблачения, а тут ему попалась в Народном контроле еще и Лада – миниатюрная секретарша с прической «гаврош». Элла что-то заподозрила, и Боря показательно удвоил брачные ласки, рискуя получить ранний инфаркт. Тут мне и пришлось его выручать.
Студентом-второкурсником я, как отличник, получил в институтском профкоме бесплатную путевку в Дом отдыха «Бестужево» под Можайском. Там, будучи нетрезв, я нахально задрался с медиками, заехавшими туда чуть ли не целым курсом, прихватив из Москвы несколько канистр спирта. Били они меня долго и подробно, а наутро раскаялись и стали лечить. Спиртом. Мы подружились. После третьего курса мои приятели разошлись по разным специализациям, и у меня со временем появились личные доктора почти во всех отраслях медицины. Я позвонил сексопатологу Валере Шустеру, обрисовал ситуацию, он хохотнул: «Обычная история. Веди ко мне обоих!» Не знаю, что уж он там наплел Элле, похоже, сослался на Авиценну, который считал, что природа отпускает мужчине на всю жизнь ограниченное количество семяизвержений, наподобие обоймы, какую выдают бойцу на учебных стрельбах. Ты можешь прицельно бить одиночными, а можешь сразу выпустить веером весь «рожок» и остаться без боеприпасов. Верную Эллу это известие потрясло, с тех пор единственное в квартал снисхождение мужа она воспринимала как щедрый дар судьбы.
А Фрумкин между тем расширил свой половой кругозор, включив в него лаборантку кафедры научного коммунизма и товароведа галантерейного магазина, в который как-то нагрянул с ревизией. Тут надо бы объясниться: Боря числился в каком-то унылом НИИ, но его настоящим призванием была организация народных гуляний, празднеств и факельных шествий. Кроме того, Фрумкин, неизвестно почему, числился общественным инспектором всемогущего Народного контроля. Он мог зайти в любой магазин, взвесить, допустим, килограмм мослов, в ценнике названных отчего-то говядиной 1-го сорта, а потом мягко удивиться явному преобладанию в закупке костных и соединительных тканей в ущерб мышечным. Его, конечно, посылали далеко-далеко, тогда он вяло доставал из нагрудного кармашка удостоверение «Народного контроля», и в магазине начиналась тихая паника, заканчивавшаяся извинениями и дарами, которые Боря, разумеется, гневно отвергал, а позже присылал за ними Эллу или тещу Генриетту Исидоровну.
Фрумкин-то и организовал мне письмо на бланке за подписью заместителя председателя Народного контроля: мол, известному писателю имярек для плодовитого творчества необходима дюжина импортных книжных полок. Я отвез письмо по назначению в мебельный магазин № 34 на окраине столицы – дальше начинались поля и коровники. Директор был на выезде, и мне пришлось долго ждать, наконец он появился – в замшевой куртке и модной водолазке-«лапше». От него пахло шашлыком, вином и одеколоном «Боггарт», продававшимся в «Березке».
– По какому вопросу? – холодно спросил директор, заметив меня.
– Чешские полки.
– Запишитесь в очередь и ходите на переклички, – привычно ответил босс, отпирая кабинет.
– У меня письмо.
– Что еще за письмо? Покажите!
Увидав бланк «Народного контроля», директор сразу подобрел, глянул на меня с нежным уважением и наложил положительную резолюцию.
– Как только придут, я вас лично извещу.
Известил… Я набрал номер Фрумкина и поблагодарил.
– Пустяки! – бодро ответил Боря. – Мы же друзья! – и рассказал про свою новую любовницу – солистку танцевального ансамбля «Рябинушка».
Умер он рано – в конце 1990-х в Израиле, куда уехал после распада СССР, а главное – после упразднения Народного контроля и факельных шествий, без чего его мятущейся душе было скучно в России. Наверное, Фрумкин не выдержал жаркого климата своей исторической родины. Возможно, слишком много соплеменников, которым он когда-то помогал добывать дефициты, хотели с ним благодарно выпить. Да и у женщин там, как понимаете, горячая и требовательная левантийская кровь. Это вам не щадящая нежность наших прохладных славянок и угро-финнок.
Я поймал себя на том, что, не вчитываясь, лишь скольжу глазами по полосам, выругался и сосредоточился. Но тут в кабинет вошел Макетсон, прикрыл дверь, внимательно осмотрелся и очень тихо, почти не разжимая губ, сказал:
– Георгий Михайлович, вам, как коммунисту, я могу это сказать.
– Что?
– Меня хотят внедрить в диссидентское подполье.
– Зачем?
– Нужно. Сегодня собеседование на самом верху. Через час. У Бобкова. Заодно узнаю, что они там решили с Ковригиным.
– Ну, хорошо, идите!
– Но вы понимаете, если кто-то об этом узнает…
– Могли бы и не предупреждать.
Едва он вышел, позвонила Мария Ивановна:
– Заяц, скачи к нам. ТТ тебя ждет. Бегом!
В коридоре, возле зеркала, топтались Фагин, Крыков и лысый пузатый нацмен с золотыми перстнями на толстых волосатых пальцах.
– Триста сорок, батоно Автандил! – не уступал Эдик.
– Триста, больше не дам, – упирался покупатель.
– Что?! Я лучше себе оставлю, – возмущался Крыков.
– Уважаемый, – ласково объяснял Фагин, – это ар-деко! Только свистни – уйдет моментально.
– Свисти сколько хочешь, дорогой, но триста двадцать… – качал потной лысиной покупатель.
– Беру за триста пятьдесят, – бросил я, пробегая мимо, – и закрывайте к чертовой матери вашу лавочку!
56. Несчастная Зина
Судьба с жестокостью садистки
Ее тиранит с детских дней.
И у подруг всегда сосиски
В тарелке толще и длинней.
А.
Я взбежал по скрипучей лестнице на антресоли, влетел в приемную, которую называли еще предбанником, и, получив разрешающий кивок Марии Ивановны, взялся за ручку высокой двери. Томившиеся в ожидании просители люто посмотрели на меня, а поэт Курилло, рыжий бугай с огромным синяком под глазом, пробурчал:
– Эй, шустрый, тут очередь, между прочим!
– Заткнись! – рявкнула Мария Ивановна. – Его сам вызвал. А ты еще раз вякнешь – вообще к шефу не пущу!
– Уж и пошутить нельзя… – Курилло в примирительной улыбке показал выбитый передний зуб.
Я вошел в кабинет. Теодор Тимофеевич сидел за большим столом и читал нашу верстку, почти елозя толстенными очками по полосам. Некоторое время он делал вид, будто не замечает меня. Немудрено с такими-то диоптриями! Я стоял на ковре, почтительно переминаясь с ноги на ногу и разглядывая запорошенный перхотью пробор первого секретаря. Старинные напольные часы качали саженным маятником. За окном воробьи делили корку хлеба. По железному скату крыши к склочным птичкам полз пегий котяра, похожий на десантника в маскировочном халате. Вдруг ТТ, не отрываясь от газеты, предложил:
– Присаживайтесь, Георгий Михайлович! В ногах правды нет.
«Но правды нет и выше…» – подумал я, опускаясь на стул.
Некоторое время я рассматривал трещины на полировке стола, думая о Лете и Нине одновременно. Вот если бы в СССР вышло постановление ЦК КПСС, разрешающее полигамию! Одну жену ты можешь взять сам, без всякого согласования, а на вторую, третью и так далее разрешение дают партком, профком и комсомольская организация в зависимости от успехов на рабочем месте. Вот стимул-то! Все мужики зайдутся в трудовом энтузиазме. Производительность в стране подскочит в несколько раз, и Советский Союз наконец-то обгонит Штаты, как новенькая «девятка» – инвалидную коляску. За окном раздался коллективный писк ужаса: это кот-десантник прыгнул, но лишь спугнул воробьев, добыв себе исклеванную горбушку. Жри, сволочь!
– А-а, Георгий Михайлович! – ТТ оторвался от полос и с радостным удивлением посмотрел на меня. – Оч-чень хорошо, что зашли! Давно хотел поговорить по душам. Ну, как поживаете?
– Спасибо, хорошо.
– Как там наш комсомол – боевит?
– Боевит.
– Как похоронили Клинского?
– Нормально. Дождь пошел.
– Хорошая примета. Вдовы не передрались?
– Нет. Смирные.
– Уже легче. Как там ваша повесть? «Дембель», кажется?
– «Дембель». Цензура не пускает.
– Ай-ай-ай, перестраховщики! Боятся живого слова. Ну, ничего, ничего – похлопочем, похлопочем. А новенькое что-то пишете?
– Пытаюсь, Теодор Тимофеевич…
– Пытайтесь, талант надо тренировать. Я на днях вам характеристику для поездки в Италию подписал.
– Спасибо!
– Не подведите! И поосторожней там с граппой. Коварный напиток!
– Не подведу.
– А позвал-то я вас, Георгий Михайлович, сами знаете зачем.
– В номере что-то не так? – я кивнул на полосы.
– Нет, с номером все в порядке. Уберите только эту дурацкую перепалку Супонина и Шпинатова.
– Уже убрал, Теодор Тимофеевич. У вас старая верстка.
– Ах, вот даже как! Чуете момент, у вас хорошие перспективы, мой друг! – Он откинул со лба волосы. – Кстати, помнится, в прошлом году вы подавали заявление на улучшение жилья?
– Да, но комиссия отклонила, сказали, у меня и так хорошие условия…
– Ах, какие они у нас строгие! Вы, кажется, развелись?
– Нет, и не сбираюсь, – зачем-то соврал я.
– Нуте-с, напомните мне… Знаете, две тысячи писателей в одной голове уместить трудновато.
– Двухкомнатная квартира в Орехове-Борисове.
– А детишек сколько?
– Один, но будет и второй.
– Собираетесь?
– Уже ждем, Теодор Тимофеевич… – снова соврал я.
– Вот и славно! Русских людей должно быть много. Вы меня понимаете?
– Теща еще с нами живет, – прилгнул я, удивляясь собственной наглости.
– Ну, а это вообще недопустимо! – со знанием дела кивнул ТТ. – А мы тут как раз писательский дом закладываем.
– Где?
– В Филевской пойме. Место фантастическое! Окна выходят на Москву-реку, хоть с балкона спиннинг забрасывай! Пишите заявление на «трешку». Поддержим, а тещу отселим.
– Спасибо, Теодор Тимофеевич!
– Но уж и вы нам, Георгий Михайлович, помогите! Поднимать руку на классика, особенно вам, молодому писателю, не совсем с руки, простите за тавтологию. Это ясно как день. Но партийная дисциплина есть дисциплина. Надеюсь на вашу зрелость. Вы в армии служили?
– Служил.
– В каких войсках, если не секрет?
– В артиллерии, заряжающим с грунта, – ответил я, вспоминая самоходку «Акация» и тяжеленный снаряд, наградивший меня пожизненной грыжей.
– С грунта? Оч-ень хорошо! – с особым придыханием произнес он. – Писатель должен быть ближе к земле. Значит, что такое боевой приказ, знаете?
– Знаю.
– Считайте, приказ вы получили! Решение вашей комиссии должно быть радикальным – исключить.
– А если партком не поддержит?
– Не волнуйтесь, вопрос проработан с каждым членом.
– А если он… Ковригин, ну… признает ошибки…
– При чем тут – признает или не признает? Егор, разрешите мне, как старшему товарищу, назвать вас так? Мне, Егор, что-то не очень нравится это ваше настроение… Откуда такая боязливость?
Дверь с грохотом распахнулась, и в кабинет вступила монументальная женщина в сером учительском костюме, оживленном синей в горошек косынкой, завязанной на груди. Лицо вошедшей дамы пылало от гнева.
– Теодор! – произнесла она клокочущим контральто.
– Аня, я же тебя просил… – захныкал ТТ, сморщившись, как от уксуса.
– Теодор, какое сегодня число?
– Аня, мы же договаривались, не на работе…
– Теодор, да будет тебе известно: я давно уже не кормлю наших детей грудью… – она ткнула пальцем в свой избыточный бюст. – Я покупаю им еду в магазине и на рынке. За деньги!
– Анна, стыдись: при посторонних…
– Ничего, пусть все знают, как инженеры человеческих душ относятся к своим брошенным детям! Ты должен стыдиться! Ты!
Ненужный свидетель семейного скандала, я прыснул из кабинета. Все знали, что, еще работая учителем в Вологде, ТТ женился на молоденькой практикантке пединститута, принесшей ему троих детей, но столичные соблазны, а точнее, страстная привязанность к милой секретарше, сломала брак, казавшийся постороннему взгляду идеальным. Ох уж эти разлучницы-секретарши!
– Анна, прошу тебя!
– Где алименты, подлец?! – неслось мне вслед.
М-да, иные бывшие жены выглядят так, что сама мысль о детородной близости с ними даже в далеком прошлом кажется противоестественной. Неужели и у нас с Ниной будет так же? Зачем, зачем я соврал?! Надо было сказать, что развожусь, и сразу просить комнату…
– Анна, побойся Бога! Тебе бухгалтерия ежемесячно перечисляет алименты. Копейка в копейку.
– Не держи меня за дуру, Теодор! Где алименты с твоих публикаций? С книги про Горького я не получила ни рубля! А детей, между прочим, надо кормить, обувать и одевать! Я напишу в ЦК!
– Аня, никуда не надо писать! Я тебе все отдам, прямо сейчас…
В приемной народу прибавилось, и все с интересом прислушивались к скандалу, глухо доносившемуся из-за двойной двери.
– Не дерутся еще? – одними губами спросила Мария Ивановна.
– Нет.
– И на том спасибо.
Тяжело дыша после подъема на антресоли, в предбанник вошел Палаткин. Трудно было поверить, что этот невысокий, но величавый муж с благородной сединой лечится по ускоренной методике от триппера, подхваченного в групповухе со штукатурщицами.
– У себя? – спросил он хмуро, поправляя большие дымчатые очки в роговой оправе.
– У себя, – ответила Мария Ивановна.
– Тут, между прочим, очередь! – снова встрял поэт Курилло.
– Ну, Мотька, доигрался, к шефу точно не пущу! – рыкнула на него Мария Ивановна и ласково повернулась к Палаткину. – У себя, где ж еще? Анька там опять скандалит. Подождешь?
– Нет. Не могу. Мне на процедуру.
– Болеешь?
– Немного.
– Слушай, заяц, тебя тут из какой-то стройконторы разыскивали…
– С чего это?
– Ты им какое-то письмо послал.
– Ничего я не посылал.
– Ну, не знаю… Если снова будут спрашивать, дать твой домашний?
– Дай.
Я спустился по крутой лестнице в холл и, проходя мимо деревянного Пришвина, позавидовал писателю-пантеисту: сидит тут на пеньке – никаких тебе интриг. В Пестром зале заканчивался комплексный обед, за столами нашлось только два свободных места – справа и слева от Зины Карягиной, но делать нечего: в Переделкино я плохо позавтракал и оголодал. Через минуту Алик плюхнул передо мной салат оливье.
– Хорошая, у тебя, Гош, порция. Горошка много! – с обидой молвила Зинаида: говорила она медленно и тяжело.
– А у тебя разве был без горошка?
– Три горошины. Специально сосчитала. Сволочи!
Фигурой Карягина напоминала магазинную гирю, отлитую в человеческий рост, а лицом походила, соответственно, на чугунную маску, какие иногда украшают ограду набережной. Из-под набрякших век виднелись маленькие обиженные глазки. Зина служила ответственным секретарем комиссии по работе с молодыми литераторами, но редкий начинающий автор решался заглянуть к ней в кабинет, заваленный рукописями неведомых талантов. Правда, одно время к ней повадился отважный молодой поэт из города Электроугли, и в положенный срок Карягина произвела на свет мальчика, такого увесистого, что смотреть сбежался весь роддом. Но смелый дебютант, ставший отцом, к тому времени выпустил в «Современнике» первую книгу, которую протаранила ему Зина, и бесследно исчез не только из Москвы, но даже из Электроуглей, после чего она возненавидела человечество окончательно.
Не успел я проглотить салат – передо мной уже стояла тарелка с перловым супом.
– Смотри-ка, с мясом? – ахнула Карягина. – А у меня одни кости были!
– Зин, тебе кажется…
– Ничего не кажется. На компот посмотри!
Я посмотрел: в самом деле, мой стакан был по края набит аппетитно разбухшими сухофруктами – черносливом, изюмом и урюком, а ей досталась желтая взвесь с ошметками неопределенного цвета.
– Сейчас принесут второе, и ты все поймешь. – Она уперлась в меня безысходным взором.
Появился игривый Алик, неся на подносе дюжину порций жареной курицы с картофельным пюре. Не глядя, как крупье на карты, официант разметал тарелки по столам. Заподозрить его в злом умысле именно против Зины было невозможно, однако хотите верьте – хотите нет: передо мной на нежном картофельном возвышении лежало, напоминая пухлый бумеранг, сочное крыло, такое большое, словно отняли его у зрелой индейки. Карягиной же досталась жалкая пупырчатая загогулина, похожая скорее на фрагмент несовершеннолетней перепелки.
– Понял? – с фатальным смирением спросила Зина.
– Возьми мою порцию! – оторопев от этой мрачной несправедливости, предложил я.
– Не надо, судьбу не обманешь… – Она всхлипнула, улыбнувшись. – Знаешь, Гош, мама меня ведь рожать не хотела, аборт собиралась сделать, просто не дошла до врача. Э-э-эх-р-р-р… – Несчастная женщина одним движением уместила крылышко во рту и страшно хрустнула зубами.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.