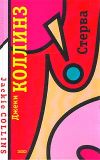Текст книги "Секс в СССР, или Веселая жизнь"
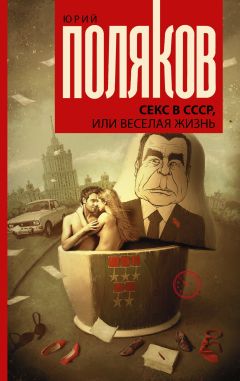
Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 44 страниц)
Я еще по жизни поскитаюсь
И, покуда веки не смежил,
Поищу любовь – заморский кактус
С аленьким соцветием меж игл.
А.
Я вышел из парткома и очутился в ресторане, наполненном питательными запахами, звоном посуды и шумом веселого насыщения. Такое соседство всегда казалось мне странным, но сегодня, после всего случившегося, поразило в самое сердце своей нелепостью, будто в жестоком бою с криком «ура» я выскочил из окопа и вдруг увидел за бруствером накрытый стол, за которым пируют погибшие и живые, враги и соратники. Бред!
У камина раскрасневшийся Ковригин щедро угощал членов парткома: скатерть под закусками не проглядывалась. Меж блюд, тарелок и розеток, как сталинские высотки, торчали бутылки шампанского, водки, коньяка, Кроме Зыбина, Ашукиной, Застрехина и Борозды, голосовавших против исключения, за столом оказался воздержавшийся Дусин и, что уж совсем удивительно, Флагелянский. Притершись слева к лидеру деревенской прозы, он как раз произносил в честь классика льстивый тост. Судьба Леонарда Семеновича сложилась затейливо. Через два года он вместе с Анатолием Приставкиным организует «Апрель» – объединение писателей в поддержку перестройки, сожжет перед телекамерами свой партбилет и одним из первых перебежит от Горбачева к Ельцину, дорастет до поста заместителя министра культуры и физкультуры. Во время прогулки на авианосной президентской яхте Флагелянский обратится к размякшему от водки гаранту с проектом легализации однополых браков, за что будет сброшен с борта в холодные балтийские воды. Выплыв, он уйдет в отставку и сделается послом доброй воли. Умрет Флагелянский в 2014 году, объевшись устриц на банкете по случаю годовщины фонда «Слезинка ребенка. Плюс», созданного актрисой Челитой Хомутовой.
Но вернемся в октябрь 1983-го. Зыбин, сидевший по правую руку от классика, увидев меня в проеме, наклонился к хозяину застолья и что-то сказал, кивнув в мою сторону, видимо, предложил позвать к столу. Однако Ковригин лишь презрительно отмахнулся. На пальце классика снова блистал царский перстень.
Я повернулся, чтобы уйти, но услышал за спиной знакомый голос:
– Посторонись!
Алик, накренившись, тащил в партком полный поднос.
– Ну что, Жоржик, не берут тебя в компанию? Брезгуют! – Он остановился перевести дух. – Чем-то ты Ковригину насолил.
– Ты-то откуда знаешь?
– Я же стол обслуживаю, слышал, как он тебя сопляком обзывал… Ладно, не циклись! Он мужик путаный. Иногда червонец бросит не глядя, а в другой раз счет мусолит, за каждую копейку расспрашивает. Выпить хочешь?
– Хочу.
– Погоди…
Держа тяжелый поднос на растопыренной, побелевшей от напряжения пятерне, официант свободной рукой налил мне из пузатого графина, предназначенного начальству, полную рюмку.
– Быстренько!
– Заметят.
– Не заметят. Лимончик возьми!
– Спасибо!
Я выпил. Он забрал у меня рюмку, стряхнул ее, как градусник, поставил на поднос и скрылся в парткоме, привычно открыв дверь ногой. Доброго Алика через пять лет зарежет бритвой ревнивый любовник.
Когда я шел к выходу, Этерия Максовна оторвалась от Агаты Кристи, которую читала в оригинале, и, проводив меня задумчивым взглядом, бросила вдогонку:
– Ты смелый мальчик, мне в молодости такие нравились.
Гардеробщик Зимин услужливо помог мне одеться, терпеливо ждал, пока я попаду в рукава, а принимая мелочь, шепнул:
– Дай бог здоровья и чтобы обошлось…
Когда и как закончил свои дни гардеробщик Зимин, даже не знаю. Да и кто интересуется судьбами гардеробщиков?
Я вышел на улицу Воровского. Серый ветер обрывал с деревьев последние листья: золотой праздник осени кончился, повеяло ранними холодами, но от коньяка в желудке появилось примирительное тепло, растекавшееся по всему телу. Когда я проходил мимо распахнутых ворот Большого союза, меня окликнул Семеркин. Со стопкой скоросшивателей он из Иностранной комиссии, расположенной в левом флигеле, бежал в секретариат.
– Завтра документы в МИД отправляем! – бодро доложил Миша. – Готовься! Ох, и попьете винища! Итальянские коммунисты принимают как надо. Не то что французы – жмоты запредельные!
– А что брать с собой?
– Ну, как обычно: водочку, икорку, балычок… Шпроты они уважают, а от значков с Лениным просто тащатся!
– Тебе-то чего привезти?
– Притащишь бутылочку граппы – не обижусь.
У особняка Берии не было ни катка, ни траншеи, виднелась лишь свежая заплата из темного асфальта. Постовой одиноко топтался возле своей будки и явно скучал после наплыва зевак. Я его знал; иногда он заглядывал к нам в туалет: облегчаться на суверенной территории иностранного государства ему не полагалось.
– Ну и что это было? – спросил я.
– Сказали, остатки приходского кладбища семнадцатого века, – вяло отозвался он.
– Врут, наверное?
– Ясен хрен – врут. Разве у нас правду скажут? – раздраженно ответил человек в погонах.
В редакционных дверях я столкнулся с целеустремленной, как боеголовка, Верой Павловной.
– В высотке венгерских кур дают! – обдав меня «Красной Москвой», сообщила она. – Вам брать?
– Не надо.
Сегодня у нас был негласный выходной, «библиотечный день», малая передышка перед работой над свежим номером, начинавшейся в среду. Во вторник редакция вымирала, на месте сидела обычно только машинистка, чтобы спокойно печатать свою халтуру, да иногда, увиливая от семейной поденщины, приползал Торможенко – ваять голографический роман. В коридоре я наткнулся на стул из красного дерева с кривыми, как у бульдога, ножками и облысевшей синей обивкой. Гарика в редакции не оказалось, зато дверь в залу была приоткрыта и слышались голоса. За длинным столом пили чай с тортом «Сюрприз» трое: Макетсон, Синезубка и дебелая блондинка с черной бархатной шапочкой на макушке. Увидав меня, ответственный секретарь вскочил:
– Ах, Георгий Михайлович, как славно, что вы пришли! Давно хотел вас познакомить. Это моя жена… Галя… – Он запнулся, испуганно глянув на Жабрину, и поправился: – Галина Вениаминовна…
– Очень приятно! – Я пожал потную дрожащую ладонь брошенки.
– Борис Львович мне много о вас рассказывал… – пролепетала она.
– Мне тоже о вас… – Тут я понял: никакой шапочки на голове нет, просто бедная женщина от отчаяния перестала подкрашивать корни отрастающих черных волос.
– Галина Вениаминовна привезла мою коллекцию кактусов! – ликуя, сообщил Макетсон. – Правда, еще не всю. Сейчас я, наконец, вам ее покажу!
Он метнулся к подоконнику и принес картонную обувную коробку, в ней теснились целлулоидные стаканчики, из которых торчало десятка полтора маленьких кактусов, напоминающих новорожденных ежей с зелеными иглами. Один из «ежиков» расцвел, выпростав из колючек фиолетовые лепестки, похожие на скомканный фантик от мятного леденца.
– Это мой гримуар! – гордо предъявил кактусовод.
– Изумительно! Он, вероятно, очень редко цветет? – восхитился я, стараясь скрыть недоумение от того, что знаменитая коллекция уместилась в обувной коробке.
– Очень редко! – важно подтвердил он.
– Как и настоящая любовь, – с тонкой улыбкой добавила Синезубка.
– Настоящая? – вздрогнула всем телом Галя.
– Георгий Михайлович, можно вас на секундочку? – пробормотал ответсек. – Я сейчас вернусь, – предупредил он, с опаской глянув на женщин.
– Не беспокойся, Боря, мы просто поговорим, – поняв его взгляд, успокоила пока еще жена.
– Да, Боречка, только поговорим!
Мы пошли в мой кабинет, причем Макетсон несколько раз с тревогой оглянулся на мирно беседующих дам.
– Вот ваш заказ, – он показал на пакет, стоявший возле стола. – Дали еще дополнительно кусок «российского» сыра. С вас – рубль двадцать пять.
– Спасибо!
– На здоровье!
– А они не подерутся? – тихо спросил я, отсчитывая деньги.
– Ну, что вы, Егор, интеллигентнейшие женщины! Запомните: достойные люди умеют расставаться достойно.
– Надеюсь, – вздохнул я с завистью.
Макетсон проверил, плотно ли закрыта дверь, потом подошел к окну и, проводив взглядом несколько пар торопливых ног, спросил:
– Наверное, успокаивает?
– Что?
– Ноги.
– Смотря какие. Слушаю вас.
– Егор, вы совершили мужественный, хотя и опрометчивый поступок. Ковригин того не стоит. Но вам виднее. Последствия, сами понимаете, могут быть печальными…
– Посмотрим. Это все, что вы хотели мне сказать?
– Нет, не все. У меня для вас две новости: одна хорошая, вторая так себе. С какой начать?
– С хорошей.
– Я был утром там, – он показал пальцем вверх.
– Ну и как там?
– Нормально. К оперативным действиям меня привлекать больше не будут, в командировки посылать тоже. Подполье отменяется: мое имя слишком хорошо известно в диссидентских кругах. Теперь я смогу сосредоточиться на работе в редакции. Вы довольны? – Ответсек глянул на меня с обидой.
– Счастлив. А вторая новость?
– Не знаю, как и сказать…
– Можете меня не щадить!
– Ну, в общем… мне дали понять, что я теперь нужней здесь, в газете.
– Вот и хорошо!
– Мне показалось, после вашего поступка они хотят знать про вас больше! – Макетсон посмотрел на меня со значением. – Вы поняли?
– А когда вам дали понять – утром? – невинно уточнил я.
– Только что, по телефону, – невозмутимо ответил Борис Львович. – Утром меня спрашивали, можно ли вам доверять. Не волнуйтесь, я дал вам лучшие референции.
– Тронут!
– Егор, вы зря иронизируете! Мы должны беречь друг друга и не подставлять. Понимаете, о чем я говорю?
Но тут из залы послышался жуткий визг и донеслись тяжелые глухие удары. Мы бросились на шум и застали страшную картину: Галина Вениаминовна оказалась вовсе не дебелой, а весьма могучей дамой. Мощной десницей она вцепилась в волосы разлучницы и мерно била ее головой о стол, грохотавший, точно большой цирковой барабан: бум, бум, бум. В шуйце оскорбленная супруга сжимала, занеся для последнего удара, железный строкомер. Я, метнувшись, перехватил колющий предмет, а Макетсон с трудом оторвал от прически любовницы скрюченные пальцы жены, кажется, вместе с волосами.
– Галя, Галя, что ты делаешь?!
– Я убью эту суку! Я покажу тебе «Бореньку», лярва немытая! – И она, извернувшись, тектоническим ударом ноги опрокинула стул вместе с Машей, воющей от боли и ужаса.
– Идите, Егор, идите! – взмолился пунцовый муж-любовник. – Идите, я сам со всем разберусь!
– Уверены?
– Да, да… Идите, прошу вас! – и он захлопнул за мной дверь.
В коридоре на стуле развалился Гарик.
– Дерутся? – спросил он.
– Дерутся.
– Значит, любят, клянусь солнцем матери!
72. О пользе измены
Рай. Осень. Трое: он, она и гад.
Адам давно не вожделеет Еву.
И Ева тоже… Моногамный ад!
Есть только Змий, чтобы сходить налево.
А.
– Егор-джан, – ласково спросил шофер, когда мы свернули с Можайского шоссе к Переделкино, – я тебе завтра не нужен?
– Ты мне нужен всегда! А что случилось?
– Заявление пойдем подавать.
– Куда?
– В Грибоедова.
– Ого! Там же всегда очередь. Мы с женой три месяца ждали.
– У ханер-папы все схвачено. Можно хоть завтра. Через две недели распишемся.
– А чего ж не завтра?
– Надо сначала в Степанакерт полететь, маму с сестрами привезти. Дел много: золото просили купить, подарки для всех, платье-шматье, фата-гата, таросики-маросики.
– Что?
– Подарки подружкам. У нас, клянусь, по-другому нельзя. Люди засмеют.
– А гулять где будете?
– Первый день в «Метрополе», второй день в «Арарате». Ханер-папа хотел в «Славянском базаре», но я сказал: только в «Арарате». Сам плачу, клянусь солнцем отца!
– Богатый, что ли?
– У родни займу. Потом отдам.
– С зарплаты?
– Придумаю что-нибудь.
– А что твоя будущая теща – пилить еще не начала?
– Вай, цав танем! Да ты что, Егор-джан! Она мне как мать! Все время кормит.
– Как будет теща по-армянски?
– Зоканч.
– Вот и заканчивай, Гарик, врать! Хороших тещ не бывает.
Мы проехали Самаринские пруды и свернули на горку, к магазину. Отстояв небольшую очередь, я купил бутылку «Фетяски» и имбирную настойку, на тот случай, если сухое вино девушку не проймет, а также взял полкило шоколадных трюфелей. На улице меня ждала печальная картина: наш «москвич» без правого переднего колеса, скособочившись, стоял на домкрате. Невезучий во всем, кроме любви, Гарик поймал в покрышку гвоздь, а запаска, конечно, оказалась дырявой. Громко ругаясь по-армянски, он голосовал на обочине, буквально кидаясь под проезжающие автомобили и умоляя подбросить до Солнцева, где в шиномонтаже работал земляк, латавший ему проколы без очереди. Наконец остановился «козлик» с надписью «Мособлэнерго» и забрал бедолагу с двумя пробитыми колесами: между профессиональными водителями в ту пору еще существовало некое бараночное братство и для попавшего в беду сподвижника задаром могли сделать то, что лоху-автолюбителю или пешеходу, опаздывающему в аэропорт, стоило бы кучу денег.
– Егор-джан! – крикнул Гарик, уезжая. – Постереги домкрат! Сейчас вернусь, обещаю…
Я обошел «москвич», подергал двери: мой нагорный мечтатель даже не запер машину, которая, как толстяк на тросточку, грузно навалилась на хлипкий домкрат с крутящейся ручкой. Любой подлец мог походя выбить опору, и автомобиль рухнул бы на асфальт – тогда вызывай «Техпомощь» и вставай на серьезный ремонт. Я глянул на часы: почти шесть. Гарик в лучшем случае вернется через час. Ждать я не мог. Половой императив легко победил заботу о сохранности социалистического имущества. Я дал рубль переделкинскому алкоголику Паше, спившемуся сыну лауреата Сталинской премии. Он брел с удочкой от Самаринских прудов и поклялся ждать возвращения водителя, никого близко не подпуская к редакционному «москвичу». Паше можно было доверять: он часто сшибал у меня мелочь на пиво. Подхватив портфель с бутылками и пакет с заказом, я пошел в Дом творчества пешком.
Перед входом в старый корпус сидели, любуясь алым, бордовым закатом, Краскин и Золотуев.
– Это правда? – строго спросил меня Влад.
– Правда, – скромно ответил я.
– Надо отметить!
– Не могу.
– Заболел?
– Нет вроде.
– Завязал?
– С чего ты взял?
– Значит, женщина! – поиграл кустистыми бровями Краскин. – Зря ты Розку продинамил. Это же не баба, а нейтронная бомба!
– Только по любви, – вздохнул я.
– А мне ты даже не предлагал! – обиделся на альпиниста Золотуев.
– Она пьяных не любит.
– Значит, не проставишься? – вздохнул Влад, рентгеновским взором проницая мой портфель.
– Сегодня нет.
– Ты не гуманист.
– Он буржуазный индивидуалист, – уточнил Лева.
В холле, как обычно, выстроилась очередь к будке, за мутным стеклом угадывалось знакомое лицо в черной маске. Омиров давал сеанс телефонного обольщения, а насельники тихо бесились. Мое явление вызвало оживление, писатели смотрели на меня кто с уважением, кто с удивлением, кто с неприязнью. Иные перешептывались, видимо, недоумевая, почему я еще на свободе. Быстро же тайны закрытого парткома достигли лесов Подмосковья! Я было направился к лестнице, когда меня окликнула «генеральша», поманила пальцем и шепнула с видом заговорщицы:
– Юргенс, вам девушка звонила, спрашивала, в каком вы номере живете.
– Гаврилова? – с жаром воскликнул я.
– Тише! Она не представилась.
– Голос у нее какой?
Глупей мечтательного мужского вожделения, наверное, только наша вера в светлое будущее.
– Обыкновенный. Может, и Гаврилова. Но точно – не ваша жена, – тонко улыбнулась Ядвига Витольдовна.
– Почему вы так решили?
– У жен голоса обиженные. Когда ваша Гаврилова должна приехать?
– Скоро.
– Не беспокойтесь, я покажу ей, куда идти.
Благодушное, даже благожелательное отношение к дамам, навещающим писателей, – одна из давних традиций Переделкино. Литератор уединяется в Доме творчества не только для создания нового полнокровного произведения, но за тем, чтобы расправить крылья чувственности, слежавшиеся в семейной неволе. Без требовательного клекота либидо ничего путного сочинить нельзя. Вообразите, скольких шедевров лишилась бы мировая лирика, если, скажем, Байрон, Бодлер, Есенин, Блок или Рубцов были бы образцовыми мужьями! Конечно, к писателям в Дом творчества наезжали порой и законные жены, но, во‐первых, это считалось дурным тоном, а во‐вторых, часто заканчивалось грандиозными скандалами. Тут уж дежурные были начеку, стараясь всеми силами задержать внезапную супругу в холле, угощая чаем, выпечкой, свежими поселковыми сплетнями, пока предупрежденный писатель устранял улики сладкого одиночества. Впрочем, попадались и верные мужья, чаще всего горькие пьяницы, но и этим аскетам требовалось время – выгрести из номера пустые бутылки.
Один случай вошел в анналы. К прозаику Разлогову, автору знаменитой производственной трилогии «Плотина», «Турбина», «Свет пришел в тайгу», прикатила давняя зазноба, сама только-только сплавившая мужа в военный санаторий. Любовники пообедали и прилегли отдохнуть, как вдруг накатила жена, известная своей буйной ревностью. Сама почуяла или добрые люди донесли, теперь уже не докопаешься. Думаю, все-таки настучали. Творческая зависть – страшная вещь! Фурия влетела в холл, как раскаленное шипящее ядро влетает в осажденную крепость. Но опытная «генеральша» спокойно доложила, мол, супруг ваш откушал и пошел подышать хвойными запахами леса.
– Я подожду его в номере, – согласилась жена.
Но Ядвига Витольдовна с улыбкой объяснила, что, уходя на прогулку, прозаик по оплошности забыл сдать ключ на гвоздик.
– Дайте дубликат!
– Потерял предыдущий постоялец.
– Тогда я буду ждать здесь. Не проскочит!
– Ну, конечно, садитесь! – «Генеральша» вежливо предложила стул. – Отдышитесь. Простите, а вы всегда такая бледная?
– Что за чушь! У меня прекрасный цвет лица.
– Голубушка, на вас страшно смотреть! Сердце не жмет?
– Жмет… – прислушавшись к организму, ответила ревнивица.
– Виски давит?
– Давит…
– Я вызову медсестру.
Кликнули Нюсю, которая, сообразив, в чем дело, сразу повела даму в медкабинет, расчехлила тонометр, померила и ахнула: с таким давлением сразу в реанимацию везут.
– Ложитесь под капельницу! Немедленно!
– А долго капать?
– Час.
Минут через сорок, завершив начатое, выпроводив любовницу и наведя порядок в номере, Разлогов пришел в медкабинет, сел у кушетки и взял жену за беспомощную руку, в минуты ярости способную прицельно метать сковородки и утюги. – Милая, разве можно так нервничать из-за ерунды? Ты стала слишком мнительной…
– Прости, милый…
– Надо доверять друг другу.
– Конечно, я понимаю…
Писатель гладил жесткий «перманент» суровой супруги и наблюдал, как из перевернутого пузырька по тонкой трубочке в пронзенную вену бежит раствор безобидных витаминов. А спасительницам прозаик выставил потом ящик шампанского и заказал в «Праге» торт размером с колесо «запорожца». Гулял персонал всего Дома творчества.
Я посмотрел на часы, ойкнул и метнулся в номер, не прибранный, как у всякого женатого мужчины, временно отбившегося от семьи. Холостяки в этом смысле гораздо аккуратнее. Попрятав и рассовав по углам разбросанные вещи, я вставил в каретку машинки чистый лист, сбоку определил Пруста и заложенный карандашом «Новый мир». Пусть Лета видит: здесь живет и работает настоящий писатель. Затем я застелил столик старой «Литературной газетой», вынул из пакета и порезал перочинным ножом сыр, докторскую колбасу, рыбу, высыпал на тарелку «трюфели», с трудом вскрыл перочинным ножичком банку печени трески и выставил на середину «Имбирную» с «Фетяской». Осмотрел натюрморт и залюбовался.
Спустившись в столовую, я выпил кефир и съел салат, взял положенные мне сосиски с тушеной капустой (вдруг шефы не покормили бедную Лету!), набрал хлеба и под завистливые взгляды писателей, сообразивших, что я жду даму, понес все это в номер. Добрая Лида на ходу бросила мне в тарелку нетронутую котлету. Вернувшись к себе, я красиво разложил на газете общепитовские приборы – выщербленные ножи и гнутые вилки, также принесенные из столовой. Еще раз осмотрел сервировку. Печень трески в круглой банке с отогнутой крышкой напоминала затейливый атолл в океане прованского масла. Чего-то не хватает… Ах, да – цветов! Выскочив на улицу, я в прозрачных сумерках собрал на газоне букет красных кленовых листьев и, прикрыв полой пиджака, чтобы не будить иронию собратьев, пронес в номер.
Войдя с воздуха, я ощутил в комнате пошлый запах колбасы и тушеной капусты, оскорбляющий чистые эротические помыслы, распахнул форточку и приоткрыл дверь – для освежающего сквозняка. Затем я вставил букет в фаянсовую вазочку, без дела стоявшую на шкафу, сел в кресло и закрыл глаза, вспоминая знаменитый кадр из фильма «Мелодия судьбы», где юная Лета по прихоти режиссера купается обнаженной в парном утреннем озере. И хотя ее долгая девичья нагота лишь угадывалась в рваном тумане, весь Советский Союз, не избалованный обнаженностями, ахнул и затрепетал, подростки бегали на картину по нескольку раз ради этой пятисекундной сцены. Я открыл глаза, вскочил, разыскал в чемодане располовиненную упаковку «Гималаев», стоившую мне семейной жизни, и сунул под подушку: актрисы внезапны в порывах, а настоящий мужчина в ответе за тех, кого приучил.
Теперь все!
Я вернулся в кресло и стал ждать. Кленовый букет трепетал на сквозняке, как большое багровое сердце.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.