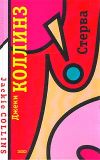Текст книги "Секс в СССР, или Веселая жизнь"
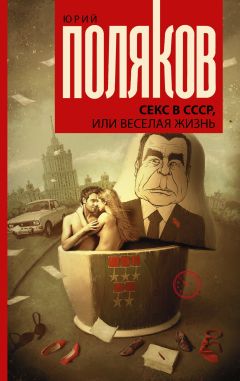
Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 44 страниц)
– Салют-суперфосфат! Ты куда исчез?
– В Переделкино уехал.
– С чего это вдруг? Ты же никуда не собирался.
– Мы поссорились. Наверное, будем разводиться.
– Из-за чего?
– Нинка нашла у меня в кармане гондоны.
– Какое гондоны?
– Мы с тобой в аптеке купили. Помнишь?
– Ну, и сказал бы: для дома для семьи.
– Они же располовиненные.
– Объяснил бы: теперь поштучно продают.
– Она же не дура.
– Это верно. Плохи дела.
– А тут еще Лета звонила, нарвалась сначала на Нинку, потом на тещу.
– Еще хреновей! Влип ты, Жорыч. Что делать будешь?
– Пока в Переделкино отсиживаюсь, а там посмотрим. Слушай, я тебе говорил, что мои полки пришли?
– Вроде говорил.
– Будь другом, сходи ко мне – замерь стену в кабинете. Надо понять, сколько штук брать.
– Бери, сколько дадут! Что останется, я возьму. Сестре тоже полки нужны.
– Я так и хотел, но ты все равно сходи, заодно посмотри, как там обстановка. Хоккей?
– Хоккей! А как там Ковригин?
– Завтра все решится.
– Слушай, весь наш «ящик» просит: не гнобите мужика! Правильно он пишет.
– От меня ничего уже не зависит. Ты-то как там с Нюркой? Сказал ей про сберкнижку?
– Нет. Знаешь, я подумал, может, оно и к лучшему. Так бы деньги давно расфуфрились, а теперь уже приличная сумма набежала. Бабы бережливые. Что есть, то есть. Ну, давай, Жорыч, держись! Меня к начальству зовут.
Зеркала в коридоре уже не было. Зато в зале я застал интересную картину: из-под стола вылез багровый от натуги Макетсон, он расправил в пальцах скомканный продовольственный талон и со значением протянул водителю:
– Бери, Гарик, и помни, кто и как к тебе относится!
Заметив меня, ответсек смутился, а Синезубка нервно хихикнула.
60. Трагедия ошибок
Из мира прилизанных монстров
Сбегаем нетрезвой походкой
На необитаемый остров,
Тепло омываемый водкой.
А.
Гарик вырулил на Садовое кольцо, и мы поехали в издательство. Дорогой я думал обо всем сразу: о чешских полках, о Лете, о Нине, об Аленке, о Юхине, на которого подло повесил пьяного Золотуева. Впрочем, я обошелся с Женькой точно так же, как поступил со мной в свое время Шлионский. Дело было так. После работы я забежал в ЦДЛ, чтобы купить вареных раков. Они появлялись в буфете поздней осенью, а потом исчезали из продажи на год. Выпив на ходу рюмку, я заспешил домой. Но в холле наткнулся на Вовку, который с трудом удерживал на ногах кренившегося Золотуева. Влад надрался после заседания партбюро, это было незадолго до его свержения, и черные тучи опалы уже теснились над ним. Вовка обрадовался и попросил меня пять минут подержать падучее тело, пока он сбегает на дорожку вниз. Я был тогда доверчив, как домашний кролик, не верящий в мясное рагу, и согласился. После получасового ожидания со спящим Владом в обнимку я наконец понял: меня подставили.
– Ты кто? – очнувшись, спросил Золотуев.
– Егор.
– Какой еще Егор?
– Полуяков.
– О, Жора, как все смердит! Домой…
– Поехали.
– Пальто!
– Разумеется.
Я подтащил его к гардеробу. Влад, будучи общественником, постоянно посещавшим ЦДЛ, раздевался без номерка. Для таких, как он, сбоку, на стене, имелась специальная вешалка. Золотуев обвел сизым взглядом тесно сбившиеся ряды верхней одежды и ткнул пальцем:
– Там…
Козловский скорбно проследил направление неухоженного ногтя, с трудом извлек из спрессованного строя затребованное пальто и помог пьяному поэту найти рукава.
– Шарфик и шапочку не забудьте! – Подхалим сдул невидимую пылинку с искрящегося меха.
– Угу. – Влад нахлобучил головной убор, наехавший ему на брови.
Я тогда еще подумал: возглавив партбюро, Золотуев стал одеваться гораздо лучше прежнего, во всяком случае, такого пальто, явно империалистического производства, раньше у него не наблюдалось, не говоря о новой ондатровой шапке. Влад махнул мне рукой, мол, расплатись. Я дал двадцать копеек.
– Покорно благодарю-с! – по-старорежимному поклонился Козловский и бросил монету в жестяную коробочку из-под леденцов.
«Странно, – думал я, влача Влада к выходу, – на вид гардеробщику лет шестьдесят пять. При царе, значит, не жил. До пенсии, по его же словам, работал по театральному ведомству. Откуда же это “покорно благодарю-с!”? Видимо, насмотрелся фильмов про “дореволюцию”».
Редакционная машина в тот день на линию снова не вышла, Гарик ремонтировался, и мы, вывалившись на улицу, двинулись к стоянке такси – на угол улицы Герцена и площади Восстания. Со стороны я, наверное, напоминал молодого бойца, выносящего с поля боя раненого офицера. Влад, кстати, закончил иняз и служил несколько лет военным переводчиком за границей, кажется, в Афганистане или Индии. Вытерпев небольшую очередь, состоявшую в основном из нетрезвых писателей, которых подруги везли домой, чтобы сдать на руки женам, мы уселись в такси.
– Куда? – спросил водитель строгим голосом, точно пассажиры постоянно звали его в пампасы или костромские леса, где сгинул Сусанин с польскими интервентами.
– В Останкино, – объявил я, зная примерно, где живет Золотуев.
Шеф щелчком повернул вентиль «таксометра», и денежки потекли.
Когда Останкинский шпиль, видный из самых отдаленных районов столицы, превратился в необъятный бетонный комель, я растолкал Влада и уточнил:
– Какая у тебя улица?
– Дубовая.
– Дом?
– Двадцать четыре.
– Квартира?
– Двенадцать. А зачем тебе это?
– Я должен сдать тебя жене под расписку.
– Не примет.
– Почему?
– Ривка знает про Лариску.
– И что делать?
– Домой.
– Я тебя привез.
– К тебе домой.
– Так куда едем-то? – зловеще спросил таксист и предупредил: – Облюете салон – пожалеете!
Мы уже проезжали мимо основания башни, похожего вблизи на античный цирк с арками.
– Ладно, давайте в Орехово-Борисово, – решился я.
– Нет. Я из этой дыры потом порожняком не поеду.
– Сколько?
– Два счетчика.
– Договорились.
Мы развернулись и через час были возле моего дома. Я растолкал Золотуева:
– Влад, у тебя деньги есть? Мне не хватает…
– Я пустой.
– Ну, будем расплачиваться или как? – ласково поинтересовался таксист, шаря под сиденьем монтировку.
– Я сейчас поднимусь за деньгами.
– Тогда он останется здесь. И без шуток!
Нина с Аленой гостили у тещи, но на кухне под хлебницей всегда лежали рублей двадцать на всякий случай. На них-то и был мой расчет. Поднимаясь в лифте, я вспотел от страшной мысли: вдруг жена потратила деньги? Недавно писательскую общественность потряс дикий случай: таксист зверски избил детского поэта Анютина, когда у несчастного не оказалось денег, и он в порыве хмельного великодушия хотел расплатиться своей книжкой-раскраской «Зачем дятлу нос?». Правда, кое-кто считал, что поэта отметелили за внешний вид, но это вряд ли. В СССР воинствующего антисемитизма не было в помине. Наблюдалось, правда, некое раздражение оседлого большинства по поводу неусидчивого меньшинства, имевшего в отличие от остальных сразу два Отечества, к тому же для них путь на жаркую историческую родину лежал теперь не через Воркуту, а через Вену.
Слава богу, семейный НЗ оказался на месте, и вскоре я с трудом втащил Золотуева в квартиру.
– У тебя есть выпить? – оглядевшись, спросил он.
– Посмотрю.
В серванте я отыскал пыльную бутылку с остатками «Шартреза», который лет пять назад купил из любопытства и никак не мог прикончить: даже с похмелья ликер не оживлял, а, наоборот, приторно склеивал фибры страдающего организма.
Но Влад одним махом поглотил «неликвид», цветом напоминавший зеленый антифриз, и упал замертво на диван. Я укрыл его леопардовым пледом, купленным мной в ГДР на дембельскую заначку, и пошел спать во вторую комнату.
Мне приснилось, у нас в мусоропроводе поселилось всеядное существо, наполняющее хрумканьем и чавканьем весь дом. Созвали по этому поводу экстренное собрание кооператива, но председатель объяснил: тварь занесена в Красную книгу и травить ее нельзя. Проснулся я от странных звуков: «Уа-уа-уа!», открыл глаза: между шторами серело зябкое предзимнее утро. События вчерашнего вечера я, как говорится, заспал и очень удивился, с какой стати моя вполне уже взрослая дочь издает давно пройденный младенческий писк.
– У-а, у-а! – звал тонкий жалобный голосок.
Вспомнив все и сразу, я метнулся в гостиную. На диване, свесившись к полу, лежал Золотуев и стонал, моля о помощи:
– А-а, а-а. у-у…
– Ты что?
– Плохо. Сердце останавливается. Выпить есть?
– Нет.
– Тогда я умру…
– Подожди!
Глянув на часы, я взялся за телефон: Жека на работу еще не уехал. К счастью, у него нашлись в холодильнике две бутылки пива. Я взмолился: вопрос жизни и смерти! Через пять минут мой великодушный друг принес «лекарство», но, увидев меня на ногах, укорил:
– А говорил, умираешь…
– Он умирает! – я указал ему на Влада, который вытянулся на одре и даже руки на всякий случай сложил крестом.
– Это кто?
– Секретарь нашего партбюро.
– Кучеряво живете! Ну, я побежал в «ящик».
Залпом выпив бутылку пива, Влад отдышался, посвежел и попросил:
– Давай доедим раков!
– Что-о?!
– Ночью так солененького захотелось, ну, я и взял в холодильнике первое попавшееся.
Странно, что попались ему именно раки, которыми я собирался побаловать Нину, а не щи в кастрюле или котлеты на сковородке. На кухонном столе в куче красной хитиновой шелухи я нашел двух целых раков. Это называется – попробовал! Но теперь, по крайней мере, стал понятен мой странный сон: сквозь дрему я, оказывается, слышал треск разгрызаемых панцирей и клешней.
Золотуев, экономно обсасывая членистоногих, допил вторую бутылку и попросил закурить. Мои сигареты кончились еще вечера. На всякий случай пошарив в кармане его пальто, я обнаружил там пачку «Винстона» и мятые купюры разного достоинства, вплоть до аметистовой четвертной. А говорил, жмот, нет денег!
– Ты «Винстон» куришь? – удивился он, уважительно извлекая сигарету из пачки. – В «Березке» взял?
– Нет, у тебя в кармане.
– У меня? Я курю «Шипку». Странно. Принеси-ка шкуру!
Я притащил из прихожей и расправил на свету его пальто, темно-серое, из хорошей шерсти, с рукавами реглан, на подкладке красовался лейбл: «Made in Finland».
– Это не мое! – предынфарктно удивился Золотуев.
– А это – тоже не твое? – Я вытряхнул из рукава мохеровый зелено-бордовый шарф с голландским петушком на золотой этикетке.
– Тоже не мой. Господи! – Он страшно побледнел. – А шапка? Быстрей!
Я принес: отличная темно-коричневая шапка, кажется, из ондатры, с едва залоснившейся стеганой подкладкой и белым клеймом «Можайская меховая фабрика».
– Отечественная, – удивился я. – Умеем же, когда захотим. Твоя?
– Моя! – уверенно подтвердил Золотуев.
– А чьи же шарф и пальто?
– Не знаю. Не помню. Где ты их взял?
– Не я, а ты. Ты показал, а Козловский подал. Забыл?
– Значит, мое пальто надел кто-то другой…
– Ты, Владик, большой мыслитель! У тебя в карманах было что-нибудь такое, по чему тебя можно вычислить?
– Медицинская справка.
– Не из венерического диспансера, надеюсь?
– Нет, к проктологу. Направление.
– Тогда звони домой – тебя уже ищут.
– Жор, спроси лучше ты. У меня сердце не выдержит. – Он с третьего раза дрожащим перстом набрал домашний номер и боязливо протянул мне трубку.
Сначала шли длинные гудки. Наконец женский голос, холодный и колкий, как сосулька, ответил:
– Алло.
– Ривочка, извините, что так рано…
– Кто это?
– Жора Полуяков.
– Ясно. Позови этого урода!
Влад слушал, бледнея так, словно врачи-вредители стремительно заменяли кровь в его венах меловым раствором.
– Жора, я погиб. Бумагу и карандаш, скорее! – прохрипел он.
Я принес. Золотуев агонизирующей рукой нацарапал несколько цифр – чей-то номер телефона – и выронил трубку. Из крошечных отверстий наушника доносился маленький, далекий, но пронзительный женский голос, крывший бедного Влада такими словами, после которых невозможен даже совместный проезд в метро, не говоря уж о дальнейшем брачном общежитии.
– Ну? – спросил я, кладя ругающуюся трубку на рычажки.
– Это пальто Клинского. Он приезжал на день рождения к Переслегину.
– Ого!
– Да, я как-то пил с Переслегиным. Это очень опасно.
– Направление, говоришь, к проктологу? – ухмыльнулся я. – Очень кстати! А когда звонили от Клинского?
– Полчаса назад. Он ждет. Это конец!
– Набирай номер!
– Сейчас. Погоди! Надо еще выпить, – прошептал Влад и закрыл лицо руками.
61. Лукавый цензор мой
Что, поэт, косишься хмуро?
Год пропьянствовал уже!
Ну, порезала цензура…
Не кастрировала же!
А.
…Свернув с Садового кольца на Цветной бульвар, мы проехали темный Центральный рынок и сияющий огнями Старый цирк. На фронтоне гарцевали неоновые кони, перед входом патлатые парни спекулировали дефицитными билетами.
– Мы вчера с Марго сюда ходили, – гордо сообщил Гарик.
– На рынок?
– В цирк.
– Сколько переплатил за билеты?
– Егор-джан, клянусь, нисколько. В кассе купил. За два рубля.
– Врешь! В кассе билетов никогда не бывает. Только у барыг.
– А у Марго книжка есть, красная такая. Показываешь – и покупаешь.
– По брони, что ли? – удивился я. – Надо же… Откуда?
– Папа дал.
– И кто же у нее папа?
– Большой человек. На черной «Волге» возят.
– Интересно. Ну, и как тебе цирк?
– Вай-ай! Тигры чуть укротителя не сожрали, еле успел из клетки убежать. Кнут потерял. Там иностранцев полно было. Мне один итальянец сказал, что у них недавно укротителя совсем съели, клянусь…
– Итальянец по-русски говорил или по-армянски?
– Зачем по-армянски? Марго переводила.
– Она у тебя итальянский знает?
– Очень умная у меня ншанцс!
– Кто?
– Невеста.
«Ншанцс», – подумал я, звучит как «шанс». – Повезло моему непутевому водителю!»
Мы развернулись на Трубной площади и, миновав Дом политпросвещения, подрулили к издательству «Литературная газета». Оно было построено, кажется, в конце двадцатых и напоминало большие серые кубики, поставленные друг на друга. У входа, под козырьком, Гарика ждала тощая экспедиторша, одетая стильно и дорого: кожаная мини-юбка, лаковые сапоги на платформе и джинсовая куртка-варенка – последний писк моды. Я впервые рассмотрел Марго: хорошие русые волосы, лицо худое, мило-заурядное, но озаренное какой-то изнурительной нежностью. Большие глаза жадно блестели из-под светлой челки, губы заранее вытянулись для поцелуя. Шофер, забыв запереть машину, бросился к ней, а она с визгом повисла у него шее, поджав ноги.
Я махнул пропуском перед носом старого вохровца в черной шинели.
– Срам! – буркнул он, кивнув на люто лобзающуюся парочку.
– Любовь, – возразил я.
Поднявшись в тесном лифте на четвертый этаж, где по понедельникам «Столичному писателю» выделялась комнатка для «свежей головы», я открыл дверь и в сизом табачном дыму едва различил Торможенко. Он сидел в кресле, по-американски задрав ноги на стол, и вещал в телефонную трубку:
– Нет, старичок, ты не понимаешь одной маленькой вещи: в стихах, согласен, метафора – царица, а в прозе – она как лишний крючок у бабы на лифчике. Понял? Возьми того же Белого…
– Прочитал? – с порога спросил я.
– Прочитал, – ответил Толя, прикрывая пальцами мембрану.
– Нашел что-нибудь?
– Все чисто.
«Не читал, сволочь!» – понял я, выдернул из-под его нечищеных ботинок полосы и пошел к цензору, слыша за спиной:
– Леонов? Я тебя умоляю! У него метафоры – как помидоры из парафина… Олеша? Согласен! Но ведь он так и спекся на «Зависти»… «Три толстяка»? Не смеши! Это «Капитал» для пионеров…
Цензор, а точнее, уполномоченный Главлита, сидел в кабинете без таблички, на двери имелся лишь номер – 407. Поэтому иногда говорили: «Отнеси-ка полосы в 407-ю!» Раньше за нами присматривал цензор Варламов, мрачно-молчаливый, будто бюст над могилой. Но полгода назад появился Валера Чунин, смешливый блондинчик, лет на пять старше меня. Он увлекался сыроедением, и на столе перед ним теснились пластмассовые коробочки с наструганной морковью, репой, капустой и пророщенным горохом. Пил он исключительно талую воду. В 407-й комнате не было ничего примечательного, кроме большого снимка: Валера в обнимку с зубасто улыбающимся Евгением Евтушенко. В шкафу стояли толстые безымянные справочники с загадочными индексами на матерчатых корешках. Полстены занимала политическая карта мира.
– Привет, Валер!
– Привет, Жор!
– Как наши дела?
– Дела у прокурора, а у нас делишки. – Он взял со стола полосу «Столичного писателя» и нашел отчеркнутое синим карандашом место. – Вот тут у тебя в отчете о партсобрании прозаик Рыбин говорит, что выступал перед воинами-ракетчиками в городе Ногинске.
– А что не так?
– Запомни и передай западным разведкам: ни в Ногинске, Жора, ни в окрестностях нет никаких ракетчиков. Конечно, они есть, ибо там проходит пояс противовоздушной обороны Москвы, но их там все-таки нет. А у тебя в газете они есть. Понял? Это нехорошо!
– С кем же он тогда в Ногинске встречался?
– С кем угодно, хоть с кавалеристами, но только не с ракетчиками.
– Давай напишем так: встречался со стражами неба, а?
– Со стражами неба? Красиво и непонятно. То, что нужно! – Он захрустел морковкой.
– Это все?
– Нет, коллега, еще не все. Вот у тебя тут старушка Метелина пишет. – Цензор нашел в полосе другое место, отчеркнутое синим:
Улечу, словно птица,
В дали вольного мира.
Не удержит граница
И отказ из ОВИРа.
– А тут-то что не так? Она у нас вроде политически грамотная, даже слишком…
– Тут, Жора, все не так. Если она улетит в дали вольного мира, значит, у нас здесь мир не вольный, то есть не свободный. Клевета на советский строй. А это совсем нехорошо. Согласен?
– Ну, в общем, да.
– Что будем делать?
– А если исправить так: «в дали горнего мира»…
– Горнего? На тот свет, что ли? Это сколько угодно. А что «не удержит граница», пусть останется на твоей совести…
– Это же метафора, а в поэзии она царица!
– Согласен. Метафору уважаю. Не при Сталине живем. Но вот насчет ОВИРа опять непорядок. Отдел виз и регистраций гражданам, надлежащим образом подавшим документы на выезд из страны, никогда не отказывает. У вас же, коллега, из контекста следует, что ОВИР – это вообще какая-то репрессивная на-хер-всех-посылающая организация. Нехорошо!
– Валер, ты это мне говоришь или товарищу майору? – Я показал пальцем на потолок, намекая на прослушку. – Они же все время всем отказывают.
– Не дрейфь, Жора, здесь не слушают. Очень дорого. Знаю я, знаю этих сук овировских! Мою жену, святую женщину, в Польшу не пускали, требовали комсомольскую характеристику. А какая комсомольская характеристика, если она шесть лет дома сидит? Трое детей. Погодки.
– Ну, ты гигант!
– Это все сыроедение! – Он захрустел капустным листом. – Пришлось напрягать знакомых мужиков из конторы. Выпустили-таки. Ну, и что будем делать с ОВИРом? Так оставлять нельзя. Жизнь – одно, печать – другое.
– А если так: «одолею границу и без визы ОВИРа».
– Нельзя без визы.
– Она же птица.
– Метелина?
– Ну да.
– Опять метафора?
– Это же поэзия!
– Ладно тебе, нашел Ахматову для бедных. Не многовато метафор?
– В самый раз.
– И что у нас получается?
Улечу, словно птица,
В дали горнего мира,
Одолею границу
И без визы ОВИРа.
– Без визы? Резковато, конечно, но так им, сукам, и надо. С матери троих детей, со святой женщины, комсомольскую характеристику требуют, уроды!
– К нам вопросы еще есть?
– Нет, правь – и сразу залитую. А ты слышал, что Головчук отчудил?
– Не слышал.
– Сейчас расскажу. Декамерон времен развитого социализма.
– Погоди! Я правку отнесу в цех и сразу вернусь.
– Валяй! Кофе пока заварю.
– Я твой цикорий пить не буду!
– Ладно, для хороших людей есть финский растворимый.
– Откуда?
– В заказе дали.
– Вам финский дают? – удивился я.
– А как же! Для бдительности, чтобы мы идеологическую диверсию не проспали.
В наборном цеху я застал коллективную трапезу: пили молоко с белым хлебом. Сразу после Октября народная власть особым декретом повелела за большой вклад в дело революции тружеников типографий, вдыхающих на производстве вредный свинец, ежедневно бесплатно поить молоком и кормить ситниками, что по тем голодным временам являлось невозможной щедростью. С годами многие завоевания пролетариата были утрачены, но млекопитательная традиция неукоснительно соблюдалась.
Увидев меня, наш верстальщик Витя Бабошин вытер рукавом рот и пошел к железному столу, на котором лежал талер с нашим набором.
– Еще правка будет? – с набитым ртом спросил он, разбирая мои каракули на полосах.
– Вроде бы все остальное чисто. Вноси – и подписываем.
– Давай-давай, Михалыч, вечно из-за вас до ночи сидим. И скажи твоему ответсеку: пусть он лучше вообще макеты не чертит, чем так косячить.
– А что – опять?
– Двадцать пять! Не знаю, каким концом он строчки считает, но снова дыры и хвосты повылезали. Дыры-то я разогнал, а хвосты сам сокращай! Третий час ждем.
– А разве Толя не сократил?
– Да ну его в болото – ничего он не сократил.
– Выведи мне полосы. Сам сокращу.
Минут через двадцать я вернулся к Чунину. Он уже хлебал свой цикорий, заваренный талым кипятком, и бросал в рот пророщенные горошины, похожие на головастиков. У финского кофе оказался запах новых галош, но мы тогда думали, это и есть признак западного качества.
– Ну, и что там отчудил Головчук?
– О!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.