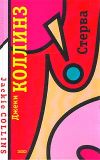Текст книги "Секс в СССР, или Веселая жизнь"
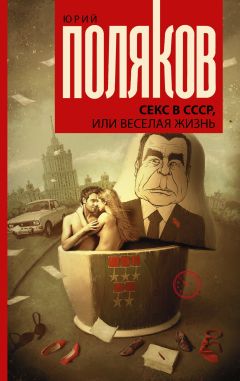
Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 44 страниц)
Ты был начальником немалым,
С вождями за руку знаком.
Но кто ты перед трибуналом?
Червь под асфальтовым катком!
А.
Владимир Иванович встал:
– Товарищи, прискорбный случай, по которому мы собрали экстренное заседание парткома, думаю, всем известен. С рассказами Алексея Ковригина, надеюсь, вы тоже ознакомились…
– С так называемыми рассказами, – мягко уточнил ТТ, оглаживая бороду. – И случай этот, уважаемый Владимир Иванович, скорее возмутительный, нежели прискорбный. Извините за комментарий.
– Да, разумеется, Теодор Тимофеевич, вы правы, как всегда… – насупился секретарь парткома.
– А вы знаете, товарищи, что Козловский предложил мне «Крамольные рассказы» за пятнадцать рублей! В ледерине, – ехидно доложил Борозда.
– Мне – за десять, – вставил Дусин, детский писатель, автор многотомной эпопеи о похождениях хорька Зюзи.
– Этим уже занимаются, – из уголочка успокоил Сазанович.
– Может быть, и так называемыми рассказами пусть занимаются те, кому положено? – вскочила Метелина.
– Мы обсуждаем рассказы, потому что Ковригин – член нашей организации, коммунист с тридцатилетним стажем, – сурово разъяснил секретарь парткома.
– Так называемый коммунист! – зловредным тенорком подбавил Флагелянский.
– А вот это дудки! Пока мы не исключили Ковригина, он коммунист. И не надо, Леонард Семенович, бежать впереди паровоза, можно и под колеса попасть! – огрызнулся Шуваев. – Всем ясно?
– Не отвлекайтесь на мелочи, голубчик Владимир Иванович, нам и без того предстоит принять непростое решение.
– Это не мелочи, Теодор Тимофеевич! Наказать – накажем, но глумиться над большим русским писателем не позволю, пока я секретарь парткома.
Все переглянулись, поняв, что слухи о скором уходе Шуваева с поста не так уж далеки от жизни.
– Владимир Иванович, городской комитет партии принял к сведению ваше особое мнение, – ласково произнес, оторвавшись от служебного журнала, Лялин. – Но для протокола, пожалуйста, повторите вкратце обстоятельства дела.
– А кто ведет протокол? – уточнил ТТ.
– Я… – ответила Арина, светясь женским счастьем.
– Повнимательнее, голубушка, тут важна каждая мелочь!
– Конечно, Теодор Тимофеевич!
– Так вот, для протокола… – морщась и глядя в окно, продолжил Шуваев. – Некоторое время назад в партком из компетентных органов поступила…
– А поточней нельзя ли? Из какого управления поступила? – спросил лысый старичок Ардаматов, автор романов о чекистских буднях, в прошлом заведующий столовой на Лубянке.
– Нельзя, – тихо объяснил из своего дальнего угла Сазанович. – Это оперативная информация.
– Понятно, – посерьезнел Ардаматов и выпрямился в кресле.
– Одним словом, к нам поступила известная вам рукопись. Как и при каких обстоятельствах она попала в органы, тоже, конечно, вызывает вопросы…
– Неужели и вправду забыл в вагоне? – воскликнул Дусин.
– За кем погоня? – Гриша Красный приложил ладонь к замшелому уху.
– В вагоне! – рявкнул ему прямо в слуховой аппарат танкист Борозда.
– Товарищи, не надо перебивать докладчика! – ласково попросил ТТ, оглаживая бороду. – Ну, попала рукопись в органы и попала. Дело обычное. Дальше! У нас мало времени. Результаты нашего заседания очень ждут.
– Подождут… – буркнул Зыбин.
Пока Владимир Иванович монотонно повторял для протокола то, что все уже давно знали, я исподтишка разглядывал членов парткома. Боже, какие же все они седые, лысые, морщинистые! Даже сравнительно молодая Капа Ашукина выглядела сегодня осунувшейся и постаревшей. Зыбин, готовясь к тяжелому заседанию, явно вчера перебрал, и его лицо набухло лиловой обидой на человечество. Зато морщинистая мордочка старушки Метелиной помолодела от хищного интереса к происходящему, ядовито-фиолетовые кудряшки на голове бодро встопорщились. Селянин Застрехин, в душегрейке и старых бурках, как всегда, стоял у форточки и курил, пуская дым на улицу. Борозда был в своем праздничном пиджаке со звездой Героя и толстой наградной колодкой. Он все время что-то объяснял в слуховой аппарат Грише Красному, тот кивал, кажется, ничего не понимая. Лялин-Папикян, склонившись к служебному журналу, строчил, видимо, новый рассказ, иногда мечтательно взглядывая на люстру и снова углубляясь в работу. Лохматый литературовед Выхухолев сидел, надув губы. Недавно смельчак в «Вопросах литературы» высказал неожиданную гипотезу: классовость, а следовательно, и партийность есть не изначально присущие, а лишь позже приобретенные свойства искусства. За это в «Правде» его жестоко высекли длинной и гибкой цитатой из «Философских тетрадей» Ленина, и он теперь ходил обиженный.
Все члены парткома терпеливо ждали, когда же закончится затянувшееся вводное слово, чтобы приступить к казни.
– Таким образом, товарищи, нам с вами предстоит дать оценку поступку члена партии Ковригина, – наконец подытожил Шуваев. – Комиссия парткома под руководством молодого коммуниста Полуякова, – он кивнул в мою сторону, – встречалась с ним, беседовала. Впрочем, пусть они расскажут об этом сами…
Владимир Иванович сел и стал нервно перебирать лежавшие перед ним странички. Все сразу посмотрели на меня, и я уже было открыл рот, но опередил Флагелянский:
– Товарищи, вы должны знать: Ковригин перед комиссией вел себя чудовищно! Хамил, ругал нас пигмеями, а Горького – вы подумайте! – назвал бездарным снохачом.
– Почему смехачом? – громко удивился Гриша Красный.
– Снохачом! – рявкнул ему в ухо Борозда.
– Ах, это! – облизнулся столетник. – Это – да!
– Не бездарным, а бесталанным, – мрачно поправил Зыбин.
– Какая разница? – удивился Ардаматов.
– Лермонтов купца Калашникова назвал «бесталанной головушкой», – на удивление внятно объяснил председатель поэтов. – Это значит: невезучий.
– Ах, бросьте вашу демагогию! С чего это вдруг Горький невезучий? – вскипел Флагелянский. – Ему памятников понаставили и улицы в его честь поназывали. Он просто хам!
– Кто?
– Ваш Ковригин! Вспомните, что он сказал о моей книге «Даль рабочего романа»!
– А что он сказал? – встрепенулся Выхухолев.
– Не важно. Он проявил полное презрение к мнению товарищей.
– Ну-с, коллеги, дайте же сказать слово нашему молодому председателю, – отечески посетовал ТТ. – Георгий Михайлович, каковы ваши предложения?
– А можно познакомиться с заключением комиссии? – спросил Дусин.
– Да, конечно. Арина, раздайте, пожалуйста! – приказал Шуваев.
В это время в партком торжественно вошел Палаткин. На нем была зеленая твидовая тройка в крупную желтую клетку, малиновая сорочка, голубой шейный платок и рыжие ботинки на «манной каше». Пол-лица заслоняли массивные черепаховые очки с темными стеклами. Несмотря на малый рост, драматург двигался величественно.
– Извините, задержался у врача, – проговорил он, с удивлением поняв, что заседание начали без него.
– Присаживайтесь, Мартен Минаевич, мы до дела еще не дошли! Вас ждали… – пригласил секретарь парткома.
Ленинописец сел, посмотрел на ручные часы величиной с блюдце, налил из графина в стакан воды, вынул из жилетного кармана пластинку больших продолговатых пилюль, выдавил одну на ладонь, бросил в рот и запил, резко запрокинув голову. Пока Арина разносила отксеренные листочки и члены парткома читали, обмениваясь негодованием, слово попросила Метелина.
– Не знаю, товарищи, как вы, а меня в опусах Лешки Ковригина больше всего возмутило низкопоклонство перед Западом. Ну нельзя же так! Все у них лучше. Там дороги, а у нас хляби. Там пиво, а у нас…
– Моча, – подсказал Борозда.
– Не знаю, я пива не пью. Но должна же быть гордость за свою страну! Или он думает, мы слепые? Нет, не слепые. Я вот недавно сочинила стихи про заграницу. Очень смелые! Даже удивительно, что наш «Столичный писатель» решился их напечатать. – Метелина благодарно глянула в мою сторону. – Я их вам сейчас прочту…
– Не надо стихов! – оборвал Шуваев. – Давайте послушаем молодого председателя комиссии.
– Зачем? Здесь все написано! – Палаткин брезгливо помахал страничками.
– Для протокола, товарищи, – оторвавшись от служебного журнала, снова разъяснил Лялин. – Надо, инстанции требуют, чтобы все выступили. Георгий Михайлович, если коротко, к какому выводу пришла комиссия?
– Не отмалчивайтесь! – ТТ строго посмотрел на меня.
– Я и не отмаливаюсь. Просто не хочу перебивать старших. Если коротко – исключить.
– Все члены комиссии это подписали?
– Все.
– Может, были разногласия?
– Да какие же разногласия, если он пишет, что мы воевать не умели! – взревел Борозда. – Завалили немца трупами.
Ашукина и Зыбин, переглянувшись, потупились.
– Это, как я понимаю, Николай Геворгиевич, совпадает с позицией районного и городского комитетов? – прилежно уточнил Сухонин. – Владимир Иванович, ничего, что я вмешиваюсь в ход заседания?
– Имеете право как член парткома, – играя желваками, буркнул Шуваев.
– Полностью совпадает, – кинул Лялин. – Альтернативы нет. Исключение.
– Сколько лет заключения? – спросил Гриша Красный.
– Теперь исключенных не сажают! – гаркнул в слуховой аппарат Борозда.
– Разве? Странно.
– А вы, Василий Захарович, что ж отмалчиваетесь? – упрекнул ТТ Застрехина. – Ковригин – ваш соратник. Вы, оба-два, так сказать, глыбы, два матерых человечища нашей деревенской прозы. Молвите для протокола! Вы ведь тоже подписали заключение комиссии?
– Подписал, Теодор Тимофеевич. Не каменный. Я ведь как мыслю: голубиное дерьмо повсюду, куда ни глянь, гадят везде: на скамейки, одежду, даже на памятники. Так ведь?
– Та-ак… – осторожно согласился Сухонин, удивленно откидывая волосы со лба.
– А вот орлиного дерьма никто еще не видывал. Высоко летает большая птица. Парит над горами. Но ведь и она тоже гадит.
– Это вносить в протокол? – жалобно спросила Арина.
– Не надо! – проскрежетал Шуваев. – Товарищи, вернемся к предмету нашего заседания. Есть точка зрения комиссии, имеется позиция райкома и горкома, но решение принимать нам с вами и отвечать за него тоже нам – персонально.
– Перед кем отвечать? – хмыкнул Флагелянский. – Уж не перед историей ли?
– И перед историей, и перед своей совестью, и перед бюро райкома. Мне там докладывать. А теперь, думаю, пришло время пригласить сюда Ковригина и выслушать его объяснения.
– Владимир Иванович, вы мне разрешите еще раз чуть-чуть вмешаться?
– Да вы уже и так вмешались, Теодор Тимофеевич.
– Спасибо за понимание. Коллеги, нам предстоит серьезное испытание! – произнес Сухонин со своим знаменитым придыханием. – Сейчас сюда войдет человек, который долгие годы был нашим соратником, товарищем по партии, в чем-то даже образцом, если брать уровень его прозы. Прежней прозы. Но оказалось, он просто выдавал себя за советского писателя, тая в душе вражду и лукавую неприязнь к нашим идеалам. Двурушникам не место в партии. Но! Как бы вызывающе и даже оскорбительно ни повел себя здесь Ковригин, помните, мы представляем крупнейшую партийную организацию творческой Москвы. Сдержанность, корректность, конструктивность, принципиальность. Будем брать пример с Ленина! Мартен Минаевич, – ТТ с надеждой посмотрел на Палаткина, – вы специалист, скажите, как себя вел в подобных ситуациях Владимир Ильич?
– Безжалостно! – резко ответил драматург, крутя в пальцах пластинку с таблетками. – Враг революции – личный враг, даже если был прежде другом.
– Очень верное замечание! – Сухонин, по-ленински вдев пальцы в проймы жилетки, глянул на Шуваева. – Никакие дружеские связи не имеют значения, если человек, а тем более писатель, встал на путь борьбы с нашим строем, оскорбил нашу партию в лице ее генерального секретаря. – ТТ еще раз со значением посмотрел на секретаря парткома. – А теперь в самом деле не пора ли сюда пригласить литератора Ковригина и поговорить с ним по всей строгости нашего устава? Ярополк Васильевич, не сочтите за труд – позовите его сюда!
– Он за столиком у камина, – подсказал Флагелянский.
Сазанович нехотя встал и медленно пошел к двери, всем своим видом укоряя злую судьбу, которая сначала бросила его, подполковника ГРУ, в холодильник с мороженой свининой, а потом приставила холуем к задаваке Сухонину.
– Поскорее! – прикрикнул ТТ.
Бывший резидент вздрогнул, как от удара, и прибавил шагу. Когда умер Сазонович, я не знаю, он исчез из жизни незаметно, словно перешел на нелегальное положение по сигналу из Центра.
– Может быть, пока его зовут, кто-то хочет высказаться? – спросил Шуваев.
– Я! – вскочила Метелина. – Когда мы летали в Афганистан и выступали там перед нашими ребятами из ограниченного контингента, нам выдали личное оружие. Ну, на случай, если душманы нападут. Я свой пистолет носила вот в этой сумочке, – она предъявила довольно вместительную кошелку с двумя золотыми полукольцами на боку.
– И что? – нахмурился секретарь парткома.
– Когда мы улетали, у нас, конечно, пистолеты забрали. Но идейное оружие сдаче не подлежит!
– Это все? Арина, внеси в протокол.
– У него нашли оружие? – громко переспросил Гриша Красный. – На даче лежит?
– Нет, не нашли! – проорал в слуховой аппарат Борозда. – Ничего у него не нашли, кроме антисоветчины.
– Погодите, это не все еще! – разошлась Метелина. – Слушайте:
Я носила револьвер
В сумке от Шанели.
Мне других не нужно вер,
Кроме той, что Ленин
Завещал…
– Хватит, Эра Емельяновна! – Шуваев хлопнул пятерней по столу. – Стихи будете читать на своем авторском вечере. Сейчас у нас персональное дело Ковригина.
– А если он будет пьян? – осторожно спросил Дусин. – И устроит дебош?
– Вызовем наряд! – буркнул Палаткин.
– Напоминаю, товарищи: сдержанность и непреклонность! – воззвал ТТ.
– «Как холод мраморной гробницы, грудь нецело-ованной веста-алки…» – не выдержав, тихо пропел Лялин, уткнувшись в служебный журнал.
– Николай Геворгиевич, вы-то хоть воздержитесь! – упрекнул Сухонин.
68. Перемена участи
Сядешь с Богом в подкидного.
Козырей полна рука.
Глядь-поглядь: продулся снова.
Обманули дурака.
А.
В партком, дожевывая, вошел Ковригин под конвоем Сазановича.
– Получите, – процедил бывший нелегал и удалился в свой угол, как в изгнание.
– Здравствуйте, люди добрые! – низко поклонился литературный злодей.
Все посмотрели на возмутителя спокойствия с недоумением. Обычно импортно-щеголеватый, сегодня вождь деревенской прозы был одет в полном соответствии с жанром: кургузый синий пиджачишко, вытертые серые брюки с пузырями на коленях, застиранная клетчатая рубаха навыпуск. Бульдожьи мыски стоптанных башмаков по-клоунски загибались вверх. К тому же Ковригин несколько дней не брился, оброс белесой щетиной и стал похож на сельского лодыря, вызванного за прогулы в правление колхоза. Не хватало только засаленного картуза на голове.
– Садитесь, Алексей Владимирович, – строго попросил Шуваев.
– Постою, коль набедокурил… – нажимая на «о», отозвался он.
Сухонин и Лялин тревожно переглянулись, а Зыбин и Капа перешепнулись. На лицах остальных зрителей появилось такое выражение, словно фокусник на арене вынул из-под покрывала не привычного кролика, а змею.
– Какие будут вопросы к коммунисту Ковригину? – выждав, спросил секретарь парткома.
Некоторое время все молчали. Наконец вскочила Метелина:
– Алеша, скажи, что плохого сделала тебе советская власть?
– Лично мне ничего плохого. Только хорошее.
– Зачем же ты, зверь, написал этот пасквиль?
– Жестоко ошибся. Сердечно раскаиваюсь. – Он приложил руку к груди: знаменитого перстня на пальце не было.
Все оторопели, как если бы змея оказалась вдобавок еще и трехголовой.
– Но ведь на комиссии вы говорили совсем другое! – взвился Флагелянский.
– Говорил. Не отпираюсь. Заблуждался в гордыне. Теперь осознал неправоту бессонными ночами. Разоружаюсь перед партией.
– Врешь ты все! – крякнул Борозда.
– Могу побожиться! – заозирался Ковригин, точно ища в парткоме икону.
– Отставить! Не в церкви, – остановил Шуваев. – Есть еще вопросы по существу?
– У меня есть по существу, – встал Дусин. – Алексей Владимирович, как же вы в глаза нам смотреть будете после того, что написали?
– А как великий Горький смотрел после «Несвоевременных мыслей»? Воротился из эмиграции в Страну Советов и смотрел за милую душу.
– Вы читали «Несвоевременные мысли»? – удивился Палаткин.
– Доводилось.
– И где же достали?
– Там же, где и вы, уважаемый, в Спецхране по допуску.
Тут в дверь заглянула испуганная Мария Ивановна:
– Теодор Тимофеевич, «вертушка». Срочно! Третий раз звонят.
– Без меня не голосовать! – бросил Сухонин, вскакивая. – Поговорите еще, пообсуждайте! – и державно потрусил из кабинета.
Некоторое время трибунал молчал, озадаченный нежданными ответами. Гневных и обличительных вопросов было заготовлено много, но какой смысл их задавать, если провинившийся кается напропалую?!
– Можно? – снова подняла руку Метелина.
– Пожалуйста, Эра Емельяновна.
– Зверь, ты и в самом деле считаешь Афганистан ошибкой? Мы потеряли там столько замечательных мальчишек и теперь должны просто так уйти оттуда? Ты же об этом говоришь Андропову.
– Не я, а мой герой.
– Ну, вы нам-то не вкручивайте! – сварливо одернул Флагелянский.
– Упаси бог! Вам, уважаемый, есть кому вкручивать…
– Что-о-о?!
– …А современникам любая война кажется ошибкой, ведь люди же гибнут – мужья, сыновья, братья… Потомки разберутся.
– И Великая Отечественная война была ошибкой? – зловеще спросил Борозда.
– Конечно, – потупился Ковригин.
– Нет, вы слышали! – взвизгнул Флагелянский, который после слов про «вкручивание» посинел от ярости.
– Позор! Гнать его из партии! Двурушник! – раздались голоса.
– Кто цэрэушник? – проснулся Гриша Красный.
– Никто, тут все свои! – проорал ему в слуховой аппарат Борозда.
– Если бы мне выдали сейчас пистолет… – вскочила Метелина.
– Давайте без крови, Эра Емельяновна! – Шуваев поднял руку, призывая к спокойствию. – Алексей Владимирович, ты соображаешь, что сказал?
– Конечно, еще вроде не в маразме.
– Тогда объяснись!
– Война была явной ошибкой… – в его маленьких глазах мелькнула насмешка, – …со стороны Гитлера, и стоила ему эта ошибка головы.
– Ай, молодец, вывернулся! – крякнул от удовольствия Ардаматов. – Когда я был в Уругвае, мне показывали дом, где этот изверг жил после войны. Улизнул, сволочь, вместе с Борманом!
– Чепуха! – Палаткин чуть не подавился очередной пилюлей. – Труп определили по зубным коронкам.
– Ну, хорошо, Алексей Владимирович, – повеселел Шуваев. – Что еще ты хочешь сказать членам парткома перед голосованием?
– Минуточку, – спохватился Лялин. – Нужно еще вопросы позадавать для протокола. Ну, и Теодор Тимофеевич просил…
– Пожалуйста, – пожал плечами секретарь парткома.
Все почему-то посмотрели на Застрехина, а он как раз докурил очередную папиросу и закрыл форточку.
– Что ж, и я спрошу. Вот ты, Алексей, пишешь, что до революции и ели чаще, и пили слаще, а крестьяне при помещиках как сыр в масле катались. Не понятно только, почему народ такой мелкий прозябал, рослых мужиков для лейб-гвардии по всей России днем с огнем искали. Да и вожди наши, прости господи, чуть выше ярморочных карликов были. Ну, тебе-то видней… Если тебя в Политбюро вызовут и скажут: «Алексей Владимирович, коль прикажешь, завтра же все колхозы до одного распустим!» Приказал бы?
– Н-нет… – не сразу ответил Ковригин. – Не приказал бы…
– Почему же?
– Въелись.
– А зачем же тогда бумагу марал?
– Бес попутал.
– Ну, разве что… И хитер же ты, Братец Лис!
– Еще есть вопросы? – торопливо спросил Шуваев, с опаской поглядывая на дверь.
– Алексей Владимирович, я так поняла, вы сожалеете о случившемся? – осторожно спросила Ашукина.
– Правильно поняла, голубушка. Раскаиваюсь. Прошу снисхождения. Не мыслю себя без партии, – заученным речитативом запел крамольник, словно нищий в электричке. – Извлеку надлежащие уроки и впредь не посрамлю высокое звание коммуниста!
– Хорошо, Алексей Владимирович, – легонько хлопнул по столу Шуваев. – Мы тебя поняли. Иди-ка, подожди за дверью!
– Благодарствуйте заранее! Мне, наверное, уже и корейку принесли. – Вождь деревенщиков поклонился в пояс и вышел из парткома.
– Он же издевается над нами, товарищи! – возопил, едва закрылась дверь, Флагелянский.
– Фарс! – фыркнул Палаткин. – Срежиссированный фарс. – И подозрительно посмотрел на секретаря парткома.
– Почему вы так решили? Возможно, он осознал и раскаивается, – тихо проговорила Ашукина.
– У вас глаз нет, что ли? Это же чистая клоунада! – ответил болезненный драматург. – Корейку ему принесли…
– А что же, ему теперь голодать? – внятно пробормотал Зыбин.
– Питаться надо регулярно, – кивнул Ардаматов.
– Разрешите мне сказать, – хмуро попросил Выхухолев, поднимаясь из кресла. – Я еще сегодня не выступал. Надоело, когда затыкают рот!
– Пожалуйста, Сергей Павлович, – удивился Шуваев. – Рот вам никто не затыкает.
Опальный литературовед пригладил волосы, которые от того еще сильнее вздыбились.
– Хочу, товарищи, внести ясность. Я не согласен с теми оценками, которые коллега Ковригин в своих рассказах дает некоторым фактам нашей истории и действительности, но справедливости ради хочу напомнить, что классовое общество, по мнению историков, начало складываться в отдельных регионах не ранее первого тысячелетия до нашей эры. Переход родоплеменных отношений в классовые мы можем наблюдать в Гомеровом эпосе. Позволю себе напомнить вам социальную структуру ахейцев, осадивших Трою…
Пока он с академической неспешностью объяснял устройство архаического общества, ко мне сзади подкрался Лялин и ванильным голосом зашептал:
– Жоржик, будет правильно, если предложение об исключении внесешь ты как председатель комиссии.
– Я?
– Ты. «Пора, пора сойтись в кровавой сече…» – тихо пропел он.
– …А вот первые произведения искусства в виде, например, знаменитых наскальных рисунков датированы пятым и даже шестым тысячелетием до нашей эры, – продолжил лекцию Выхухолев. – Теперь скажите, коллеги, могло ли быть искусство пещерного художника классовым, если возникло оно задолго до возникновения классов?
– Ковригин тут при чем? – поморщился Палаткин.
– А при том! Надо сначала привести в соответствие с научной логикой марксистско-ленинскую эстетику, а потом уже с ее помощью анализировать текущий процесс, в том числе и «Крамольные рассказы». Прошу внести в протокол!
– Хватит! Давайте голосовать! Все ясно! – занервничали члены парткома.
– Теодор Тимофеевич просил без него решение не выносить, – осторожно напомнил Лялин.
– Теодора Тимофеевича, может быть, в инстанции вызвали. Будем ждать, когда он воротится, что ли? – насупился Шуваев. – К тому же его позиция нам известна. Голос присовокупим. Какие будут предложения по сути дела? – Партсек посмотрел на меня в упор.
– Исключить! – выпалил Флагелянский, пока я собирался с духом.
– Правильно! – подхватил Ардаматов. – Будет свою корейку беспартийным доедать.
– Тем более что имеется решение комиссии, – веско добавил Палаткин. – Не так ли, Георгий Михайлович?
– Так… – промямлил я.
– Когда мне выдали пистолет… – вскочила Метелина.
– Хватит про пистолет, – оборвал ее Шуваев. – Я на себе два года пулемет таскал. И что теперь? Какие еще предложения?
– По-моему, достаточно выговора… – прошелестела Ашукина.
– Хватит выговора, – поддержал Зыбин.
– Но вы же сами, Капитолина Петровна и Виталий Дмитриевич, подписали заключение комиссии с рекомендацией – исключить! – вскочил парторг. – Как же так? Вы отказываетесь?
– На комиссии Ковригин вел себя иначе, вызывающе, а теперь он сожалеет о содеянном. И я изменила мою точку зрения. Прошу занести в протокол…
– О чем он сожалеет? О том, что хотел передать рукопись за границу? – гневно усмехнулся Палаткин. – Я этого не услышал.
– Не доказано! – буркнул Зыбин.
– А то, что рукопись была завернута в свежий номер «Франкфуртер альгемайне», тоже не доказано? – сардонически усмехнулся драматург.
– Мартен Минаевич, вы вот все время какие-то импортные таблеточки кушаете, возможно, от геморроя, но из этого не следует, что новую пьесу о Ленине за кордон собираетесь передать! – возразил Шуваев. – Так ведь?
– При чем здесь таблетки? Я недомогаю! – Он побледнел от обиды.
– Пошутил, пошутил, не серчайте, к слову пришлось, – заулыбался секретарь парткома. – Ну, товарищи, все ясно: у нас есть два предложения. Голосуем в порядке поступления. Кто за то, чтобы исключить Ковригина из рядов КПСС? Арина, считай!
Поднялись руки, одни сразу и решительно, другие чуть помедлив. За исключение проголосовали: Палаткин, Флагелянский, Ардаматов, Метелина. За выговор: Ашукина, Зыбин, Выхухолев, Борозда, Застрехин. Шуваев и Дусин воздержались. Гриша Красный как поднял руку в самом начале, так и держал до конца, поэтому его тоже сочли воздержавшимся.
– Получается, большинство за выговор, – растерянно доложила Арина.
– А вот и нет, вы Сухонина не посчитали! – вскочил Лялин. – Он за исключение. Приплюсуйте немедленно!
– С голосом Теодора Тимофеевича выходит поровну: пять на пять, – кивнул Шуваев.
– Ничья! – захохотал Борозда. – Гитлер капут!
– Тут что-то не так… – занервничал Папикян. – Не сходится. Кто-то не проголосовал…
И все посмотрели на меня.
– В чем дело, товарищ Полуяков? – возмутился Флагелянский. – Уснули?
– Задумался… – промычал я, поднимая мертвую руку.
– Ох, Жоржик, как же ты меня напугал! – Лялин вытер со лба испарину. – Арина, пишите: шесть за исключение, пять за выговор, трое – воздержались.
– Я… я… я… тоже… за выговор… – Мой жестяной голос прозвучал откуда-то сверху, точно из репродуктора.
– Что-о? – грозно изумился Палаткин.
– Георгий, ты соображаешь, что делаешь? Ты председатель комиссии! – раненым голосом вскричал Папикян. – Ты ставишь на себе крест, мальчик!
– Николай Геворгиевич, не надо давить на членов парткома! – предостерег Шуваев.
– Ну, что ты, Володя, я не давлю, я предупреждаю юношу о последствиях.
– Предупредил?
– Предупредил.
– Вот и хорошо. Арина, заноси в протокол! – торжествуя, приказал Шуваев.
– Уже занесла! – радостно отрапортовала она.
– Что вы наделали?! – схватился за голову Папикян.
– Приняли решение, – отрезал секретарь парткома. – Зовите Ковригина. Нет, стойте, я сам позову…
Вскоре он ввел за руку жующего классика, вернулся на председательское место и объявил, с трудом удерживая на лице строгое выражение:
– Ну, вот что, Алексей Владимирович, члены парткома, учитывая твой вклад в советскую литературу и чистосердечное раскаяние, проявили снисхождение и оставили тебя в рядах нашей партии. Мы ограничились выговором, надеясь, что ты, так сказать, решительно отмежуешься от совершенного и в новых книгах явишь свое подлинное лицо большого русского советского писателя…
– Ты уж, зверь, нас не подведи, оправдай доверие! – добавила Метелина.
– Отмежуюсь, явлю и оправдаю, – окая, подтвердил тот. – Вот только дожую. Спасибо, люди добрые! – Вождь деревенской прозы снова в пояс поклонился. – А выговор-то какой, стало быть, мне вчинили?
– Ты о чем, Леша?
– Да все о том же, Володенька. С занесением аль без занесения? – со знанием дела уточнил он.
И тут все в изумлении переглянулись, сообразив, что упустили самое главное. Нынешний читатель понятия не имеет о партийных взысканиях того времени, способных до неузнаваемости изменить человеческую жизнь, как экскаватор соловьиный сад. Чтобы стала понятна оторопь парткома, я должен дать некоторые исторические объяснения. Ничего не поделаешь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.