Текст книги "Аномальная зона"
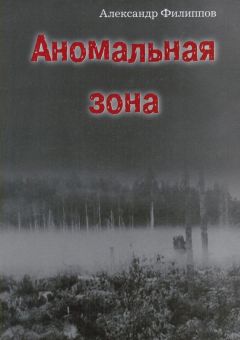
Автор книги: Александр Филиппов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 45 страниц)
Глава двенадцатая
1
С рассветом над тайгой потянулись, клубясь, тяжёлые тучи, зарядил дождь, колол холодными иглами лицо и озябшие до окостенения руки. Богомолов, толкая тачку из карьера по вымокшему дощатому настилу вверх, не удержал её в стёртых в кровь ладонях, опрокинул на бок и, поскользнувшись, шмякнулся рядом, перемазавшись с ног до головы в жирной глине.
– Ну, че-ё-ерт! – рявкнул на него бригадир, шустро сбежав по сходням вниз к месту аварии и, размахнувшись, огрел по спине суковатой дубиной. – Встать, падла! Ещё раз опрокинешь – я тебе руки переломаю! Будешь, пидор, зубами тачку тащить! Быстро назад, загрузился по новой! Бегом, бегом, сволочь!
Писатель, елозя коленями по раскисшей жиже, поднялся, с трудом выдирая ноги из липкого глиняного месива, в которую превратился в ненастье склон котлована, из последних сил поволок пустую тачку на помост, снизу напирали, катя привычно и ловко наверх неподъёмную для Богомолова ношу другие тачечники, и разъехаться навстречу с ними на узком дощатом трапе не получалось.
– Бегом, бля! – орал между тем бригадир, норовя достать бедолагу дубьём по натруженному хребту, и Иван Михайлович, схватившись за оглобли тачки, шлёпнулся на задницу, и заскользил по склону на дно карьера, мимо гогочущих немилосердно зеков, тоже с головы до ног перепачканных в глине и напоминавших тем самым каких-то жутких ветхозаветных големов.
Впрочем, справедливости ради, как ни горько ему было сейчас, писатель осознавал, что на смех они право имели. Ибо эти худые и измождённые на вид зеки, не в пример ему, сохранившему округлость лица и животик со времён вольной сытости, управлялись с тачками гораздо ловчее, шустро, бегом почти, вкатывая наполненные до краёв тележки на гребень карьера по мокрым, осклизлым сходням.
Спустившись на вязкое дно котлована, Богомолов склонился над ближайшей лужей и принялся, черпая горстями ледяную, красную от глины воду, промывать заляпанные грязью глаза, но на него опять заорал теперь уже звеньевой, отвечающий за погрузку:
– Ты чего тут чухаешься, козёл?! Марафет наводить надумал? Затаривай тачку, твою мать, пока кровью у меня не умылся!
Плохо видя из-за глины, залепившей глаза, и ещё хуже соображая от усталости, когда, казалось, каждая жилка в теле тряслась, а мышцы не слушались, будто парализованные, Иван Михайлович, плача от боли и отчаяния, взялся содранными до живого мяса ладонями за раскоряченные оглобли ненавистной тачки, увязая единственным колесом, стал толкать её к грузчикам, пластавшим штыковыми лопатами, ковырявшими кирками и ломами непромоченный ещё бок карьера, опять поскользнулся, упал на колени, поднялся, поелозив отсыревшими насквозь башмаками по раскисшей жиже и, заливаясь невидимыми сторонним из-за дождя слезами, кое-как доковылял до места погрузки. И, обессиленный, вновь опустился на четвереньки.
«Пусть лучше убьют!» – равнодушно мелькнула мысль в воспалённом мозгу. Смерть, даже самая мучительная, казалась ему предпочтительнее и скоротечнее этого бесконечного, беспросветного ада, в котором он пребывал уже две недели. Приговор в двадцать пять лет каторжных работ он воспринимал как насмешку. Жить ему оставалось, даже если сегодня, прямо сейчас, не забьёт его своей суковатой дубиной до смерти бригадир, дня два-три от силы. И не важно, что произойдёт раньше – сердце не выдержит и лопнет от напряжения или он сам наложит на себя израненные руки. Верёвку подходящую он уже припас, перевязав ею в поясе сваливающиеся поминутно штаны и место, где можно повеситься незаметно, присмотрел за бараком, на мусорной свалке, чтоб никто не мешал…
Два зека – длинные, похожие на огородные пугала в своих заскорузлых от грязи робах, только еще страшнее – один с выбитым не иначе как в беспощадной драке глазом, другой со сломанным, расплющенным носом, принялись пинать его со злобным хохотом:
– Гли-ка! Телегент на карачках! – ржал первый.
– Встал в позу… привыкай, гнида ученая! – веселился второй. – На тебе, бери больше да тащи дальше…
Они взялись за лопаты и начали наваливать в тачку глину. Но не сухую, рассыпчатую, с обрывистой стены карьера, а сгребали со дна – жидкую, пропитанную водой и ужасно тяжёлую, навалив её так, что с краев стекало.
– Ну-ка, схватил, покатил, быстро, быстро, бегом! – заорали они, закончив погрузку и замахиваясь лопатами на писателя.
«Вот он, твой разлюбезный народ, – думал себе, рыдая от бессильной ярости, Богомолов. – И это о его страданиях болел ты душой! Это для него ты хотел лучшей доли, вслед за классиками-гуманистами русской литературы, коих перечитал великое множество. Это тот самый народ, который ты представлял себе умильно благостным, в лапоточках, бесконечно добрым, богобоязненным и бескорыстным… Тупые скоты! Отвратительные, мерзкие хари! Правильно их помещики по конюшням пороли, палачи ноздри рвали и лбы клеймили! А ещё каппелевцы вешали да будёновцы в капусту рубили! Так им и надо, мерзавцам! И Сталин молодец, знал, как с быдлом этим управиться… А мы интеллигентские сопли льём. Ах, народ-богоносец! Ах, народ всегда прав! Ах, то евреи его с толку сбивают. Есть здесь, в котловане, хоть один еврей? Нету!»
Злость будто придала ему сил. Под улюлюканье зеков он крепче схватился за ручки тачки и принялся толкать ее, неподъёмную, надрывая пупок, пытаясь вкатить на помост. Пусть ему невероятно, смертельно плохо сейчас, но и эти твари узколобые сгниют в этих болотах наверняка вместе с ним. Туда им, тварям таким, и дорога!
Через минуту, зарывшись колесом в жидкую грязь, тяжёлая тачка безнадежно завязла и, как ни старался Богомолов, как ни наваливался на неё, не двигалась с места.
– Эй, милок, – тронули его за плечо.
Иван Михайлович отшатнулся испуганно, ожидая удара.
– Тут не силой – сноровкой надоть, – вполне миролюбиво продолжил между тем незнакомец.
Писатель обернулся затравленно. Перед ним стоял низкорослый, из тех, про кого говорят «метр с кепкой», старичок, макушкой достававший Богомолову едва до плеча. Пришлось даже наклониться, чтобы рассмотреть его лучше.
Пожилой зек производил довольно мирное впечатление. Та же, что и у всех арестантов, нахлобученная по самые мохнатые брови кепка со сломанным посередине козырьком. Из-под козырька торчит нос картошкой, остальная часть лица прячется в окладистой седой бороде. Обращали на себя внимание лишь глаза – пронзительно синие, не старые совсем. Они прямо светились на его неказистой, заросшей и грязной физиономии, будто клочок яркого неба выглядывал из-за сгрудившихся хмуро тяжёлых и седых туч, омрачавших чело каждого узника.
– Так ты, милай, быстро надсадишься и нутро спортишь – грыжу наживёшь или заворот кишок, – участливо попенял дедок Богомолову. – Глянь-ка, вот как надоть…
Он поддёрнул длинные, не по росту, рукава робы и решительно взялся за тачку Ивана Михайловича. Потянул за ручки на себя, потом толкнул вперёд и, удивительно легко выдрав колесо из грязи, умело водрузил тачку на дощатые сходни и без напряжения покатил её наверх по пологому склону, попутно объясняя волочившемуся рядом без сил писателю:
– Ты вона какой гренадёр ростом, не то что я, тебе на этой работе сподручней. Руки в локтях не сгибай, живот не напрягай. Держись за оглобли да иди себе спокойно, вроде как на прогулке. Она, тачка-то, сама перед тобой пойдёт, как миленькая! Не горбись, голову вниз не гни. Ноги вот так ставь, носками наружу. И толкай её, толкай. И-эх, по-о-ошла милая!… Глянь, паря! Она ж сама едет. Как моторная!
Богомолов, подхватив на полпути тачку у старика, встал так, как он научил, и убедился, что катить таким образом действительно легче. И всё-таки, кое как добравшись до самого верха и потом бредя под крикливые понукания бригадира к ненасытной пасти прессовочной машины, заглатывающей без устали глину и выдающей с другого конца агрегата кирпич-сырец, он понимал отчётливо, что через пару дней умрёт от такой непосильной работы. А если не отдохнёт сию же минуту, то это случится прямо сейчас.
В это время часто-часто застучали в подвешенный здесь же на ржавой проволоке рельс, и бригадир заорал хрипло:
– Шабаш, бродяги! Жратву привезли!
Вытряхнув содержимое тачки на транспортёрную ленту, писатель побрёл к бричке, на которой понурая лошадь и такой же снулый вечно, равнодушный ко всему зек-возница привозил на рабочий объект долгожданный обед.
Получив от баландёра миску, наполненную до краёв чуть тёплой кашей, чёрт знает из какого злака сваренной – может, пшеницы дроблёной, а может, овса, – и ломоть чёрного клёклого хлеба, Богомолов осторожно понёс еду к тачке. Опустившись на ненавистное орудие труда, он, стараясь не смотреть на свои покрытые коркой крови и грязи руки, достал из-за голенища тщательно сберегаемую деревянную ложку и, пристроив миску на сдвинутых плотно коленях, принялся хлебать жадно и торопливо, почти не жуя и не чувствуя вкуса.
– Ты милай, кашку-то съешь, а хлеб не кусай, припрячь до поры, – опять услышал он голос давешнего деда.
Научившись за короткое время пребывания в зоне ждать от всех вокруг только самого худшего, Иван Михайлович в ответ склонился над миской опасливо и ломоть хлеба рукой прикрыл – не ровен час отберут!
Старичок присел рядом, прямо на землю, выбрав место посуше, и, косясь на писателя, принялся есть свою пайку каши – неторопливо, аккуратно, не роняя ни капли, всякий раз тщательно облизывая ложку.
– Брюхо – оно, грешным делом, добра не помнит, – поучал он тихим голосом. – Вот сейчас нахлебался, и вроде сыт. А через час-другой, глядь, и опять от голода живот подвело. Будто сроду не жрамши. Особливо на ночь есть хочется – прямо удержу нет. Вот тут-то ты заначенный в обед хлебушек и достанешь! Укроешься с головой на нарах – и ням-ням… Благодать! А сейчас ты его с кашей сглотнёшь – и не заметишь. Еда, паря, в неволе – первое дело. Сыт – значит жив. И слава Богу.
– Сдохну я от этой работы, – обречённо вздохнул Богомолов, но хлеб всё-таки прибрал в пришитый к подкладке фуфайки карман, послушал совета.
– Может, и так, на всё, милай, воля Божья, – смиренно согласился старик. – А может, и пообвыкнешься. Сперва всегда тяжело…
Иван Михайлович старательно выскреб ложкой дно опустевшей миски и, досадуя, что дед мешает своими разговорами расслабиться, предаться на полчаса, отпущенных зекам на обеденный перерыв, целиком чувству покоя и недолгой сытости, спросил:
– Вы что-то хотели, любезный?
Тот улыбнулся в бороду:
– Жалко мне тебя, сынок. Я ж тоже таким поначалу был. Все на меня кричали, били да обижали. А таперича нет. Бывало, Пётр верёвки вьёт, а нонче Пётр через Москву прёт! Таперича Гриб, меня Грибом здесь кличут, нужный всем человек. Кому лапоточки на лето сплести, кому носки связать тёплые али фуфайку, одёжку какую перешить, перелицевать – все ко мне. А я не отказываю. Бог, паря, велел нам трудиться. Вот я и тружусь не покладая рук. Чё ж им пропадать, коли они у меня, слава те господи, проворные да умелые!
– Что ж вы здесь… в грязи, с тачкой, а не лапоточки в бараке плетёте? – равнодушно поинтересовался писатель.
– А больного подменил, – охотно сообщил Гриб – Мне-то уж по возрасту поблажка выходит. Освобождение от тяжёлых работ. Семьдесят пять годков уже свет божий топчу. А тут человек занемог. Нарядчик на него: иди на работу! Ну, я и вступился. А бугор говорит: раз добрый такой, вот тачку за него и катай. Я и катаю неделю. Ну ничего… Парнишка тот на поправку пошёл. И мне перед богом за доброе дело зачтётся…
Иван Михайлович с любопытством покосился на деда. Неужто и здесь есть нормальные, добрые люди? Поинтересовался осторожно:
– Давно вы тут?
– А шут его знает… годков сорок, не меньше. Это меня путь Ильича, язви его в душу, сюда завёл. Был, значится, когда-то передовой скотник колхоза «Путь Ильича» Фёдор Пантелеймонович Грибов. Повезли меня в район, дело прошлое, грамоту получать. Как передовика, стало быть, колхозного строя. Ну, опосля торжественного собрания выпили мы, передовики, конечно, по этому случаю. А на обратном пути я, пьяный-то, и кувыркнулся с подводы на грейдере. С дури-то и заблудился в тайге. Плутал-плутал да на лагерный кордон и нарвался…. То ещё при Брежневе, упокой Господи его душу, случилось. Во как, паря, бывает. А и поделом мне! – неожиданно заключил старик. – Посадили, и правильно сделали. Штоб, значится, впредь не пил, не безобразничал.
– Но это же… несправедливо! – возмутился, подозревая с ужасом, что ему предстоит разделить участь пожизненного сидельца бессрочной каторги, Богомолов. – И незаконно. Даже за преступления сроки дают. Пять лет… ну, я не знаю… десять, в конце концов!
– Совецка власть, мил человек, лучше нашего знает, што законно, што – нет. Всяка власть от Бога. И каждому рабу Божьему воздаётся по делам его. А здесь жить можно! Работа – она везде работа. Што здесь, што в колхозе. В лагере зато соблазнов меньше. В Бога верить здесь администрация запрещает, а я всё одно молюсь. У меня тетрадочка заветная есть. Я туда все молитвы, что люди мне сказывают, записываю… «Живые помощи», «Молитва вора»…. Я ту тетрадочку пуще глаза берегу. Не дай Бог вохра прознает – враз отымет!
– Им что, жалко, что ли? – пожал плечами Иван Михайлович.
– Отправление культа считается злостным нарушением режима, – шепнул Гриб. – А только слово Божье запретить нельзя. Мы, христиане, за веру, как Иисус Христос, завсегда готовы на крест пойти…
Гулко загудел рельс.
– Кончай жрать! – заорал бригадир. – Подъём! Половины нормы дневной ещё не выполнено. Бегом, падлы! В бога-душу-мать!
Писатель встал было, но, охнув, схватился за поясницу.
– И-и… – тонко завыл он, не в силах сдвинуться с места. – Не могу-у-… Господи, помоги.
Гриб, опасливо глянув по сторонам, сунул руку за пазуху, и достал пару шерстяных носков.
– На-ка, паря. Подойди и сунь тихонечко бригадиру.
– А что сказать-то? – не сообразив даже поблагодарить старика, спросил Богомолов.
– А ничё не говори. Он не дурак, чай. Сам поймёт и на лёгкую работу тебя поставит.
Так и вышло. Мельком глянув на подношение, бугор усмехнулся понимающе:
– Гриб, исусик хренов, тебя пожалел…. Ну, ладно. Иди, чёрт, к прессу пока, глину подбирать. Да не сачкуй у меня! А то я тебя эти носки сожрать заставлю. Нестиранные!
2
Вечером, в сумраке уже, зеки пошабашили под звон всё того же рельса, но прежде чем строится на просчёт, Ивану Михайловичу пришлось вернуться к своей тачке, очистить её от липкой грязи и сдать лично мастеру – тоже из числа заключённых, но сытому, кругломордому. Придирчиво осмотрев агрегат, крутанув колесо, он презрительно назидал Богомолову:
– Энто, фраерок, струмент сурьёзный, особо ценный. Можно сказать, орудие твоего труда. Тачка лагерная объёмом четверть кубометра. А орудие – оно то же, что оружие у бойца. Ферштейн? И ежели ты, гад, его из строя небрежным образом выведешь, я тебя, шпионская морда, как вредителя и саботажника в кумотдел направлю. А там разговор с такими короткий: за вредительство – к стенке… Найди палочку острую и вот здесь, в щелях, грязь вычисти. Ферштейн?
Сдав тачки, кирки, лопаты и прочий производственный инвентарь, зеки построились на краю карьера, привычно разобравшись по пятёркам.
– Кепки долой! – приказал бригадир.
К выстроившейся колонне подошёл пожилой, прихрамывающий старшина. Фуражечка его с синим энкавэдэшным верхом промокла насквозь от дождя, и по чёрному пластмассовому козырьку скатывались крупные капли. Поправив висевший на правом плече стволом вниз автомат ППШ, он достал из планшета фанерную дощечку с привязанным к ней ниткой огрызком карандаша и, всматриваясь пристально в список, начал перекличку:
– Ю-231!
– Есть, – отозвались в колонне.
– Щ-48!
– Есть!
– Где ты там?! А ну, покажись! Ты весь цел или только голова на палку надета?
– Га-га-га! Ну вы скажете, гражданин начальник!
– Р-р-разговорчики! Ю-85!
– Зде-е-есь!
Пересчитав таким образом всех зеков, по прикидкам Богомолова, человек пятьдесят, старшина скомандовал:
– На-пр-а-во! По пятёркам шагом марш! Первая пятёрка пошла… Вторая пошла…
У хлипких ворот огороженного редкими нитями ржавой колючей проволоки карьера, с внешней стороны колонну встретили остальные конвоиры. Двое автоматчиков расположились по бокам, ещё двое с хрипящими от яростного возбуждения овчарками пристроились в замыкающих. Старшина возглавил шествие, строго предупредив:
– Остановка колонны в пути следования запрещена. Разговоры тоже. Шаг в сторону считается побегом, задержка, топтание на месте, прыжок вверх – провокацией. Конвой открывает огонь на поражение без предупреждения. Внимание! Вперёд… ша-а-гом арш!
Писатель, с трудом волоча ноги в тяжёлой лагерной обувке, мигом набившей ему мозоли, пару раз с непривычки хождения строем наступил на пятки шагавшего впереди крепыша, и тот, слегка повернув голову, просипел злобно:
– Ещё раз, падла, наступишь – я тебе глаза повыковыриваю!
– Извините, – испуганно пробормотал, глядя в его шишковатый, стриженый коротко затылок Иван Михайлович, и тут же услышал окрик конвойного:
– Р-разговорчики! Ща, бля, пасть пулей заткну! – и клацанье передёрнутого затвора.
«Господи, помоги, спаси и помилуй… Дай мне силы выдержать всё это… Господи, заступись, избавь меня от этого ада. Верни меня на свободу, домой, а я тебе, Господи, всю жизнь оставшуюся верой и правдой служить буду…», – в отчаянье, вспомнив наставление Гриба, молился про себя Богомолов, старательно приноравливаясь к размеренному шагу соседей.
Глиняный карьер находился неподалёку от берега неширокой таёжной речушки, впадавшей, как слышал писатель от заключённых, в болото, и располагался примерно в километре от лагеря. Здесь же, на отдалённом объекте, добытую глину прессовали в кирпичи, обжигали в специальной печи. Продукцию грузили на платформу, и вручную толкали по узкоколейной железной дороге в лагерь, используя там для каких-то неизвестных Богомолову нужд.
Узкоколейка тянулась в таёжной чаще, надёжно скрытая от сторонних глаз вековыми соснами и густым, непролазным подлеском, а параллельно ей шла широкая тропа, проторённая, судя по всему, за долгие годы бесчисленными предшественниками писателя, который шагал сейчас по ней в разбитой на пятёрки колонне под строгой вооружённой охраной.
Иван Михайлович закончил только третий рабочий день в лагере, выполняя всякий раз не более трети положенной нормы выработки. Из двухсот тачек, задыхаясь, обливаясь потом, доталкивал до глиномешалки едва ли семьдесят, а потому пайки на ужин – миски каши и ломтя хлеба с мутной бурдой, считающейся здесь чаем, ему и на этот раз, как отстающему, не полагалось.
Достигнув сорокалетия, Богомолов, по сути, нигде никогда не работал и уж тем более не занимался физическим трудом. Даже на даче, единственном для горожанина месте, дающем возможность хоть как-то размять скованные бесконечным просиживанием в конторах мышцы, земли не вскапывал, по той причине, что дачи у него отродясь не было. Из тяжестей ему доводилось переносить лишь сумки с базара, наполненные покупками, сделанными женой, но и эти походы продлились недолго. С женой он вскоре развёлся, потому что семейные хлопоты оказались обременительными и мешали ему исполнять главное своё предназначение – жечь глаголом сердца людей, быть писателем. Занятие литературой требовало от него полной самоотдачи.
О литература! Он любил её бесконечно, трепетно и самозабвенно. Он мог часами – да что там часами – сутками напролёт! – рассуждать о ней, особенно под водочку, с такими же беззаветно преданными писательскому ремеслу друзьями.
В краевом центре их было немного – человек тридцать, пожалуй, единомышленников. Они знали друг друга давным-давно, были примерно одного возраста, от сорока до шестидесяти, кучковались вокруг местного дома писателей, и чужих в свой круг не пускали. Правда, и сами не писали почти – зачем, ведь каждый из них давно застолбил свою тему, свою делянку на ниве словесности, обрёл статус писателя, вступив по публикациям в коллективных сборниках в союз, за долгие годы тусовок на различных презентациях примелькался публике и обойти его при назначении грантов или творческих стипендий казалось теперь верхом неприличия, проявлением неблагодарности со стороны краевой власти и читательской аудитории.
За много лет, проведённых в довольно узком кругу, они успели тихо возненавидеть друг друга, но продолжали держаться вместе, ибо закон природы таков: в стае прокормить себя легче. Они давно притерпелись, притёрлись, как патроны одного калибра в обойме, и немедленно отторгали тех, кто вдруг из этого калибра выпадал – умудрялся, например, выпустить книгу, прорвав блокаду столичных издателей. Выскочку клеймили дружно, взахлёб, объявляя графоманом и конъюнктурщиком, литературным подёнщиком и халтурщиком, посмевшим потрафить невзыскательным вкусам нынешней читающей публики. Ибо давно известно, что настоящих писателей сегодня не издают, отдавая предпочтение создателям низкопробной масскультуры.
Писатели в краевой обойме, как те же патроны, например, бронебойные и трассирующие, подразделялись на урбанистов и почвенников. Богомолов, хотя и был с рождения горожанином, с полным правом примыкал к последним. Это право он заслужил, выстрадал, можно сказать, проведя после окончания пединститута три кошмарных месяца в сельской школе, куда его направили преподавать по распределению. За это полное невзгод время он успел несколько раз истопить печь, однажды съездил по бездорожью на попутном тракторе «Беларусь» в райцентр и хорошо узнал жизнь русской деревни, стал человеком бывалым, много повидавшим на своём веку, прежде чем навсегда вернуться в город. И с тех пор новым знакомым он представлялся: «Богомолов. Бывший сельский учитель, а ныне – писатель…»
С такой богатой биографией его давно заявленный роман «Пуд соли» обещал стать событием в литературе, и это вынуждены были признать все друзья-недруги, собратья по нелёгкому писательскому ремеслу…
От этих воспоминаний у Ивана Михайловича будто сил прибыло. Он бодрее зашагал в колонне под лай конвойных собак, и в голове его привычно стала складываться первая забойная фраза, гениальная в чеканной своей простоте. Фраза ненаписанного пока романа: «Человек шёл по тайге напрямки, не разбирая дороги…»
Ему вспомнились литературные вечера, которые по разнарядке краевого управления культуры проводились то в библиотеках, то на предприятиях города, когда они, писатели, читали свои стихи и рассказы, а немногочисленная, как правило, публика слушала вежливо, аплодировала в конце, и все после таких вечеров оставались довольны. Чиновники тем, что запланированное культмассовое мероприятие состоялось, литераторы – полученным за выступлением гонораром, слушатели – приобщением к чему-то экзотическому, вроде японского театра теней. Столь же непонятному, скучному, но познакомится с чем, раз считаешь себя культурным человеком, обязан…
Иногда такие встречи заканчивались застольем с организаторами в узком кругу, и боже ж мой, что они ели! И бутербродики с красной икрой и маслянистыми шпротинками, под майонезом, и колбаску с ветчинкой, и салатики с яичком да крабами и, конечно же, всё под водочку, а то и коньячок с лимончиком да копчёной курочкой… Не ценил, сукин сын, что имел, не ценил!
Богомолов украдкой смахнул набежавшую невольно слезу.
– Шире шаг! – вернул его к ужасной действительности окрик начальника конвоя. – Не успеете в лагерь до темноты – всех, гады, положу здесь до утра мордой в грязь на дороге!
Зеки припустились резвее, и Иван Михайлович, постанывая при каждом шаге от боли в стёртых до костей, как ему казалось, ступнях, зачастил вслед за всеми, сосредоточив на мучительной ходьбе всё внимание – чтоб не отстать или, упаси боже, не наступить ненароком в очередной раз на пятку злобному крепышу впереди.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































