Текст книги "Аномальная зона"
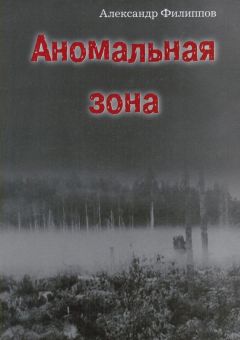
Автор книги: Александр Филиппов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 45 страниц)
6
Удивительно, но и на том свете, где Богомолов оказался вскоре после того, как два злобных старика в гимнастёрках с засученными рукавами молча и сосредоточенно избивали его, пока не убили совсем, писателя встретил ангел с лицом уркагана. Облачённый в традиционные для райских кущей белые одежды, слуга господа щерился в ухмылке, поблёскивая вульгарной золотой фиксой на верхнем клыке. Взмахнув лебедиными крыльями, он поприветствовал новопреставленного с издёвкой:
– Салют, фраерок. С возвращением. А мы уж решили, что ты совсем копыта откинул…
Иван Михайлович ощутил вдруг тупую, нестерпимую головную боль и понял сразу, что никакой перед ним не ангел, а санитар лагерной санчасти в накинутом на плечи белом медицинском халате, и он, Богомолов, не на том свете, а, к сожалению, всё ещё на этом, и не на облачке воздушном невесомо парит, а лежит на железной больничной койке, укрытый до подбородка колючим, пахнущим карболкой и потными ногами предшественника, одеялом.
Виски ломило, в затылке пульсировало, будто нарыв гнойный там назревал, и писатель, выпростав из-под одеяла слабую руку, прикоснулся ко лбу, нащупав толстую марлевую повязку.
– Крепкая у тебя башка, Гоголь, – одобрительно кивнул санитар. – Такой тубарь об неё раскололи в щепки! Когда меня кумовья вызвали, я на тебя посмотрел – думал, кранты. Голова разбита, стены, пол – всё в кровище. И Выводёров орёт на своих: дескать, на хрена вы его укокошили! Он, ты то есть, грит, ещё не всю информацию слил! Но ты молодец. Даром что писатель! Голова у тебя умная, кость крепкая, вот и сдюжил. На этот раз. Но будет и другой. Поэтому, – он склонился, зашептал раненому в ухо, обдав его зловонным дыханием, – не выпендривайся, героя из себя не строй. Здесь не таких обламывали. Я-то знаю, что говорю. Насмотрелся. Тубарем не достали, в следующий раз киркой по жбану приложат – и наше вам с кисточкой! Ты просекаешь, что я тебе говорю?
Богомолов кивнул, и голова взорвалась болью. Он застонал протяжно и жалобно.
– Короче, слухай тогда. Сейчас к тебе кум придёт, разговор продолжит. Не запирайся. Колись по полной. Тогда жив останешься.
– Да я… Так они же бред какой-то несут… Сообщников назвать требуют… которых отродясь не было… – превозмогая себя, пожаловался писатель.
– А ты думаешь, мы тут все не по бредовым обвинениям паримся? – усмехнулся санитар.
И Богомолов понял вдруг, что никакой перед ним не уркаган, а вполне разумный мужик, загремевший сюда, как и он, по абсурдному обвинению, но пообвыкшийся, вписавшийся вполне в лагерное общество, принявший правила игры и неплохо, по здешним понятиям, устроившийся.
Не в силах пошевелить налитою болью головой, Иван Михайлович вместо кивка моргнул согласно: уразумел, мол, спасибо.
Ангел-санитар взмахнул прощально халатом-крыльями и покинул палату, оставив избитого писателя наедине с тяжёлыми, словно расплавленный свинец, мыслями.
Если бы два жутких старика, беспощадно молотя Богомолова мосластыми кулаками по самым чувствительным местам – печени, почкам, паху, – задавали ему вопросы, требовали оговорить себя и приятелей, он бы, наверное, не выдержал и сдался, всё подтвердил и при необходимости подписал. Но били его молча, без остервенения, деловито и профессионально, будто работу исполняли привычную и порядком поднадоевшую. А напоследок оглушили табуретом по голове, чтоб не сведения выпытать, а просто сломать, растоптать, унизить, довести побоями до скотского состояния…
И тем не менее, думал Иван Михайлович, он должен выдержать, сохранить себя в этом аду. Не как индивидуума, личность, а как творца-летописца, свидетеля. Да, он в отрочестве не раз повторял за другими, что в жизни всегда есть место подвигу. И сейчас он может молча, с достоинством, погибнуть в этих застенках. Обидно, конечно, что никто не узнает о том, как стойко он перенёс все страдания и мужественно встретил смерть от рук палачей. Всё это так. Но беда в том, что он не может, не имеет права позволить себе погибнуть! В такой ситуации судьбе Александра Матросова, закрывшего грудью вражескую амбразуру, или Николая Гастелло, направившего свой горящий самолёт на колонну фашистской техники, можно только завидовать! На миру, как говроится, и смерть красна. Они что? Простые парни, которые родились и выросли для того, чтобы исполнять всё предназначенное рядовому гражданину, – трудиться, служить в армии, а в случае войны – защищать Отечество. И, если так сложится, помереть. Выжили бы – стали после войны слесарями, шоферами, плотниками какими-нибудь. Может, со временем и вовсе спились или в тюрьму угодили – мало ли таких случаев! Но он, писатель, не может позволить себе такой роскоши – быть как все. У него – высокое предназначение. Он живёт не для себя, а для всего человечества. Ради высокой цели нередко приходится жертвовать малым. Искать компромиссы…
Выкрашенная грязно-белой краской дверь одноместной палаты отворилась. Вошла женщина – высокая, статная. Медицинский халат, стянутый на талии пояском, лишь подчёркивал её фигуру, которая при других обстоятельствах вызвала бы восхищение Богомолова и живой мужской интерес. Сейчас же он лишь мимолётно определил её профессиональную принадлежность по фонендоскопу на высокой груди и произнёс, превозмогая боль:
– Здравствуйте, доктор…
– Гражданин доктор, – строго поправила его врач. – Как себя чувствуете, больной?
– Плохо… голова прямо раскалывается…
– Ну-ну, – равнодушно кивнула женщина.
Нагнувшись, она взяла Ивана Михайловича за руку, нащупала на запястье пульс, поддёрнув рукав халата, обнажила маленькие дамские часы и принялась считать про себя, шевеля молча губами и смотря в циферблат.
Следом за ней в палату протиснулся молодой офицер с погонами старшего лейтенанта на затянутом портупеей кителе.
– Брадикардия.. – задумчиво произнесла докторша.
– Это… что значит? – встревожено спросил писатель.
– Я не тебе говорю, – бросила на него презрительный взгляд врач и повернулась к вошедшему: – Сотрясение головного мозга. Ничего страшного. Больной адекватен, способен отвечать на вопросы. Можете приступать.
Старший лейтенант вытянулся перед ней по швам, галантно прищёлкнул каблуками:
– Благодарю вас, товарищ майор медицинской службы. Дозвольте ручку поцеловать?
– Валяй, – снисходительно улыбнулась докторша, царственно протянув ему руку с унизанными множеством перстней пальцами. – Только по башке этого доходягу, если хочешь получить от него какие-то сведения, больше не бей. В ящик сыграть может.
– Так точно! – смачно чмокнув её холёную кисть, доложил старший лейтенант.
Докторша, гордо вскинув голову и обозначив точёный, как на древнеримской камее, профиль, вышла. А офицер, пододвинув к себе ногой табурет, сел возле койки Богомолова. Достал из кармана толстый блокнот, перьевую авторучку и, пошелестев страницами, представился:
– Я оперуполномоченный старший лейтенант Пискунов. А вы у нас…
– Богомолов. Иван Михайлович.
– Это пусть вас так папа с мамой зовут, – строго смотря писателю в глаза, проговорил опер. – А для меня вы… – он глянул в блокнот, – заключённый Э-115. У меня и обстоятельства травмы записаны. Упал в бараке во сне, вниз головой с нар. Верно? – испытующе уставился он на Ивана Михайловича.
– Ну… да… в общих чертах, – промямлил тот.
– И майор Выводёров, насколько мне известно, по поводу этого происшествия с вами уже беседовал…
– Э-э… не после, а до того, – уточнил Богомолов.
– Какая разница? – пожал плечами, блеснув звёздами на погонах, старлей. – Главное, что администрация лагеря знает об этом инциденте. Тюремная жизнь особенная. Чаще всего у нас заключённые не по своей воле головы себе разбивают. Но, знаете ли, иногда им это идёт на пользу. Просветление наступает. Особенно у тех, кто с подрывными целями к нам заслан. У иностранных шпионов.
– Я не шпион, – торопливо оправдался Богомолов, но, вспомнив о том, что должен сохранить себя для человечества, ради потомков, поправился: – Не иностранный, то есть. Я гражданин России.
– Россия-ни-и… – презрительно скривив губы, процедил опер. – Развели демократию, идеалы Октября за колбасу заморскую, за жратву продали!
– Я не продавал, – жалко улыбнулся Иван Михайлович. – То есть… не нарочно. Меня обманули, сбили с пути, опутали…
– Кто? – встрепенулся старлей.
– Попутчик. Этот, как его… Японский шпион Фролов. Но это я только теперь узнал, что он японский шпион. А до того, как вы мне глаза раскрыли, считал, что он обыкновенный милиционер. А он мне, шпион то есть, и говорит: пойдём, говорит, в тайгу. Мне, говорит, надо выяснить, кто золото незаконно в Гиблой пади промышляет…
– А вот с этого места подробнее, пожалуйста, – насторожился опер. – Он говорил, откуда про золото знает, про то, что здесь его добыча ведётся?
– Да не-е… У них же всё секретно, у шпионов-то. Особенно японских. Он при оружии шёл. С пистолетом. Ну, и нам не рассказывал ничего, мне и Студейкину то есть, к кому идёт и зачем…
– А второй, Студейкин?
– Этот, гражданин начальник, тоже подозрительный тип. Всё снежного человека искал. А я думаю – врёт. У него и шпионская аппаратура имелась – фотоаппарат, карта, компас…
– Ну-ну, – кивал поощрительно старлей, быстро записывая в блокнот околесицу, что нёс ему перепуганный до смерти Богомолов.
Четверть часа спустя оперативник с удовлетворением захлопнул блокнот:
– Хорошо, Иван Михайлович. Рад, что мы в вас не ошиблись. Мне майор Выводёров так и сказал, посылая к вам на беседу. Мол, чую я, что где-то в глубине души он наш человек! Хотя и писатель.
– Да какой я писатель! – покаянно всхлипнул, утирая рукавом больничной пижамы набежавшие некстати слёзы, Богомолов. – Так, балуюсь иногда…
– Ничего, писатели нам тоже нужны, – снисходительно кивнул старший лейтенант. – Мы здесь, в лагере, можно сказать, последний оплот советской власти отстаиваем. В неравном бою – у нас каждый штык на учёте. Вот и давайте вместе, плечом к плечу, в одном строю утверждать светлые идеи всеобщего равенства и свободы, защищать трудящихся от гнета капитализма! Предлагаю вам, как бывшему чуждому элементу, надеюсь, твёрдо теперь вставшему на путь исправления, искупить свою вину перед обществом добросовестным сотрудничеством с оперчастью!
– Я согласен, – дрогнувшим от волнения голосом воодушевлённо сказал писатель и даже, пересилив слабость, приподнялся с подушки…
Он окрыленно подумал, что после этого разговора у него начнётся другая жизнь. Его наверняка заберут из тоскливого, провонявшего лекарствами лазарета, признают своим и примут в ряды вохры, накормят, переоденут в форму, присвоят специальное звание – сержанта, к примеру, а то и, бери выше, лейтенанта дадут, у него же «верхнее» образование всё-таки, а это не хухры-мухры, офицерский чин полагается. И берегись тогда, бригадир с дубьём! Лейтенант Богомолов тебе, суке, лично именную тачку вручит, самую тяжёлую, объёмом с полкуба, чтоб колесо заржавленное непременно, некрутящееся и некатящееся…
– Согласен выполнить любое ваше задание! – сел, скрипнув пружинами койки, Иван Михайлович.
Старший лейтенант одобрительно посмотрел на него:
– Вы в партии состояли?
– В какой? – брякнул писатель, а потом спохватился: какая же может быть, по понятиям этого чекиста, партия, кроме ВКП (б): – Нет, – с сожалением качнул он травмированной головой. – По возрасту не успел. Перестройка, знаете ли, грянула, всё посыпалось. А вот комсомольцем был.
– Хорошо, – серьёзно кивнул опер. – А раз так, то должны помнить: комсомолец всегда, при любых обстоятельствах, должен оставаться надёжным помощником партии! Бывших комсомольцев, как и коммунистов, не бывает. И вам, комсомолец Богомолов, в этих непростых, прямо скажем, тяжёлых условиях партия поручает задание особой важности. Помните, как в Великую Отечественную войну наши разведчики проникали глубоко в тыл врага, работали в подполье, внедрялись в структуры вермахта и собирали ценную для советского правительства информацию? Вот и вам, Иван Михайлович, предстоит в качестве глубоко законспирированного агента, нашего секретного сотрудника, жить и работать среди заключённых. Вы будете собирать интересующую нас информацию и сообщать нам о процессах, происходящих в бригаде, своевременно сигнализировать о подрывной деятельности отдельных осуждённых, о фактах антисоветской агитации и пропаганды, случаях саботажа, членовредительства, готовящихся побегах и преступлениях…
– Пристукнут они меня, – обречённо понурился писатель, надежды которого вырваться из барачного ада развеялись, как утренний туман над болотом. – Да и работать на карьере я не смогу. И раньше еле управлялся с тачкой, а теперь… – потрогал он демонстративно повязку на голове, – тем более…
– С трудоустройством мы порешаем, – обнадёжил его старший лейтенант. – Жить будете в бараке, а работать – в библиотеке. У нас там как раз вакансия есть. Для писателя. Да, вот ещё. Небольшая формальность. – Он извлёк из блокнота сложенный вдвое листок с машинописным текстом и протянул Богомолов.
– Что это? – щурясь, силился рассмотреть сливающиеся строчки Иван Михайлович. После удара по голове у него помутилось в глазах, да так до сих пор и не прояснилось до конца.
– Соглашение о сотрудничестве с оперчастью. Дело в том, что, как негласный агент, вы будете получать от нас дополнительное вознаграждение – продукты питания, чай, махорку за каждое ценное сообщение. Но, как говорил Ильич, во всяком деле – главное, учёт и контроль. Вот, распишитесь здесь, – вручил он листок Богомолову.
Тот царапнул завитушку рядом с галочкой в нижней части страницы.
– Порядок, – мельком глянув на его подпись, кивнул оперативник и спрятал бумагу в блокнот. Взамен откуда-то из недр карманов галифе он вытащил целую, запечатанную пачку махры. – Вот, возьмите аванс. Табак здесь самая ходовая валюта, что угодно выменять можно. Жду от вас сообщений.
Богомолов взял махорку и, повертев в руках, спрятал за пазуху. А потом неожиданно для себя сказал:
– У меня есть одно сообщение. Заключённый нашей бригады по кличке Гриб религиозный культ отправляет. А тетрадку с молитвами на себе в потайном кармане робы прячет…
– О-о?! – поднял брови «кум». – Этот старый хрен опять за своё? Распространяет, понимаешь, опиум для народа! Молодец! – похлопал он по плечу писателя. – Я же говорю – наш ты человек. Советский!
И вышел.
7
После выписки из лазарета Иван Михайлович вскоре понял, что чем оглушительнее слава, тем быстрее она проходит.
За время нахождения в больничке неизвестные, наверняка, впрочем, из числа бывших поклонников, обчистили его «сидор» в каптёрке, где в пору повального увлечения поэзией Богомолова скопилось немало подношений от благодарных слушателей: несколько замуток чая и завёрток махры, мешочек сухарей, пара-тройка кусочков пилёного сахара, нитки, иголки, смена нижнего белья.
Мало того что зеки, ещё вчера рукоплескавшие его творчеству, сделались к нему равнодушными, так ещё и злорадствовали по адресу развенчанного кумира. А бригадир, не приглашавший более писателя посидеть вечерком в тесной компании сук и блатных у печки, даже удивил несказанно, сочинив что-то вроде пародии и выдав её при случае Богомолову с гадкой ухмылкой:
Я был назначен куморылым,
Стукач на зоне – царь и бог…
И хотя Иван Михайлович ни на мгновение не забывал, что стихи читал этим людям не свои, а чужие, всё равно было обидно до отчаянных слёз.
Столкнуться с Грибом ему, слава богу, больше не довелось. Из разговоров обитателей барака он узнал, что старика с религиозной литературой замели в БУР на три месяца. Там дед вскоре простудился и умер. Так что с этой стороны для писателя всё сложилось удачно.
Но особенно повезло Богомолову с новой работой.
Оперативник сдержал слово, и сразу же после выписки из стационара Ивана Михайловича стали занаряжать в лагерную библиотеку. Располагалась она на территории жилой зоны, в непосредственной близости к вахте, была отгорожена от остальной территории штакетником, и зеков в неё без особого распоряжения начальника культурно-воспитательной части подполковника Клямкина не пускали.
Заведовал библиотекой заключённый в возрасте хорошо за пятьдесят, желчного вида, иссушенный собственным раздражением, по кличке Культяпый. Прозвищем своим он обязан был, вероятно, правой руке, которая, не слушаясь хозяина, вольно болталась вдоль туловища, а сведённые судорогой пальцы образовывали фигу, которую библиотекарь, не без усилия подняв здоровой рукой парализованную, по малейшему поводу демонстрировал окружающим.
Впрочем, встретил он Богомолова хотя и без радушия, но и неприязни не выказал. Осмотрел головы до ног:
– Писатель? Ну-ну, – и поджал губы скептически.
Странно, но литературу Культяпый, вопреки своей должности, терпеть не мог. Относился к книгам так, словно кладовщик, к примеру, складом лакокрасочных изделий заведующий к банкам с краской. Главным критерием хорошей работы для него являлась сохранность книжного фонда. Но не как кладезя знаний, а как источника вожделенной бумаги на самокрутки, столь дефицитной в лагере.
– Замполиту-то чё, – объяснял он сердито Ивану Михайловичу, – подвалит к нему под хорошее настроение чёрт какой-нибудь или придурок лагерный: дескать, гражданин подполковник, дозвольте библиотеку посетить, давно «Очерки истории ВКП (б)» под редакцией Иосифа Виссарионовича не перечитывал… Ну разве ж чекист-воспитатель в такой просьбе зеку откажет? А тот, падла, только и думает о том, как несколько страниц из книжки на курево вырвать! А то и, если повезёт, да мы с тобой хлебалом прощёлкаем, целый том стибрить! У меня однажды такой шустряк «Цусиму» Новикова-Прибоя спёр. А в ней восемьсот страниц! Так эта сволочь, по листочку торгуя, озолотилась! Одну страничку на замутку чая или горсть табака менял! Пока я эту гниду выследил, он первую половину книги скурил. Новикова, блин, в дым спалили, один прибой остался!
И было понятно, что наплевать ему и на писателя, и на «Цусиму» его, а досадно, что не укараулил, а может быть, что самому не удалось удачно торгануть дефицитной бумагой.
Библиотека была небогатой, тысячи три, не больше, томов, проштампованных печатями ОГПУ и НКВД. Как водится, львиную долю её составляли многотомные сочинения Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Маоцзэдуна. Фонд художественной литературы и вовсе невелик: Максим Горький, Владимир Маяковский, Константин Паустовский, Борис Полевой. Из экзотики – собрания сочинений Ромена Ролана и почему-то Рабиндраната Тагора, томов тридцать, не меньше.
После всего пережитого – барачного быта с его дикими нравами, каторжной работы в карьере и головоломных бесед в оперчасти – Иван Михайлович в библиотеке почувствовал себя, словно святой после мученической кончины в раю. Он с трепетом перебирал распухшие от пыли и времени тома, любовно ласкал их, протирая тряпочкой, и периодически замирал в экстазе, ощущая в руках солидную тяжесть толстовской «Анны Карениной» или «Угрюм-реки» Шишкова огизовского издания.
А потому прагматичное отношение Культяпого к книгам его коробило.
– Вы, друг мой, совершенно не любите литературу, – в волнении укорял он своего начальника. – Неужели вас абсолютно не волнует осознание того, что в каждом томе, хранящемся на этих полках, сконцентрирован невероятный, огромный объём информации, чувств, мыслей величайших людей всех времён и народов? Да, признаюсь, в своё время, будучи студентом, я филонил на лекциях, посвящённых марксизму-ленинизму, политэкономии, истории КПСС и прочей философии. Но теперь даже Маркса читаю с наслаждением, второй том «Капитала» штудирую. И знаете, ловлю себя на мысли, что всё это мне крайне интересно!
Культяпый, посасывая цигарку, свёрнутую из страниц специально приспособленного под это дело «Последнего из удэге» Александра Фадеева, косился хмуро на восторженного Богомолова и молчал. А потом его прорвало:
– Кладезь мудрости, говорите? «Капитал» Маркса читаете? А возьмите-ка «Историю семьи и государства» Фридриха Энгельса. Это, блин, ваще детектив! Криминальное чтиво! Или «Как нам реорганизовать Рабкрин» Ленина. Мелодрама! Слезу вышибает! За одним «но». На хрена это всем нужно? Как, впрочем, и толстые ваши вкупе с достоевскими и прочей мутотенью!
– Как… как муто… мато… – задохнулся от негодования Богомолов. Он тоже судорожно закурил, но бумагу рвал из «Справочника штукатура-маляра» 1949 года издания, считая, что использовать для этой цели художественную литературу – кощунство. – Великий Толстой для вас – мутотень?! – писатель возмущённо всплеснул руками, рассыпав по столу горящие табачные крошки. – Да вы знаете, что Лев Николаевич переписывал «Анну Каренину» двенадцать раз?! Вы только представьте – от руки, сотни тысяч страниц, миллионы букв! Даже механически это каторжный труд. А он ведь ещё и напряжённо думал!
– Ну и флаг ему в руки, – цинично усмехнулся Культяпый. – Думал он, вишь ты… Индюк тоже думал, да в суп попал!
– Нет, я не могу, – схватился за сердце Иван Михайлович. – Ну, хорошо… Я понимаю… Эти… барачные дикари, которые только о жратве думают да мечтают чифирем до смерти упиться, но вы… человек с высшим образованием…
Культяпый докурил чинарик, раздавил его о дно порожней консервной банки, заменявшей пепельницу, и, перестав скалиться, заговорил серьёзно, косясь на Богомолова недобро из-под кустистых бровей:
– Вот вы, гражданин писатель, здешних барачных дикарей изволили упомянуть. Дескать, они к высокой литературе не восприимчивы. Но этим-то хоть простительно. Их родной дом – тюрьма. А те, что на воле, граждане современной России? Они, по-вашему, классикой зачитываются? Да ничего подобного! Их от телевизора не оторвёшь. И там они отнюдь не информационно-аналитические передачи смотрят, а дрянь какую-нибудь развлекательную. Что там у вас показывают сейчас? «Аншлаг» всё идёт? У-у… быдло, терпеть не могу!
Иван Михайлович в изумлении уставился на гостя:
– Вы… вы народ ненавидите?
– Ненавижу! – решительно подтвердил Культяпый. – А потому и считаю, что это, – кивнул он на книжные полки, – метание бисера ни к чему. Да поймите же вы, инженер человеческих душ, сколько сотен… да что сотен – тысяч лет сеют в народе доброе, разумное, вечное писатели, философы, священники в конце концов… А что произрастает? Колючий чертополох! Угадайте с первого раза, куда больше сбежится народу – на выступление скрипача-виртуоза или на голых актёров, которые начнут прилюдно совокупляться на сцене? На оперного певца или на группу безголосых обкуренных рокеров, разбивающих гитары об головы друг друга? Не-ет, человека, даже образованного, непременно тянет в дикость, в дерьмо. Вот вы говорите – прогресс, – обличающе ткнул он пальцем в Богомолова. И хотя тот ни о каком прогрессе и словом не обмолвился, кивнул замороченно головой. – Прогресс…, – скривился, как от зубной боли, Культяпый. – Я, прежде чем сюда попасть, на этот прогресс насмотрелся. Появились первые видеомагнитофоны в семьях. Что наш народ кинулся переписывать друг у друга да жадно смотреть? Балет «Спартак»? «Андрея Рублёва» Тарковского? Да нет, порнуху. А когда компьютеры распространились, в Интернете знаете какой информации больше всего содержится? Мне один знающий человек сказал: девяносто восемь процентов сайтов – те же порнографические. Эх, мне бы, дураку, раньше это понять…
Иван Михайлович увидел в его глаза всё то же присущее библиотекарю выражение злобно-безысходной тоски.
– Раньше… чего? – осторожно поинтересовался писатель.
– До того, как дурость собственная да вера в разум человека, в его порядочность, меня сюда привели!
И он поведал Богомолову историю своего заточения в лагерь.
Оказывается, Культяпый, в миру Владимир Григорьевич Новичков, был прежде восторженным, непоколебимым, упёртым даже коммунистом. Не изменил он своим убеждениям и после августа 1991 года. Бывший инструктор райкома не сжёг, как другие перевёртыши, партбилета, не клеймил на демократических митингах советскую власть, а вступил во вновь образованную КПРФ и с гордостью носил навешенный на него и соратников либералами ярлык красно-коричневых патриотов.
Когда же в 1996 году подошли президентские выборы, и появилась реальная возможность мирным путём избавить страну от Ельцина, он с жаром включился в избирательную компанию.
Взяв на вооружение хлёсткий слоган «Вместо Борьки пьяного выберем Зюганова», он в составе агитбригады крайкома КПРФ прибыл в Острожский район.
Ельцинская камарилья бросила на избирательную кампанию гаранта своей безопасности и безбедного, сытого существования у всероссийской кормушки миллиарды долларов. Понятно, что у коммунистов таких денег и в помине не было. А потому они избрали менее затратную и более доходчивую пропагандистскую тактику, прозванную политтехнологами «из двери в дверь». Агитбригада КПРФ ездила по деревням, собирала на площадях, где-нибудь возле сельпо митинги, крутила усиленные динамиком песни советских лет, записанные на магнитофон, раздавала листовки и брошюрки с речами Зюганова, газеты «Советская Россия» и местную «Таёжная правда», органом издания которой был краевой комитет компартии.
В глухих деревнях агитаторов встречали не то чтобы негостеприимно, а без особого интереса. Хмурые, заросшие по самые брови седыми бородами лесовики выходили из своих рубленых изб, почёсывались под серыми домоткаными рубахами, молча и тяжело глядя на распинавшихся перед ними коммунистов, а бабы и вовсе не показывались на глаза, посматривая из-за плетней, густо заросших дикой малиной и черёмухой.
Но в одной, стоящей на краю села, на отшибе, избе, агитаторов охотно приветили. Хозяин – огромного роста, могучий мужик пригласил их в горницу, где рядом с божницей, в красном углу, висели портреты Ленина и Сталина, навалил на стол нехитрую, но сытную снедь – яишницу со свиными шкварками на сковороде величиной с автомобильное колесо, тушёную зайчатину, черемшу и клюкву в алюминиевых мисках, а под конец водрузил в центр аппетитного натюрморта огромную бутыль мутноватого самогона.
Коммунисты, коим ничто человеческое не чуждо, нарезались до беспамятства, опустошив четверть, вспоминали пьяно советскую власть, жалели о тех временах, потом уснули беспробудным сном в избе у единомышленника, а проснулись уже в лагере.
– Ну народ-то здесь при чём? – допытывался, сочувственно выслушав Культяпого, Богомолов. – Вас же, можно сказать, однопартиец – коммуняка сдал! Небось ещё и деньги от здешней вохры получил за то, что новых зеков, как рабов, доставил!
– Вы не поняли, – поморщился завбиблиотекой. – Не на лесовика того, что наше желание вернуть нам социализм буквально исполнил. Не на лагерную администрацию я зол. А на долбанный наш народ, за то, что в 1996 году он Ельцина поддержал. Скажите, как можно было после того, что наворотил этот подонок, у власти его оставлять? После развала СССР, расстрела Белого дома в октябре девяносто третьего? А я вам скажу, почему. Потому что россиянам порядки его понравились. Не хочешь работать – не работай. Желаешь воровать – воруй, ничего за это тебе не будет. Живи в своё удовольствие на халяву, ни о чём не думая, ни за что не отвечая… Не-ет, правильно Сталин поступал. И сейчас надо миллионов десять, не меньше, в такие вот, как этот, лагеря загнать. Дать им тачку, кайло в руки, и пусть вкалывают на благо Родины. Глядишь, дурь-то демократическая и повыветрится. И остальная страна в чувство придёт. А то расслабились, сукины дети, на газовых да нефтяных долларах, проедают и пропивают, мать их, богатство национальное, за счёт будущих поколений жируют… Но мне обидно из-за того, что поздно я это понял, большую часть жизни на этих мудаков положил. Всё ждал, когда наконец массы осознают своё высокое предназначение, до коммунизма дозреют… Хер они когда до него дозреют, если их кнутом туда не загнать!
– Ну… насильно мил не будешь, – пожал плечами писатель.
– Ещё как будешь! У нас кого народ уважает и добром и через сотни лет вспоминает? Да тех, кто его порол беспощадно, головы ему рубил, из тачанок расстреливал, в лагерях гноил. Ивана Грозного, Петра Первого, Ленина, Сталина… А убери плеть – и что? Когда председатель колхоза их на работу гнал, стучал кнутовищем в окна – вскакивали как миленькие и пахали за милую душу. И сыты все были, и детей обували-одевали, и по путёвкам оздоровляться в санатории ездили. Убрали председателя с кнутом, и колхозники поспивались все к чёртовой матери! Я, кстати, об этом хозяину здешнему так и сказал, полковнику Марципанову. Правильно, говорю, вы народ в лагерь загнали. Целее будет! Ну, он меня и поставил библиотекарем. А книги я терпеть не могу. От них гуманизмом за версту смердит. А в гуманизме да либерализме и есть настоящее зло!
Входная дверь в библиотеку заскрипела пронзительно. Библиотекари вскочили из-за стола. Культяпый успел убрать дымящуюся банку с окурками.
В помещение, пригнувшись под косяком, вошёл начальник КВЧ подполковник Клямкин.
– Фу, накурили как… Вы мне книжный фонд не спалите! – добродушно попенял он. А потом обратился участливо к Богомолову: – Ну, как, освоились на новом месте?
– Так точно, гражданин начальник! – преданно выкатив глаза, отрапортовал тот.
– Прекрасно, прекрасно… Я, знаете ли, ваши стихи прочёл. Мне… гм… о них доложили. Некоторые, скажу откровенно, за душу берут. «Я сибирского рода, я ел хлеб с черемшой, я плоты… э… мне… там-та-ран-там…. гонял как большой…»11
Стихотворение Е. Евтушенко.
[Закрыть] Или вот это: «Меж болотных стволов красовался восток огнеликий. Вот наступит сентябрь, и потянутся вновь журавли…»22
Стихотворение Н. Рубцова.
[Закрыть] Великолепно!
Но стихи есть стихи. Лирика, понимаешь. А у нас с вами, пропагандистов, есть и более серьёзные, масштабные, прямо скажу, задачи.
Иван Михайлович вскинул брови, подался вперёд и изобразил на лице готовность выполнить любое задание руководства.
– Нам писатели здесь нужны. Жаль, что вы, мастера пера, нынче редко к нам попадаете. Раньше, старики рассказывают, вашего брата чаще сажали. И у нас никаких проблем ни со стенгазетами, ни с многотиражками не было. От желающих за пайку стишок к дате революционной скропать или памятный адрес юбиляру-чекисту сочинить отбоя не был. А нынче… – Он с сожалением махнул рукой. – Ну, да ладно. Воюют не числом, а умением. А вы у нас – во! Талантище! Матёрый, можно сказать, человечище! Короче, надо будет вам к ноябрьским праздникам пьеску написать.
«Приплыл…» – с ужасом пронеслось в голове Богомолова. Но вслух он произнёс, выговаривая слова солидно, весомо, словно в родном Доме писателя с коллегами о нелёгком своём ремесле рассуждал:
– Надо будет подумать… А по тематике о чём эта вещь должна быть?
– Да по нашей тематике. Лагерной, – охотно объяснил подполковник. – У нас же театр здесь свой. И для осуждённых, и для администрации, жителей посёлка спектакли разыгрываем. Да пьесы все старые. Тренёв «Любовь Яровая» да «Свадьба в Малиновке». Надоело всем. Актёры ещё только на сцену выходят, а из зала им уже реплики подают. Пора репертуарчик сменить. Я тут на досуге полистал книжки – ну, Островский там, «Гроза» да «Бесприданница». Старорежимное всё. Неактуальное. А мне нужно, – загорелся глазами он, и чахоточный румянец ярко запылал на его ввалившихся щеках, – что-нибудь эдакое… остросовременное… И чтоб воспитательный момент присутствовал. Одна пьеса, скажем, для заключённых…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































