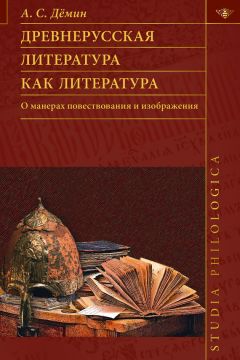
Автор книги: Анатолий Демин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц)
Еще некоторые концовки (фраза, завершающая речь персонажа, или упоминание автора о прекращении рассказа «от множества ради» фактов и т. д.) вносили свою лепту в градацию событий. Конечно, в «Галицко-Волынской летописи» хватало эпизодов и без отчетливых концовок.
В итоге, если брать, по нашим наблюдениям, преобладавшие литературные тенденции у летописцев, то на материале летописных концовок можно заметить эволюцию древнерусского летописания в отображении реальности в течение ХI–ХIII вв.: летописцы сначала искали стабильные принципы бытия; затем отказались от их поисков под напором разнородных фактов; однако потом все-таки стали тяготеть к систематизации типичных явлений жизни.
И последнее замечание о концовках в летописях ХII–ХIII вв. В тексте «Новгородской первой летописи» старшего извода из-за лаконичности сообщений в большинстве случаев эпизоды заменили одна-две фразы о том или ином событии. Последние же фразы сравнительно длинных летописных статей до первой трети ХIII в. все же иногда напоминали концовки, но фактографические – они обычно сообщали о поставлении или назначении персонажей на важный пост (либо о захвате его), о дороговизне еды, об удачности мелких походов или о неудачах из-за наших грехов. Концовки перестали быть литературным явлением в «Новгородской первой летописи»; летописец попросту вел учет административно-хозяйственных фактов реальности. Каждая ранняя летопись шла своим путем в отображении жизни.
Летописи ХIII–ХVI вв.
Подавляющее большинство летописей ХIII–ХVI вв. имели только фактографические концовки эпизодов и статей, сообщавших, куда князь пошел или возвратился, где «сел» или куда кого послал, кому что дал, где его тело положили и пр.
Но в некоторых летописях этого периода, преимущественно в рассказах о трагических событиях, стали использоваться летописцами и концовки нравоучительные, обычно о наказании нас за грехи, о необходимости покаяться и с надеждой на милость Бога. Пожалуй, раньше всего такие повторяющиеся концовки в виде небольших заключительных поучений появились в «Симеоновской летописи», в рассказах о больших пожарах, моровых болезнях, крупных поражениях и вражеских нашествиях (начиная примерно с 1185 г.). Концовки эти выдавали довольно спокойное отношение летописцев к описываемым давно прошедшим событиям, так как были все-таки формальны, однообразны композиционно и фразеологически, зачастую с вкраплением покаянных выражений из «Повести временных лет» и из «Сказания о Борисе и Глебе». Появление нравоучительных концовок в «Симеоновской летописи» было обусловлено стремлением летописцев к общей благочестивости повествования, для чего они неуклонно перемежали свои фактографические сообщения поучительными замечаниями и цитатами, и в эту систему органично входили и концовки. Объясняя события гневом Бога, помощью Бога, «строением» Бога, милосердием Бога, «попущением» Бога, человеколюбием Бога и т. д. и т. п., летописцы подчеркивали широкую значимость событий и составляющих их эпизодов, на самом деле узко местных, владимирских, – типичная местническая черта.
Жизненная позиция летописцев постоянно колебалась. Например, в уже упомянутой «Новгородской первой летописи» старшего извода с 1230 г. в действиях летописца произошла резкая перемена. Нравоучительные концовки эпизодов и статей и нравоучительные замечания по ходу изложения не просто вдруг заполнили летопись, ранее фактографичную, но отразили крайнее отчаяние летописца, его «горкую и бедную память» о происходивших несчастьях из-за татаро-монгольского нашествия, пожаров, болезней, голода и пр. Так, в статье под 1230 г. о голоде и беспорядках в Новгороде летописец не ограничился традиционными упоминаниями о наказании за грехи, а растерянно, с ощущением безысходности, можно сказать, оплакивал происходившее: «Что бо рещи или что глаголати о бывшеи на нас от Бога казни?»; «колику Богъ наведе на ны смерть…»; «и кто не прослезиться о семь…»; «не бысть милости межи нами, нъ бяше туга и печаль, на уличи скърбь другъ съ другомъ, дома тъска…» и т. д. (69–71)7. Греховность людей у сокрушенного летописца превзошла всяческие границы: «Того же Богъ видя наша безакония, и братоненавидение, и непокорение друг къ другу, и зависть, и крестомъ верящеся въ лжю … того же мы, въ рукахъ дьржаще, скверьньни усты целуемъ; и за то Богъ на нас поганыя наведе…; а иное, сами не блюдуче, без милости истеряхомъ свою власть» и т. п. (69). Не преминул новгородский летописец подчеркнуть и огромные географические масштабы горя: «горе уставися велико»; «разидеся градъ нашь и волость наша»; «землю нашу пусту положиша… и тако бысть пуста» (69); «се же горе бысть не въ нашеи земли въ одинои, нъ по всеи области Русстеи» (71).
В последующих трагических рассказах новгородский летописец маниакально повторял обличения людей в безмерной греховности, да еще клеймил зловещими концовками: «Всякъ бо злыи зле да погыбнеть» (82, под 1257 г.); «еже бо сееть человекъ, то же и пожнеть» (97, под 1325 г.); «а оже кто подъ другомъ копаеть яму, самъ впадется в ню» (100, под 1337 г.).
В прочих новгородских летописях с начала ХV в. нравоучительные концовки в рассказах о необычных природных явлениях или смертях стали превращаться в пространные поучения, притом уже более спокойные и с большей надеждой на милость Божию. Например, см. концовки-проповеди в «Новгородской летописи» по списку Дубровского под 1402, 1416, 1419, 1421 гг. Можно предположить усилившуюся догматическую церковность летописцев во взглядах на реальность: недаром в летопись уже были включены большие послания и поучения иерархов, духовные грамоты и пр.
К началу ХV в. изменилась манера изложения и в «Софийской второй летописи», которая в своей доскональной подробности повествования пошла по пути «Киевской летописи», но со значительной композиционной перестройкой. В бесконечные сообщения фактов летописец регулярно стал вставлять самостоятельные, довольно большие, иногда огромные, отрывки из житий, военные повести, послания и пр., усугублявшие подробность изложения. Но эти крупные вставки в летописной статье, как правило, завершались сравнительно коротким фактографическим приложением о том, что же еще произошло «того же лета», перечисляя события менее значительные. То есть, в отличие от «Киевской летописи», летописец в «Софийской второй летописи» исходил из четкой градации, какие жизненные события важны, а какие – нет.
Таким образом, в течение ХI–ХVI вв. отношение летописцев к окружающей реальности довольно быстро менялось, что послужило одним из стимулов создания все новых и новых летописей во все новых и новых исторических условиях.
В связи с этим рискнем предположить, что разрастание нравоучительных концовок рассказов и сообщений содействовало отмене погодного летописного изложения и превращению летописей в исторические трактаты вперемешку с фактографическими повестями. Таким разнородным трудом стала, например, огромная «Степенная книга», в которой чисто летописные отрывки с фактографическими концовками перемежались подчеркнуто нравоучительными риторическими обработками летописных рассказов. Характернейшим образчиком принятого стиля являлось уже вступительное к книге «Житие княгини Ольги». Благостные концовки статей «Жития Ольги» нередко призывали радоваться: «отъ Бога … пресладкаго вкуса богоразумия насыщаеми, веселимся» (7); «веселящися и благодарящи Бога» (14)8 и т. д. Соответственно рассказы об Ольге и ее окружении были наполнены высказываниями о радости: «возрадуемся Господеви … поюще ему песнь въ веселии» (6); «возрадовася… радостию неизглаголанною» (14); «возвеселися сердце мое и возрадовася языкъ мой» (19); «радости и веселия зде исполнихся … радующеся вси» (20) и мн. др. Даже плач был радостным: «отъ радостнотворнаго же плача слезами себе обливаше» (14); «отъ радости слезъ множество отъ очию испущающе» (28) и пр. Совершенно ясно, что все эти безмерно упоминаемые радость, веселие и умиление выражали не возбуждение составителя «Степенной книги», а его заботу о навязчивой, до мелочей, идеализации действительности. Процесс для ХVI в. известный (см. хотя бы работы Д. С. Лихачева): официозная идеология пропитала литературу.
Остается сказать о «Казанской истории», условно относимой к летописным произведениям, но, как нам думается, под натиском пафосности и нравоучительности совсем отступившей от изложения по годам и предпочевшей повествование по главам. Повествование в «Казанской истории» гораздо ярче, чем в «Степенной книге». Автор «Казанской истории» завершал главы и эпизоды разнотипными концовками, то афористичными, то напоминавшими сравнения (кстати говоря, заполнившими все его сочинение). То концовки перерастали в большие поучения, особенно в речах князей и царей. Но во всех этих концовках отразилось авторское стремление показать так или иначе умиротворенную реальность. Показательно, что автор высказал неожиданную мысль: «Яко не токмо спомогает Богъ христианомъ, но и поганымъ способствуетъ» (324, концовка главы 10)9, – нетрадиционное, умиротворенное отношение автора к казанцам известно.
В своих нравоучительных замечаниях и концовках о желаемых принципах поведения людей, и русских, и татар, автор «Казанской истории» прежде всего проповедовал смирение («покорно слово сокрушаетъ кости, и смиренныя сердца и сокрушенныя Богъ не уничижитъ» – 322); взаимное сочувствие («всякъ бо человекъ, иже в скорбехъ возрасте и в бедахъ множественых, всемъ искусенъ бывает и можетъ многостражущим в напастех спомогати» – 360); автор даже говорил об умиротворяющей роли денег («и намъ мнится, яко силнейши есть злато вой безчисленых: жестокаго бо умяхчеваетъ, мяхкосердое ожесточеваетъ, и слышати глуха творитъ, и слепа видети» – 354). Все трудное, по мнению автора, кончается радостью: «И весте сами боле мене: кто венчается без труда? Земледелец убо тружается с печалию и со слезами, – жнетъ бо веселиемъ и радостию. И купец тако же оставляетъ домъ, жену и дети и преплаваетъ моря, и преходит в далния земли, ища богатства, и егда обогатеет и возвратится, и вся труды от радости забывает, и покой приемля з домашними своими» – 490). И в своих сравнениях персонажей с типами людей автор «Казанской истории» предпочитал «нежные» темы взаимной любви родителей и чад (хотя речь шла о войне, пленниках и пр.) и особо чувствительную тему младенчества (хотя речь шла о жестоком лишении персонажей всего имущества, но смягчаемом сочувствием окружающих: «Они же во единъ час нази оставахуся, яко рожени, от всего своего лишаеми … ныне же сами от боголюбцевъ снедениа приемляху» – 368).
Умиротворенная реальность у автора «Казанской истории» обозначалась и скрыто, парадоксальным путем: хотя он много писал об ужасах войны и всяческих несчастьях и обильно использовал самые сильные традиционные средства поругания противника, но в авторское повествование добавился целый пласт уже спокойных бытовых концовок и особенно сравнений, ранее в древнерусских воинских описаниях редких или вообще не употреблявшихся.
Автор привлек в сравнения предметы тихого быта: «аки в села своя поеха прохлажатися» (300); «ходити и ездити, аки по мосту» (338); «аки свеща, на все страны видя» (418) и пр.
Исключительно часто автор вспоминал о неблагополучных домашних животных, от которых благополучно избавляются: «яко свиней, ножи закалаемых» (426); «резаху, аки свиней» (524); «аки гладные овцы, и друг друга растерзавше» (428); «яко мышей, давляху» (564) и т. п.
Упоминания диких животных и птиц в авторских концовках и сравнениях были даже более умиротворенными, чем о домашних животных: «И никий же бо лютый зверь убиваетъ щенцы свои, и ни лукава змия пожирает изчадии своих» (404); «яко птицы или векшицы, прилепляющися, яко ноготми» (516); «яко смирну птицу въ гнезде со единым малым птенцем» (410); «яко птицы, брегоми в клетцах» (548) и т. д.
И чаще всего совсем умиротворенными у автора явились сравнения с окружающей природой: «возрасте … яко древо измерзшее, от зимы солнцу обогревшу и весне» (326); «аки цвет красный, цветешъ или ягода вишня, наполнися сладости» (416); «аки … вешняя великая вода по лугомъ разлияся» (468). Правда, концовки и сравнения эти бывали и менее оптимистичными: «терние остро есть, не подобает ногам босым ходити по нему» (436); «яко листвие от древес на землю … низпадоша» (368); «яко реками, кипяше и всякими сквернами и нечистотами преизобиловашеся» (540); «аки моря, биющагося о камень волнами, и аки великаго леса, шумяща напрасно» (506) и др. Но преобладающая смысловая тенденция нетрадиционных концовок и сравнений у автора «Казанской истории» отличалась бодростью и входила в общую картину желаемой автором умиротворенной действительности.
Итак, по концовкам летописных статей и эпизодов ХII–ХVI вв. (а также по дополнительным данным) наблюдаются существенные изменения в структуре повествования и в отображении действительности летописцами: от свободных поисков стабильных, «вечных» явлений («Повесть временных лет») летописцы перешли к сухой, «рассыпчатой» подаче событий («Владимиро-Суздальская летопись»), затем и к их систематизации («Галицко-Волынская летопись»); а после пережитого отчаяния («Новгородская первая летопись») летописцы стали усиливать успокоительную благочестивость своих рассказов («Симеоновская летопись», «Степенная книга») и, наконец, прониклись чувствами умиротворения («Казанская история»). За всеми этими относительно быстрыми колебаниями картин реальности и смысла концовок у летописцев, конечно, просвечивает влияние исторических перемен на Руси и ее усиления, но это уже тема отдельного исследования.
Что же касается самих концовок, то их литературная ценность, хотя и не велика и не постоянна, но все-таки своеобразна в истории собственно литературы как искусства.
Примечания
1 «Повесть временных лет» цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст памятника подгот. Е. Ф. Карский.
2 Третья редакция «Повести временных лет» цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст памятника подгот. А. А. Шахматов.
3 «Владимиро-Суздальская летопись» цитируется по изданию: ПСРЛ. Т. 1.
4 Еремин И. П. Литература Древней Руси: (Этюды и характеристики). М.; Л., 1966. С. 103.
5 Там же. С. 104.
6 См. деление «Галицко-Волынской летописи» на эпизоды, старатель но проделанное незабвенной О. П. Лихачевой в издании: Памятники литера туры Древней Руси: ХIII век. М., 1981. С. 236–424.
7 «Новгородская первая летопись» цитируется по изданию: Новгород ская первая летопись старшего и младшего изводов / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М.; Л., 1950.
8 «Степенная книга» цитируется по изданию: ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 21. Ч. 1 / Текст памятника подгот. П. Г. Васенко.
9 «Казанская история» цитируется по изданию: ПЛДР: Середина ХVI века / Текст памятника подгот. Т. Ф. Волкова и И. А. Евсеева. М., 1985.
«Картинки» окружающей среды и причины их формирования в древнерусских летописях и повестях ХII–ХIII вв.
Не всем филологам по душе непосредственное изучение именно художественного содержания древнерусских произведений, потому что тут много возможностей для субъективных заблуждений. Но, думается, научными методами на конкретном материале все-таки можно воссоздать объективную историю развития древнерусской литературы в направлении к литературе художественной. В этом убеждают труды наших крупнейших медиевистов – Ф. И. Буслаева, А. Н. Веселовского, А. С. Орлова, В. В. Виноградова, В. П. Адриановой-Перетц, И. П. Еремина, Д. С. Лихачева.
Мы не станем заниматься обширной историографией и методологией этой проблемы, но под влиянием работ названных ученых обратимся к теме неисследованной, а сейчас даже модной, – к «картинкам» окружающей среды с участием литературных персонажей. Под «картинкой» мы подразумеваем изображение и соответственно авторское представление, не соответствующее реальности.
Разумеется, о термине «окружающая среда» и понятия не имели в древности. Мы же под этим предлогом выделяем и пытаемся объяснить «картинки» с явлениями природы и предметами быта в памятниках. Естественно, мы выбираем памятники, сравнительно обильные такого рода «картинками», иногда четко нарисованными летописцем, но чаще неясными. Понятия «картинка», «изображение», «представление» и «образ» мы употребляем как в известной мере синонимичные.
«Повесть временных лет»
Мы будем говорить о «Повести временных лет» как о результате литературной деятельности одного обобщенного летописца. Этот подход допустим, потому что летописцы ХI – начала ХII вв. не слишком отличались друг от друга манерой повествования.
Исследователи старейших русских летописей – от А. А. Шахматова до Д. С. Лихачева и вплоть до А. А. Шайкина и А. А. Пауткина – уже отметили самые яркие места в «Повести временных лет». Наша задача – подробнее охарактеризовать окружение летописных персонажей: природное окружение, затем – городское (строения) и домашнее (быт). Телесное окружение летописных персонажей – одежды, оружие, драгоценности, пищу – мы не рассматриваем: это уже характеристика человека, а не окружающей среды.
Начнем с упоминания гор летописцем. В некоторых рассказах о путешествиях персонажей летописец, введя предметные детали, неотчетливо обозначил вместе с горами нечто вроде ландшафта местности. Например, в начале летописи в рассказе о путешествии апостола Андрея летописец сообщил, что Андрей «поиде по Днепру горé… и ста подъ горами на березе» (8)1. Предметные детали во фразе – река, берег, горы – выразили неотчетливое представление о ландшафте, на который взирали персонажи (Андрей призвал своих учеников: «Видите ли горы сия?»). Рельефность ландшафта летописец обозначил передвижением Андрея вверх и вниз (апостол с берега реки «въшедъ на горы сия» и «сълезе съ горы сея»). Представление об обширности ландшафта было косвенно выражено упоминанием большого города, который может раскинуться со многими церквями на этих горах («на сихъ горах … имать градъ великъ быти и церкви многи Богъ воздвигнути имать»), а также в гиперболичном назывании холмистых возвышенностей «горами» (в дальнейшем повествовании эти же места летописец спокойно называл холмами).
Почему же существовало у летописца представление об обширности тех гор? Мы исходим из предположения о том, что ощущения у летописца появлялись раньше его представлений и влияли на их формирование. Неотчетливая «картинка» просторности киевских гор, как нам думается, была порождена эмоцией летописца, – скрытым, несформулированным ощущением тогдашней пустынности и безлюдности местности. Ведь летописец не упомянул о присутствии людей.
Та же связь повторилась в летописи под 1051 г. в рассказе о хождении Антония Великого по киевским же горам: «бе бо ту лесъ великъ», а Антоний «поча ходити по дебремъ и горамъ» (156). В этом рассказе тоже присутствовала слабая «картинка» ландшафта, рельефного и просторного (Днепр – великий лес – дебри – горы), получившаяся у летописца благодаря тому же несформулированному ощущению пустынности и безлюдности гор (со значащами деталями – «дебрями» и великим лесом вокруг уже построенного Киева).
Сходная причинно-следственная связь между сиротливым ощущением летописца и уже его сознательным изображением широко протянувшегося ландшафта наблюдается в рассказе под 1096 г., где летописец описал не киевские, а какие-то далекие северные горы: «суть горы заидуче в луку моря. Им же высота, ако до небесе… Путь до горъ техъ непроходим пропастьми, снегом и лесом. Тем же не доходим ихъ всегда» (235). Летописец представил фантастически огромное объемно-пространственное целое перед наблюдателем: горы, «ако до небесе», занимают лукоморье и окружают целый народ («сступишася о них горы великия» – 236). Путь к тем горам далек, дик и гибелен. Представление о таком обширном суровом ландшафте было порождено у летописца уже не только ощущением безлюдности местности, но еще и чувством опасности, исходящим от этих гор. Если очевидцы удивлялись – «и дивьно мы находимхом чюдо, его же не есмы слышали», – то летописец сгустил зловещесть гор, сославшись на Мефодия Патарского: этими горами окружены «человекы нечистыя», «си суть людье, заклепении Александром, македоньскым царемь», а когда они вырвутся из гор, то «освернять землю» (235–236).
Показательно, что там, где у летописца речь шла о горах, уже заселенных или застроенных, никаких ландшафтных «картинок» не возникало.
Ощущение безлюдности и пустынности побуждало летописца к «картинкам» местности и без гор. Так, например, под 1093 г. летописец изобразил мертвый простор целой страны, нет цивилизации: «городи вси опустеша, села опустеша; преидемъ поля, идеже пасоши беша стада конь, овця и волове, – все тоще ноне; видимъ нивы поростъше зверемъ жилища быша» (224). Ясно, что чувство обезлюженности и запустения породило это гнетущее представление.
Перейдем к другим объектам окружающей среды – уже не к природе, а к быту. Прежде всего, в какие «картинки» вставлял летописец избы («истобки»)? Для летописца как бы не существовало пустых изб, он их всегда упоминал вкупе с людьми и с бытовыми предметами. Например, под 1074 г. летописец рассказал о том, что киево-печерский монах Исакий «въ едину бо нощь вжегъ пещь в ыстобце у пещеры. Яко разгореся пещь, – бе утла, – и нача палати пламень утлизнами; оному же нечимъ заложити, вступль ногама босыма, ста на пламени, донде же изгоре пещь, и излезе» (196). Автор нарисовал «картинку» с тройным изобразительным эффектом. Первый эффект: в темноте избы пылает печь, и языки пламени вырываются из ее щелей. Второй эффект: в избе на пылающей печи стоит босыми ногами человек. Третий эффект: «картинка» статична (персонаж надолго застыл в одной позе, – пока не погасла печь). Причиной яркости этого «фигурного» представления послужило у летописца его острое ощущение бытовой неординарности, даже мучительности ситуации, о чем он и сказал: «дивно чюдно бысть» (194).
Та же тенденция к связи неприятной или трагической ситуации со статичной бытовой «картинкой» повторялась в летописи неоднократно. Например, под 1095 г. говорилось об убийстве вероломного половецкого хана Итларя, сидевшего в избе, новгородцем Ольбегом: «възлезше на истобку, прокопаша и верхъ. И тако Ольбегъ Ратиборичь, приима лукъ свои и наложивъ стрелу, удари Итларя в сердце» (228). «Картинка» (на этот раз неявная): изба – крыша – Ратибор на крыше – отверстие в крыше – Итларь в избе. Фигуры как бы застыли в сцене убийства: Ратибор со стрелой на натянутом луке, а Итларь со стрелой в сердце. Летописец не мог обойтись без «картинки» благодаря удовлетворению от возмездия: «И тако зле испроверже животъ свои Итларь».
В некоторых случаях трагическая «картинка» включала в себя не всю избу, а лишь ее часть. Вот летописец представил сценку у окна: «атъ призвавше лестью ко оконцю, пронзуть и мечемъ» (171, под 1068 г.), – застывшая на мгновение фигурная «картинка» опять же убийства: жертва неожиданно пронзена мечом сквозь оконце. Или: «яко полезе въ двери, и подъяста и два варяга мечьми подъ пазусе» (78, под 980 г.), – тоже застывшая «картинка» убийства жертвы в проеме двери. В обоих случаях летописец указывал на возмутительную подлость подобных покушений на русских князей.
Помимо изб, летописец привлекал к изображению и иные строения, в частности, бани с их пользователями. Так, были описаны словенские (новгородские) бани: «бани древены, и пережгуть é рамяно, и совлокуть ся, и будуть нази… и возьмуть на ся прутье младое, и бьють ся сами…» (8). «Картинка» зримая (свидетель сообщил о том, «елико виде») и, несмотря на энергичность действий, застывшая (моющиеся совершают однообразное действие – «хвощются»). И снова: сравнительно детальное «фигурное» представление о моющихся обязано лукавству летописца, описавшего бытовой обычай словен в виде мучения до полусмерти («вылезутъ ле живи суще»). И вообще, избы, хоромы, бани и прочие помещения никогда в летописи не мыслились местом безопасным или покойным.
В отдельных случаях летописец рисовал «картинку» с военным сооружением. Например, под 1097 г. летописец кратко описал гибель князя Мстислава Святополковича (сына великого князя киевского) на стене города Владимира-Волынского во время сражения: «идяху стрелы, акы дождь. Мстиславу же хотящю стрелити, внезапу ударенъ бысть под пазуху стрелою на заборолехъ сквозе дску скважнею» (272). Летописец наметил статичную «картинку»: дощатое забороло со щелью, пропускающей стрелу; за доской князь застыл, приготовившись стрелять. Неожиданная («внезапу»), роковая незащищенность укрытия – это трагическое ощущение и содействовало появлению неясного «фигурного» представления у летописца.
Церкви, кельи и молельни летописец также вписывал в статичные «картинки», если речь шла о чем-то, по его ощущениям, трудном или вредоносном.
«Картинки» с остальными, причем разными, предметами быта принципиально ничем не отличались от «картинок» с помещениями. Приведем лишь некоторые примеры. Так, телегу летописец вписал в многофигурную композицию: «обри … насилье творяху женамъ дулепьскимъ. Аще поехати будяше обърину, не дадяше въпрячи ни коня, ни вола, но веляше въпрячи 3 ли, 4 ли, 5 ли женъ в телегу и повести обърина. И тако мучаху дулебы» (12). «Картинка», возможно, присутствовавшая в древней легенде, сохранилась у летописца и оказалась застылой: женщины, впряженные в телегу, приготовились тащить тяжелого обрина («быша бо объре теломъ велици и умомь горди»). Осуждение мучителей («Богъ потреби я, и помроша вси») и сочувствие к жертвам побудили летописца к «фигурному» изображению.
Те же изобразительные последствия содержит рассказ под 1066 г.: грек на пиру коварно протянул чашу с ядом тмутороканскому князю Ростиславу Владимировичу: «дасть князю пити, дотиснувъся палцемь в чашю, бе бо имея под ногтемъ растворенье смертное» (166). Возникла «картинка» с чашей: чаша в пальцах персонажа – ноготь одного из пальцев – под ногтем зернышко яда. Осуждение изощренного вероломства («с лестью») заставило летописца представить жест злодея.
Эмоциональное отношение летописца к злодеям и врагам иногда вольно или невольно приближало его к созданию не просто «картинки» с бытовым предметом, но художественного образа. Например, под 1097 г. летописец изобразил сокрушительный разгром венгерского войска: «множицею убивая, сбиша é в мячь … сбиша угры, акы в мячь, яко се соколъ сбиваеть галице» (271). Мяч – чрезвычайно редкостный предмет быта для летописи, возможно, и не русский даже2, отчего летописец пояснил смысл первого сравнения вторым, уже традиционно русским. В результате, венгерское войско представилось летописцу странно прихлопнутым до размеров кучки или мяча, хотя речь шла о стотысячном войске. Тут уж действовало чувство превосходства над врагом.
Но в общем, преимущественно трагические чувства приводили летописца к более или менее выразительным «картинкам» с участием бытовых предметов.
Перейдем к еще одному, но уже «небесному» объекту окружающей среды – к изображению ночи летописцем, ночи, конечно, с персонажами. Та же причинно-следственная связь наблюдается между эмоциональными ощущениями летописца и появляющейся изобразительностью его повествования, но теперь в виде контрастов тьмы и света. Прежде всего, ощущение страшности ночи содействовало изобразительности и выразительности изложения в летописи. Например, в рассказе под 1024 г. летописец описал ночное сражение двух князей, родных братьев, друг против друга – Ярослава Владимировича с Мстиславом Владимировичем: «бывши нощи, бысть тма, молонья, и громъ, и дождь … яко посветяше молонья, блещашеться оружье» (148). Ночь представлялась летописцу настолько непроглядно темной, что воины не видели, с кем они сражаются, при резчайшем контрасте тьмы («бысть тма») и света (вспыхивающая молния, поблескивание оружия). Представление это не являлось традиционным, так как оружие в памятниках сверкало и сияло только утром или днем. «Картинка» мерцающей ночи была порождена чувством ужасности той ночной схватки у летописца («и бе гроза велика и сеча силна и страшна»).
О том, что летописец намеренно изображал ночную битву контрастом света во тьме, подтверждает статья под 941 г. о морском сражении руси с греками. В летописи рассказывается о ночном сражении: «русь … на ночь влезоша в лодьи», а греческий военачальник «усрете я въ олядехъ со огнемъ и пущати нача трубами огнь на лодье руския» (44), – огонь ночью. Рассказ об этом событии был заимствован летописцем из «Жития Василия Нового»3, но в нем битва происходила вечером («вечеру достигшу»). Летописец же добавил контраст и поместил огонь в ночь, потому что «бысть видети страшно чюдо».
Однако не всегда летописец вводил световые контрасты в сообщения о ночных сражениях. Так, рассказик о ночной битве с половцами под 1068 г. на реке Альте был совершенно бездетален, и лишь бегло упомянута ночь: «и бывши нощи, поидоша противу собе. Грех же ради нашихъ пусти Богъ на ны поганыя, и побегоша русьскыи князи, и победиша половьци» (167). Почему столь краток был рассказ об этом важном событии, не ясно. Может быть потому, что все внимание летописца переключилось на обширное поучение по поводу трагического поражения на Альте.
Далее. Ощущение хоть и не страшности, но тревожности ночи тоже побуждало летописца к изобразительности повествования. Например, под 1102 г. летописец уже как свидетель изобразил ночное природное явление, явно непривычное (северное сияние?): «бысть знаменье на небеси месяца генваря въ 29 день по 3 дни, – акы пожарная заря от въстока, и уга, и запада, и севера; и бысть тако светъ всю нощь, акы от луны полны, светящися» (276), – такое представление было даже художественным: пожарное зарево кольцом или как бы куполом смыкается со всех сторон. К зловещей «картинке» наступления огня на зрителей побудила летописца сильная тревога («сия видяще знаменья, благовернии человеци со въздыханьем моляхуся к Богу и со слезами»).
К контрастно-световым «картинкам» также приводили летописца озадачивающие или настораживающие явления в ночи. Так, под 1110 г. летописец как очевидец старательно и выразительно описал явление светового столпа ночью: «бысть знаменье в Печерьстем монастыре в 11 день февраля месяца. Явися столпъ от земля до небеси, а молнья осветиша всю землю и в небеси погреме в час 1 нощи, и весь миръ виде. Сеи же столпъ первее ста на трапезници каменеи… съступи на церковь и ста надъ гробомъ Феодосьевым и потом ступи на верхъ … и потом невидим бысть» (284). Летописец представил многократную игру света на фоне темной ночи; притом летописец преувеличил масштабность светового столпа, сделав его явлением мировым («от земля до небеси … осветиша всю землю … и весь миръ виде»). Причина преувеличивающего представления – ощущение потрясения летописцем: «се же беаше не огненыи столпъ, но видъ ангельскъ: ангелъ бо сице является ово столпом огненым, ово же пламенем». Но влияние монастырской легенды на представление летописца тут тоже надо учитывать (ср. сходные «картинки» в «Житии Феодосия Печерского» – 117–118)4.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































