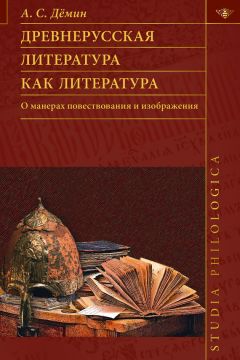
Автор книги: Анатолий Демин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 38 страниц)
Наконец, третье упоминание зипунов: по словам казаков, наемникам за осаду Азова султан дал «за то казну свою великую. И то вам, турком, самим ведомо, што с нас по се поры нихто наших зипунов даром не имывал» (555). Словечко «даром» двусмысленно означало и часть огромной казны, и весомую часть людских усилий. Зипуны вновь оказывались небесплатными (в переносном смысле). Автор «Повести» не оставлял мысли о большой значимости казаков для турок.
Мысль о значимости, об общественной престижности казаков еще выражалась в «Повести» различными способами. Один из способов – упоминание золота, денег и пр. Например, все, казалось бы, бросовое, что попадало в распоряжение казаков, превращалось, по изображению «Повести», в великую денежную ценность для турок; казаки прямотаки сидели на турецком богатстве. Даже за «пустое место», за разрушенный до основания Азов, турки, по сообщению казаков, готовы были заплатить фантастически много: «просят у нас пустова места Азовского, а дают за него нам выкупу на всякого молотца по триста тарелей сребра чистаго да по двести тарелей золота красного» (563). За своих убитых, валявшихся на территории казаков, турки тоже были готовы платить помногу: «А давали нам за всякую убитую яныческую голову по золотому червонному, а за полковниковы головы давали по сту талеров» (559). Вполне ощутима юмористическая парадоксальность и этих фраз: дело, конечно, не в ценах и платах. Но общественная значимость казаков не без гордости выражалась автором в мерках финансовых.
Эта самая излюбленная автором «Повести» манера указания на значимость казаков нередко сводилась к простой, откровенной констатации того, будто казаки и в самом деле люди богатые. Турки в «Повести» не раз уважительно предлагали казакам: «Что есть у вас… вашего серебра и злата, то понесите из Азова города вон с собою» (553); «поди те с серебром и з золотом в городки свое» (563). А казаки набивали себе цену, хвастаясь: «А сребро и золото за морем у вас емлем» (556); «не дорого нам ваше собачье серебро и золото, у нас в Азове и на Дону своего много» (563).
Другим способом выделения значимости казачества служила характеристика численности войск. Внешне автор «Повести» досадовал, что казаков в Азове слишком мало: то ли 7367, то ли 7590 против более чем трехсоттысячного турецкого войска. Но одновременно в «Повести» проводилось и художественное сопоставление чисел. Например, в речи туркам уже знакомую нам фразу о зипунах казаки заканчивали перечнем сил, им противостоящих: султан турецкий «прислал под нас, казаков, для кровавых казачьих зипунов наших, четырех пашей своих, а с ними, сказывают, что прислал под нас рати своея турецкия… с триста тысящ люду боевого, окроме мужика черново. Да на нас же нанял он, ваш турецкой царь, ис четырех земель немецких салдат шесть тысячь да многих мудрых подкопщиков…» (555). По официальным документам, турецкие войска, посланные под Азов, насчитывали около 240 000 человек83. В данном месте «Повести» это число было несколько преувеличено и округлено – верный признак «неделового» подхода автора. Кроме того, важен контекст. В произведениях, особенно фольклорных, между теми, кого посылали, и теми, к кому посылали, обычно подразумевалось прямое соответствие по значительности. Например, в легендарном послании Ивана Грозного к турецкому султану, сочиненном в первой четверти XVII в., Грозный поносил султана и оскорбительно обещал ему мелкое посольство: «В первые бы послал к тебе малаго слугу – воеводу своего»84. Султан низводился на одну ступень с «малым слугой». И легендарная переписка Ивана Грозного, и «Повесть об Азовском сидении» в данном случае, скорее всего, использовали приемы фольклорного повествования. Четыре паши, шесть тысяч немецких солдат и трехсоттысячная турецкая рать в «Повести» выставлялись в качестве величин, равнозначных казачьему отряду в Азове. С деловой точки зрения автор отмечал неравенство сил, но с художественной точки зрения у него семь тысяч казаков равнялись трети миллиона турок. Так значимость казаков выражалась в мерках статистики людских масс.
Подобный способ выделения значимости казаков через перечень посланных вражеских сил использовался в «Повести» тоже нередко. «Повесть» даже начиналась с обширного перечня почти бесчисленных вражеских сил, посланных против Азовских казаков: «прислал турской Ибрагим-салтан-царь под нас, казаков, четырех пашей своих, да дву полковников… да ближние своей тайные думы покою своего слугу… боевого люду двести тысящей… черных мужиков многия тысящи, и не бе им числа и писма… крымских и нагайских князей и мурз и татар ведомых, окроме охотников, 40000… горских князей и черкас ис абарды 10000… немецких два полковника, а с ними салдат 6000»; да еще отряды двенадцати народов, от албанцев до арабов; да еще военных знатоков из пяти «немецких» стран, от Испании до Швеции (550–551). Вот что значили казаки в глазах турок!
Для выражения своих представлений о значимости казаков автор «Повести» использовал еще один способ. У него турки обещали казакам сделать их важными людьми: «Пожалует наш государь, турецкой царь, вас, казаков, честию великою… учинит вам, казаком, он, государь, во Цареграде у себя покой великий… всяк возраст вам, казаком, в государеве ево Цареграде будут кланятся…» (554). Насчет поклонов тут явно преувеличено. Автор возвеличивал казаков и непосредственно в мерках социальных.
Подчеркивание социальной значимости казаков якобы для турок было, конечно, лишь предлогом для проведения более важной мысли. Казаки в «Повести» представали значительным сообществом именно для России. В конце «Повести» (по списку БАН) был помещен перечень желательных для казаков посылок, пересчитанных на деньги уже не турецкого султана, а российского царя: от российского царя казакам «надобно в Азов для осадного сидения 10 000 людей, 50 000 всякого запасу, 20 000 пуд зелия, 10 000 мушкетов, а денег на то все надобно 221 000 рублев» (566). Круглые цифры здесь по своей смысловой функции аналогичны рассмотренным ранее: это свидетельство уважения казаков московскими властями. Преувеличение налицо: на каждого казака должно было приходиться по 5 пудов всяких запасов, одному мушкету, 2 пуда пороху, а в деньгах – по 22 рубля. В действительности царь никогда не затрачивал на донских казаков столь огромных сумм, и реальная просьба к царю о такой посылке выглядела бы дерзостью. Автор «Повести» исходил здесь из преувеличенного представления о российской значимости казаков.
Преувеличение автором значимости казачества для России ясно отражалось в «Повести» и при открытой гиперболизации численности казаков и пограничных русских людей: если собраться, писал автор, одной только той «украиною, которая сидит у него, государя, от поля, от орды нагайские, ино б и тут собралося людей ево государевых руских с одной ево украины болши легеона тысящи» (557), то есть больше десяти миллионов! Да и называли себя казаки в «Повести» необычно – «холопами дальними» российского царя, – значит, не очень-то и зависимыми, которые могут поступать «своею казачьего волею, а не государьским повелением» (556–557, 566).
«Повесть об осадном сидении» не только при упоминании зипунов, а буквально вся была пронизана преувеличенным авторским представлением об общественной значимости азовского казачества. Эта мысль составила основной и, надо сказать, недостаточно оцененный исследователями пафос «Повести».
Теперь сравним позицию автора с настроенностью тех читателей, для кого «Повесть» предназначалась. «Повесть», по предположению А. С. Орлова и А. Н. Робинсона, была написана в Москве, во время заседаний земского собора 1642 г., одним из участников казачьей делегации, возможно, начальником войсковой казачьей канцелярии Федором Порошиным85. Сочиненная в форме отписки на имя царя Михаила Федоровича, «Повесть» сравнительно с войсковыми отписками, как заметил А. Н. Робинсон, обладала примечательной особенностью: в «поэтической повести изложение ведется… без прямых обращений к царю. Прямые обращения здесь заменены как бы пересказом того же текста для третьего лица… Повесть… как бы расширяла свою аудиторию, выводила этот вопрос за пределы посольского приказа и дворца и обращалась уже с рассказом о тех же азовских делах к московским общественным кругам, которые как раз в это время живо интересовались этой проблемой»86. Для этой-то аудитории, вероятнее всего, для верхов московского общества, для московских властей и писал автор «Повести».
Для того чтобы узнать, как московские верхи относились к социальному статусу казаков, не нужно предпринимать долгих поисков. Сам автор «Повести» ясно написал об этом: «не почитают нас там, на Руси, и за пса смердящаго. Отбегохом мы ис того государства московского из работы вечныя, от холопства полного, от бояр и дворян государевых…» (556). Псы и холопы. На этом фоне позиция автора, превозносившего казачество, выглядела резко полемической. И действительно, присмотримся к контексту высказывания о «псах смердящих». Это место начиналось вот как: «И мы про то сами ж… ведаем, – говорили казаки, – какие мы в государстве Московском, на Руси, люди дорогие и к чему мы там надобны. Черед мы свой сами ведаем. Государство великое и пространное Московское многолюдное, сияет оно посреди всех государств и орд бусурманских и еллинских и персидских, яко солнце. Не почитают нас там, на Руси, и за пса смердящаго…» (556). Контекстто получался саркастическим.
Посмотрим повнимательнее, на что распространялся сарказм автора. Здесь уместно напомнить, например, речь Ерша из «Повести о Ерше Ершовиче», составленной до 1649 г. Ерш говорил: «Человек я доброй, знают меня на Москве князи, и бояря, и дети боярские, и головы стрелецкие, и дьяки, и подьячие, и гости торговые, и земские люди, и весь мир во многих людях и городах, и едят меня в ухе с перцемь, и шавфраномь, и с уксусомь…»87. Высмеивался не сам Ерш, а «признание» Ерша на Москве князьями да боярами – высмеивались князья и бояры. То же произошло и в цитированном выше отрывке из речи казаков. Автор «Повести» выразил саркастическое отношение к мнению о казаках в Московском государстве88. Он полемизировал с «боярами и дворянами государевыми». Недаром у автора «Повести» казаки, обращаясь однажды к царю и властям, восклицали: «не позорны ничем государству Московскому!» (563). В этих словах также ощутим некоторый оттенок полемического отрицания чужого неблагосклонного мнения.
Изучение сравнительно скромно представленной социальной темы в «Повести» наводит на предположение о внутренней напряженной полемичности всего этого произведения. Вот еще примеры из иных тем. Полемика в «Повести» захватила не только вопрос о социальном статусе казаков. Встал и другой вопрос – о политической лояльности казаков по отношению к Москве.
Московские власти, как известно, открыто выражали недоверие к казачеству. Ведь еще в 1629 г. в патриаршей грамоте войску донскому казаки были названы «злодеями, врагами креста Христова» и отлучены от церкви; в 1630 г. казаки убили царского посла, и отношения с Москвой прервались на два года89. Затем связи возобновились, но, например, в 1640 г. по Москве распространялись какие-то дурные слухи о казаках90. В царских грамотах в течение 1642–1643 гг. постоянно содержались угрозы опалы и требования о том, чтобы казаки царю «во всем добра хотели вправду, безо всякия хитрости», «без противных и отговорных речей» и «ни на какую смуту и прелесть не прельщалися»91.
Автор «Повести», разумеется, знал о таком отношении Москвы к казакам, но об этом не распространялся. Лишь в одном месте все-таки отметил: «на нас государь наш, холопей своих далних, добре кручиноват. Боимся от него, государя царя, за то казни к себе смертныя за взятье азовское» (557).
Что этому противопоставил автор «Повести»? Обратим внимание на то, что именно во второй половине «Повести» сконцентрированы почти все церковные эпизоды и реалии. Это не совсем обычно для традиционной композиции древнерусских «воинских повестей», как светских, так и оцерковленных. Например, и в «исторической», и в «особой» «Повестях о взятии Азова казаками» в 1637 г. церковный фон силен и равномерен на протяжении каждого из произведений. Сдвиг же церковного материала во вторую часть «поэтической» «Повести об Азовском осадном сидении» свидетельствует о сознательном авторском старании.
Во второй части «Повести» автор рассказывал в основном о чудесных явлениях и о помощи казакам свыше, от Богородицы и святых. Рассказал автор и о разрушении Азова турецкими пушечными обстрелами, но сохранил при этом любопытное замечание, возможно восходившее к «документальной» «Повести об азовском сидении»: «Одна лише у нас во всем Азове-городе церков Николина в полы осталась, потому и осталася, што она стояла внизу добре, к морю под гору» (561). Здесь автор использовал реальное объяснение факта и «забыл» сказать о небесном покровительстве – еще один признак того, что усиленная церковная окраска эпизодов во второй половине «Повести» появилась у автора не только от внутреннего порыва к благочестию, а под влиянием какой-то внешней цели.
Давно известно, что автор «Повести», указывая на небесное покровительство над казаками, пытался убедить своих высоких адресатов в необходимости удерживать Азов. Но сверх того автор добивался еще кое-чего. Во второй половине «Повести» приводилась благословляющая речь Богородицы к казакам; цитировались длинные молитвы казаков; приводился и текст последнего «прощания» казаков перед вселенскими патриархами, митрополитами, архиепископами, епископами, архимандритами, игуменами, протопопами, священниками, дьяконами (563). Все это должно было показать московским читателям благочестивость азовского казачества.
В молитву осажденных казаков перед иконой Иоанна Предтечи автор вкладывал такие слова: «Бес пения у нас по се поры перед вашими образы не бывало» (562). Казаки, таким образом, отчитывались в благочестии перед святым. Несколько позже они повторяли уже для читателей «Повести»: «А в сиденье свое осадное имели мы, грешные, пост в те поры и моление великое и чистоту телесную и душевную» (564). Данную фразу автор заимствовал из «документальной» «Повести об осадном сидении», но изменил повествование от третьего лица («они») на первое лицо («мы»)92. То был уже прямой отчет перед адресатами «поэтической» «Повести об осадном сидении». Автор стремился уверить московских адресатов «Повести» в казацком благочестии, что по тем временам равнялось заверениям в политической лояльности.
В самом конце «Повести» содержалось странное высказывание. Автор писал: «За него, государя, станем Бога молить до веку и за ево государское благородие. Ево то государскою обороною оборонил нас Бог, верою, от таких турецких сил, а не нашим-то молодецким мужеством и промыслом» (566). Оборонил Азов царь, а не казаки! смысл этой фразы противоречит всему предыдущему «молодецкому» содержанию «Повести». Но что не сделаешь ради уверений в лояльности? В данном случае полемика имела место, но велась не с открытым забралом: очень уж щекотлив был вопрос о политической и религиозной лояльности.
Нужно сказать еще об одной теме несогласия, казалось бы, хорошо известной: московские власти отказались поддерживать казацкий Азов, а автор «Повести» пытался все-таки склонить власти к поддержке казаков. Думается, что степень полемичности «Повести» по этому вопросу раскрыта недостаточно.
Вернемся, например, к фразе о том, что казаков на Руси ни во что не ставят, и посмотрим на ее продолжение: «Отбегохом, – сетовали казаки, – мы ис того государства Московского… да зде вселилися в пустыни непроходные, живем, взирая на Бога» (556). Место обитания казаков неожиданно называлось «пустынями непроходными», и это словосочетание в соответствии с традиционным его смыслом в произведениях обозначало глухую удаленность казаков от Московского государства да еще и отделенность казачества препятствиями от Москвы93. Автор «Повести» выразил ощущение отрешенности азовских казаков от России.
Вполне искреннее чувство покинутости, отъединенности от Руси все время беспокоило автора «Повести». В последующих молитвах в «Повести» казаки неоднократно жаловались: «нас в пустынях покинули все христиане православные»; «не бывать уж нам на святой Руси. А смерть наша грешничья в пустынях…» (560, 563).
Впечатлением безнадежной отделенности, отгороженности от Москвы усугублялось тревожное чувство автора «Повести». Казаки в «Повести» поражались: «Все наши поля чистые от орды нагайския, где у нас степь была чистая, тут стали у нас однем часом людми их многими, что великия непроходимыя леса темные» (551). И турки подтверждали: «…покрыли всю степь великую… не перелетит через силу нашу турецкую никакова птица парящая…» (554).
Казачью отрешенность от Москвы, от России автор «Повести» подчеркивал перед читателями не без цели. Фраза о холопстве и пустыне в речи казаков имела такое продолжение: «вселилися в пустыни непроходные, живем взирая на Бога. Кому там потужить об нас? Ради там все концу нашему. А запасы к нам хлебные не бывают с Руси николи» (556). Эти слова звучали укором московским читателям «Повести», московским верхам.
Все прочие места «Повести», где говорилось об отрешенности казаков от Московского государства, также имели соответствующие полемические добавления. Московские читатели «Повести» постоянно наталкивались на косвенные обвинения в адрес верховной власти. Так, в «Повести» турки, грозившие казакам своим окружением, через которое не перелетит никакая птица, добавляли: «И то вам, вором, дает ведать, что от царства вашего силнаго Московскаго никакой от человек к вам не будет руских помощи и выручки. На што вы надежны, воры глупые. И запасу хлебного с Руси николи к вам не присылают» (554). Сами казаки при упоминании Азовской «пустыни» тоже непременно добавляли: «нас в пустынях покинули все христиане православные, убоялися их лица страшнаго и великия их силы турецкия» (560); «мы… о выручке своей безнадежны стали от человек» (562). Составляя «Повесть», автор явно знал о неохоте московских властей помогать Азову, и в его сочинение вкрадывались нотки сдерживаемого протеста.
Временами авторское недовольство проявлялось явственнее. Так, свою отповедь туркам казаки в «Повести» заканчивали многозначительной фразой об Азове: «Нешто ево, отняв у нас, холопей своих, государь наш царь и великий князь Михайло Феодоровичь, всеа России самодержец, да вас им, собак, пожалует по-прежнему» (558). Здесь обращает на себя внимание слово «отняв». Сочетание «отнять дом», «отнять град» в повестях XVII в. обычно означало нечто предосудительное. Например, в «Новой повести о преславном Росийском царстве и великом государстве Московском» начала XVII в. во фразе «домы наша у нас отнимают и поносят нам в лепоту» словосочетание «домы отнимают» имело резко отрицательный смысл94. И когда в «Повести об азовском сидении» казаки высказывали опасение, что у них царь «отнимет» Азов, то такое слово вносило оттенок осуждения действиям царя. В «Повести» постоянно присутствовал то менее, то более ощущаемый элемент несогласия с действиями московских властей.
Нельзя не сказать об огорошивающем конце «Повести», где, как мы помним, была употреблена единственная примирительная фраза о том, будто царь оборонил Азов, а не казаки сами. В этом же конце «Повести» говорилось: «А топере мы войском всем у государя царя и великого князя Михаила Феодоровича всеа Руси просим… холопей своих чтобы пожаловал и чтобы велел у нас принять с рук наших ту свою государеву вотчину, Азов-город…» И тут же следовала (в списке БАН) заключительная фраза: «Нынешняго 150 году по прошению и по присылки турского Ибрагима-салтана-царя он, государь царь и великий князь Михайло Феодоровичь, пожаловал турского Ибрагима-салтана-царя, велел донским атаманом и казаком Азов град покинуть» (566). Получалось, что при двух прошениях о пожаловании царь предпочел турок казакам. Скрытое осуждение этого решения царя завершало «Повесть», в которой, как видим, нет-нет да и просачивалось подспудное, но упорное, безусловно преобладавшее несогласие автора с намерениями и действиями московских властей по отношению к донским казакам95.
В конце «Повести», сразу после просьбы к царю о пожаловании, казаки вдруг обещали постричься в монастырь: «все уже мы старцы увечные… А буде государь нас, холопей своих далних, не пожалует, не велит у нас принять с рук наших Азова-города, – заплакав, нам ево покинути. Подимем мы, грешные, икону Предтечеву да и пойдем с ним, светом, где нам он велит. Атамана своего пострижем у ево образа, тот у нас над нами будет строителем» (566). Увечные казаки действительно постригались в монастырь96. Однако содержание данного отрывка не сводилось только к серьезному, деловому обещанию, а имело дополнительный, но в данном случае более существенный для смысла фольклорно-песенный оттенок. Недаром, как установил А. С. Орлов97, это место «Повести» повлияло на казацкую песню «Взятие Азова», где казаки обещали Миколе-чудотворцу: «Пострижемся мы тобе-ка вси в монахи, все в монахи пострижемся, в патриархи!»98 И в песне обещание не имело практического, серьезного смысла. Упоминание плача казаков и их пострижения у поднятой иконы в «Повести» тяготело к выражению автором чувства усталости и разочарования у изображаемых им казаков, которых на самом деле-то не поддержал царь в борьбе против турок. Оппозиционное настроение автора все накапливалось и даже обострялось к концу «Повести». «Повесть об Азовском осадном сидении» была последовательно направлена против московских мнений, против московских намерений и действий, касавшихся Азовских казаков.
Остается ответить на вопрос о том, насколько индивидуален был автор «Повести» в своей полемике с Москвой. Поддерживали ли его казаки? Прямое отражение идей и представлений донского казачества времени азовских событий рациональнее всего искать в исторических песнях казаков и в документальных отписках Войска донского царю Михаилу Федоровичу. Сопоставим казачьи представления, начиная с представлений об одежде. В исторических песнях, посвященных азовским событиям, не отразились интересующие нас представления казачества о своей одежде. В войсковых же отписках 1639–1642 гг. казаки постоянно подчеркивали, «сгущали» мысль об обнищании, бедности или даже отсутствии у них одежды, с той или иной степенью полноты повторяя формулу: «…всем стали скудны: ести и носити нечево – наги, и боси, и голодни»99.
И «Повесть об осадном сидении», и войсковые отписки в общем свидетельствовали об одном и том же, не противореча друг другу. И в «Повести», и в отписках упоминаемые явления «сгущались», усугублялись. Но на этом сходство кончалось. Когда автор «Повести» заговаривал, например, о скудости пищи у казаков, то он выражался образно: «А запасы к нам хлебные не бывают с Руси николи. Кормит нас, молотцов, небесный царь на поле своею милостию: зверьми дивиими да морскою рыбою. Питаемся, ако птицы небесные: ни сеем, ни орем, ни збираем в житницы» (556). Войсковые же отписки нагнетали формулы, не доходя до предметной конкретности: «скудны», «ести нечево», «голодни». При отражении одних и тех же обстоятельств азовской осады в «Повести» сгущение событий было художественным, а в отписках – преимущественно понятийно-логическим. Так, где вопрос касается представлений об одежде, ни «Повесть» не влияла на войсковые отписки, ни отписки не влияли на «Повесть».
Мы не знаем источников, прямо указывающих на бытование у донского казачества образного представления о «кровавых зипунах» как о своей типичной и почетной одежде. Ясное, и притом художественное, выражение этого представления явилось заслугой автора «Повести».
В казачьих песнях не встречалось настойчивого «приподымания» социальной значимости казаков. В войсковых же отписках царю конца 1630-х – начала 1640-х годов и в прочих казачьих документах довольно часто делались извиняющиеся напоминания о «самовольности» казаков; отсюда подразумевалась необходимость особого, уважительного подхода к казачеству: «Люд у нас самовольной; где куды пошел, того не уймешь»; «а они люди вольные, в неволю никово послать не мочно»100 и т. п. Тут нашло естественное отражение действительное положение вещей101. Недаром Григорий Котошихин даже двадцать лет спустя после азовских событий писал о казаках: «и дана им на Дону жить воля своя»102. Самоуважение казачества не было преувеличенным.
Правда, во внутренней переписке с казачьими городками по Дону азовские казаки могли выражаться и так: «все земли нашему казачьему житью завидывали»103. Элемент преувеличения здесь ощущался, но не очень большой. Слава о вольном казачестве действительно распространилась широко, и тот же Григорий Котошихин отмечал: «Доном от всяких бед свобождаются»104. Самоуважение казачества как общественное настроение, судя по документальным памятникам, проявилось в сравнительно скромных формах. Позиция же автора «Повести» и позиция казачества ощутимо различались. Автор «Повести об азовском сидении» вызывающе выпятил общественную значимость азовских казаков.
Ни в казачьих отписках, ни в казачьих песнях времени азовских событий не ощущалось и полемики с Москвой по поводу отказа в поддержке105. Ни исторические песни, ни войсковые отписки тех лет не называли, например, словом «пустыня» места обитания казачества; не прозвучала в них горестная тема отъединенности казаков от России. Настроения сиротливой отдаленности казаков от Москвы были свойственны только автору «Повести». Необычно дерзкий автор «Повести» далеко «ускакал» от казацкой массы и остался один на один с силами Москвы. В этом заключался драматизм ситуации.
Если рассматривать «Повесть об азовском осадном сидении» на фоне русской литературы 1630-х – 1640-х годов, то бросается в глаза ее художественно-полемическая уникальность. Никто в то время не ввязывался даже в осторожную полемику с царем и московскими властями; наоборот, в литературе 1630-х – 1640-х годов старательно поддерживалось впечатление внешнего благополучия.
Наряду с резкостью выражаемого недовольства особенность «Повести» состояла еще в том, что в ней, пожалуй, впервые в средневековой русской литературе идейная полемика велась не в привычной манере логических суждений, а почти целиком художественными средствами. В обстановке грандиозной российской волокиты 1630-х – 1640-х годов автор «Повести» избрал необычную манеру полемики, вероятно, для того, чтобы наверняка пробить эту самую волокиту, жалить неожиданнее и острее. И это ему, по-видимому, удалось. В политической силе художественного слова власти разобрались быстро. Недаром для сочинителя «Повести», если им являлся Федор Порошин, дело закончилось ссылкой в Сибирь106.
И в этом отношении «Повести об Азовском сидении» не подыскивается литературных аналогий тех лет. Некоторую близость к ней проявляет лишь уже упоминавшаяся «Повесть о Ерше Ершовиче», который «что змия ис-под куста глядить»107. К выбору необычной, дерзкой манеры полемики мог подтолкнуть, между прочим, и общий рост индивидуального авторского начала в XVII в. – процесс неостановимый108. Прошло 25 лет, и вовсю развернулся мощный художественно-полемический талант Аввакума.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































