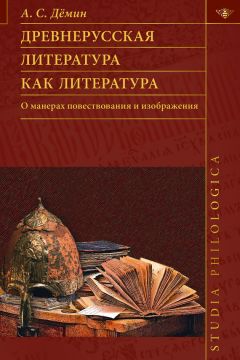
Автор книги: Анатолий Демин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 38 страниц)
«Подтвердительная» повествовательная манера «Степенной книги»
«Книга степенна царского родословия», составленная в течение 1560–1563 гг. в Москве царским духовником и протопопом кремлевского Благовещенского собора Афанасием1, – явление титаническое в истории традиционного древнерусского литературного творчества. Этот труд известен риторичностью своего повествования, разработанного по неким четким принципам, которые особенно хорошо видны по последней части книги – «Семнадцатой степени», излагающей события, только что произошедшие накануне завершения памятника, – даже 1563 г. упоминается здесь: «потомъ же въ лето 7071…»2 «Семнадцатую степень» в первую очередь и рассмотрим.
В семнадцатой части книги 26 глав, автор характеризует персонажей скупо и единообразно, обычно с настойчивым повторением прямых оценок – это одно из его главных повествовательных средств. Заголовок и первая фраза каждого отдельного рассказа в каждой главе – обычно самые резкие и экспрессивные, а дальше повторяемые автором оценки лишь подтверждают уже сказанное. Например, в главе 6-й о военных стычках русских с литовцами первую оценку литовцам содержит сам заголовок: «О сугуболукавственомъ мире литовскаго краля». Эту оценку повторяет первая фраза вслед за заголовком: «литовский же краль Жигимантъ, гордостию взимаяся, и начатъ лукавая умышляти» (631). А дальше уже довольно редки и слабы прямые нападки автора «на зачинающихъ рать»; автор лишь поддерживает первоначальный отрицательный тон высказываний о литовцах, но не более.
В главе 18-й о борьбе с ливонскими немцами тоже крайне резко первое упоминание о них: «Потомъ же богомерзцыи немьцы… самочиниемъ возгордешася» (655). Последующие оценки звучат, как эхо первого упоминания: «…восколебашася… возбеснешася… гордостнии немьцы… богомерзции же немьцы» (656–657). Но глава велика, состоит из двенадцати подглавок, и вторая подглавка добавляет свои оценки: «немьцы льстивно… умысливше, …злословесное их коварство» (656); и пятая подглавка добавляет еще: «о лукавстве немьцевъ» (658). Эти оценки тоже продолжают повторяться в последующих подглавках: «лукавии же немьцы» (658, шестая подглавка), «льстивно… лукавство ихъ» (659, девятая подглавка), «о лукавстве… ливоньскаго маистра… лукавствено коварствуя» (661, десятая подглавка), «лукавства злокозненныхъ немецъ» (661, одиннадцатая подглавка). Составитель текста опять-таки не нагнетал, а только сохранял общий отрицательный тон высказываний о немцах.
Не только о литовцах, немцах или шведах, но, например, и о татарах в такой же манере повествовал автор. Вот глава 20-я о борьбе с крымскими татарами. Заголовок с оценкой: «О лукавномъ послании крымскаго царя» (662). Первая фраза повторяет оценку: «…о злохитромъ умирении съ лукавствиемъ». Далее следуют повторы оценок дословно или вариации синонимичные: «льстиваго коварства… безбожьнаго царя» (662), «безбожьный царь… лукавнуя… его злокозненое пронырство» (663) – отрицательный тон автор не усиливал, но соблюдал его всюду.
Самые разные явления автор описывал, не ища новых слов, а довольствуясь многократными повторами уже высказанных оценок. Например, в главе 9-й о большом московском пожаре 1547 г. повторялись оценки «великий», «зельный» и пр.: «О страшьныхъ и сугубейшихъ пожарехъ… попусти Богъ были зельнейшему пожару… о велицемъ пожаре… быти великий пожаръ… пламы же зельнаго огня, великия горы… пламени же велику… отъ зельнаго огня… великий той пожаръ и огненыя пламы» (635–637). И еще – повторы «многий», «весь», «всюду» и пр.: «разыдеся огнь на многия улицы, Богу же тако попустившу… всюду… ношахуся и везде… разливахуся и многия… пожигая. И выгоре все… и вся… испепелишася… все выгоре… вся сия огнемъ потребишася… вся сия безъ вести быша… всюду палящу… всюду вся пожигающи» (636–637). В других летописях совершенно по-другому, без излишних словесных повторов сообщалось об этом пожаре (см., например, прибавления к «Хронографу 1512 г.»2).
Все эти цепи многократных словесных повторов в «Степенной книге» нельзя объяснить только так называемым литературным этикетом. Автор с исключительной настойчивостью повторял свои оценки в рассказах обычно для того, чтобы подтвердить: да, этот персонаж или это событие именно такие-то.
В сценах предсказаний и знамений это стремление автора к подтверждению рассказываемого проявилось особенно широко благодаря демонстративным фразеологическим повторам. Например, если Никола Чудотворец обещает, что «християнству не имать быти некоего же озлобления отъ поганыхъ», то так и получается: «человеколюбивый Богъ не попусти поганымъ врагомъ озлобити християньство» (672); если Никола предупреждает, что «предаетъ Богъ градъ сей Казань въ руце» российского царя, то затем дословно так и происходит: «въ руце благочестивому царю Богомъ предана быша» (646–647). Или в других эпизодах многие провидцы призывают казанских татар: «Повинуйтеся безъ лукавствия московскому государю», «поспешите умолити московскаго царя», – и дальше так в точности и случается: татары «православному царю и государю… во всемъ повинны себе творяху», «начаша молити» (640, 641, 648); когда предсказывают Казани: «быти на томъ месте… церквамъ», – это свершается тоже дословно: «еже и бысть благодатию Христовою», «на томъ месте… церкви поставлены быша» (641–647); пожелание: «Богъ… место сие да просветитъ благочестиемъ», – и результат: «вся благая, яже даруеши намъ… земля Казанъская ныне благочестиемъ просвещаема» (645 и 648) и т. д. Естественно, не только о Казани автор рассказывал с подтверждающими фразеологическими повторами. Так, во время московского пожара некто видит в видении Богородицу, «уталяющи» огонь, и тут же повествователь сообщает, что, действительно, «нача гневъ Божий уталятися и пламы огненыя умалятися» (637). Или одни из персонажей заклинает и дословно по заклинанию то же и получает: «Самъ Владыко пречистыми усты реклъ еси: «…аще кто и смертно испиетъ, не вредитъ ихъ». И выпивъ сосудъ зелия, и ста ничимъ же вреженъ… ничимъ же не вредимъ силою и действомъ святаго Духа» (665). Даже оговорка подтверждается дословно. Персонаж оговаривается мельком: «Бога… ради… аще и… раздробленъ буду», – это же и случается с ним: «кости его надробно разметаша… пострада за Христа» (649–650). Наконец, не только в сценах предсказаний, вольных или невольных, но и в сообщениях, например, о разных повелениях и просьбах автор следовал своей заверительной манере повествования и неукоснительно вводил подтверждающие повторы слов и выражений. Так, один персонаж велит другому: «звони скорее», – и другой «скоро шедъ, позвони» (643); или не крещеный знатный татарин просит митрополита, «дабы умолилъ о немъ государя царя… милости прося и… крестити бы его повелелъ. Боголюбивый же царь моления ради святительска и болярска милость показа ему и крестити его повелелъ» (650) – как будто сделана выписка из юридического документа, дотошно повторяющего формулировки для точной фиксации фактов.
И уж совсем навязчив был автор в своем стремлении к подтверждению и закреплению характеристик явлений на протяжении больших рассказов. Он, например, на одну и ту же тему целыми сериями излагал знамения и предсказания – одно за другим, с повторящимися толкованиями (если повторить, например, семь прорицаний о покорении Казани, вот тогда-то, по авторской логике, можно «разумети есть по всему», что произойдет – 639–640). Многократно повторялось у автора даже отдельное чудо или знамение: если персонаж вдруг слышит загадочный колокольный звон, то «въ коемъждо оконьце храмины своея слыша тако же звонъ – тако по Бозе благонадеженъ бывъ» (646); если вода в сосуде, стоящем на лавке, чудесным образом закипает, то и вторично сама собой закипает она и потом еще «три краты чюдесно кипяще» – «сие Божие милосердие» (652); привидевшийся персонажу Никола Чудотворец «глагола… и вторицею то же рече» – «отъ Бога посланъ» (672). Автор обязательно подтверждал богониспосланные явления многочисленными свидетелями и свидетельствами: «услышася повсюду», «мнози поведаху», «мнози виде», «многимъ людемъ показуя», «мнози узреша» и т. п.; или же делал характерную для него ссылку: «прочее же о сихъ довольно писано есть во известныхъ летописаниихъ, зде же вкратьце явлено есть великаа Божия чюдодействия» (651) – таких подтверждений тоже немало. В общем, почти в каждом своем рассказе автор последовательно стремился к определенности, подтвержденности, непоколебимости оценок и характеристик и не любил ничего «непостоятельнаго» (642), «непостояннаго» (637).
Исключение, правда, есть. В маленькой главе 7-й о событиях Смуты вначале уважительно упоминаются «благонадежнии боляре великаго князя и прочии вельможи», но дальше, напротив, рассказывается как раз об их неблагонадежности и коварстве, в которые они «вражиимъ наветомъ… уклонишася» (634). Это другой тип изложения, не подтвердительный, а саркастично-противопоставительный, и проник он из письменных источников Смутного времени, которые здесь пересказал составитель «Степенной книги». Однако всюду в остальных местах автор прочно придерживался навязчиво подтвердительно-закрепительной манеры изложения.
Но зачем с такой обязательностью составителю надо было подтверждать, поддерживать, закреплять те или иные мотивы в каждом своем мало-мальски риторическом повествовании, хотя он ни с кем не полемизировал своими подтверждениями? Причина в авторском мировоззрении. К подтвердительному изложению, по-видимому, привел принцип, последовательно проведенный автором, считавшим, что буквально все события, от великих до мельчайших, происходят «Божиимъ хотениемъ… а не человеческимъ самочиниемъ» (643): плохие события и дела «попущены» Богом, гневом Божиим, а хорошие дарованы, утверждены, поручены, споспешествованы, водимы Богом, его благоволением, помощию, заступлением, благодатию, хотением, силою, милостию, пособием, промыслом и мн. др. – подобными авторскими замечаниями, разъяснениями и восклицаниями обильно заполнено все изложение, каждый эпизод – «Богъ… везде сый и вся исполняя отъ небытия в бытие» (628). До «Степенной книги» повествователи, кажется, нигде так часто не ссылались на Бога. Раз «Богъ своею крепькою десьницею всегда и всюду наставляя» (630), то «крепко» надо писать о том, с усиленными подтверждениями соответствующих тем и мотивов.
Верой в непрестанность богоучастия в человеческих делах были порождены не только особая «подвердительная» манера повествования в «Степенной книге», но еще и авторское пристрастие к различным возвышающим мотивам в его исторических рассказах. Благодаря повсечасному и повсеместному участию Бога в событиях мир «Степенной книги» выше обыденного, свойства персонажей исключительные. Оттого прилагательными в превосходной степени начинил составитель текст семнадцатой части: царь – божественнейший, святейший, крепчайший, самодержавнейший, мужественнейший, кротчайший, возлюбленнейший и т. д. (666–668), «сладчайшее имя Иванъ» (629). Плохое, «попущенное» Богом тоже в превосходной степени: пожар – зельнейший, сильнейший, сугубейший (635); иконоборцы – злейшие (656, 662) и пр. Еще чаще в тексте употреблялись прилагательные с приставкой пре-: царь – Богом преславнейший, пресветлейший (666); митрополит – христоподобно превысочайший (634); Христа ради юродивый – сугубо преукрашенный (635); храм во имя Богородицы – «преудивленъ» (651); видения – предивные (637); победы – преславные (633, 649) и т. п. Сравнениями автор тоже повышал статус персонажей и их деяний как богоподдерживаемых: царь – «яко же Давидъ» (643), «подобно Моисею» (646), «яко же бо второе солнце» (666); царскими детьми – «яко райскими цветы крася» (652); александрийский патриарх – «лице его, яко лице ангелу» (665); юродивый – «яко бесплотенъ» (635); русские воины – «яко львы рыкающе» (646), «въ малыхъ челнехъ, аки въ кораблехъ» (673); чудесное – «светъ необыченъ, яко великъ пожаръ» (643), «звонъ… яко большого колокола гласъ» (646) и мн. др.
К возвышающим относятся также мотивы материального «изообилования» и довольства в повествовании: Москва – «милосердый же Богъ… всякая требования и богатства и утвари драгия сугуба дарова имъ… и различная имения ихъ усугубишася и всякаго блага исполнишася, тако же и торговая купля преизобиловала» (638), поход – «многое воиньство всюду, яко Богомъ уготовану, пищу обретаху… всякимъ благовоннымъ овощиемъ довляхуся… все бесчисленое воиньство не трудно доволяшеся. И тако всесильный Богъ пищу и всякую потребу… всюду готову и преизообильну устраяя… всякими потребами изообиловаху» (643); митрополит – «многимъ имениемъ изообилова его» (630); «христолюбий же царь… милостынею издоволи его» (665); монастырь – «благочестивый самодержецъ монастырь той имениемъ же… удовли… исполни… преисполнено украси» (652).
Наконец, к возвышающим мотивам относится всюду ощущаемая чудесность явлений. Традиционный мотив света и сияния, привычного в чудесах, знамениях и видениях, у автора перешел и на обыденную земную реальность, но благодаря участию Бога она тоже не совсем обыденна: например, перед падением Казани «разливашеся светъ надъ всемъ градомъ, во свете же мнози столпове пресветли блещахуся» – «христианское знамение» (646); а после казанской победы все «ведряно и светло… небеса – светлость… светлу и преславну победу нося… и все паче солнечнаго сияния просвещахуся» (647–649); у александрийского патриарха, избежавшего отравления, «просветися лице его» (665); царь «намъ светлейший явился еси… твое благочестие светится… и Божиею помощию… яко же… отъ солнычьнаго сияния грееми бываху» (666–667) и т. д.
Кроме того, удивительно беспрепятственно и «скороустремительно» передвижение богозащищенных персонажей у составителя «Степенной книги»: не только «мнози святии… по воздуху ходяху» (644) или юродивого «видеша его по морю ходяща, яко по суху» – «такову благодать приятъ отъ Бога великихъ чудодеяний» (635–636), но и «легцыи же воеводы» (632), и обыкновенные воины «скороустремительно поидоша… Богомъ подвизаеми… преидоша реку, яко ангеломъ носими» (658) или «Божиимъ хотениемъ… не трудно, яко играюще, преидоша» (643), «Богомъ подвизаеми… яко облакомъ носими, скороустремительно на градныя стены и на самый градъ скакаху» (646) и пр.
В общем, всеми относительно скромными красотами своего повествования составитель выразил представление о неотступном участии Бога в событиях везде и всегда. Такое доведенное до крайности представление еще не встречалось у древнерусских авторов.
Идея богоучастия постоянно смыкалась у автора «Степенной книги» с идеей богозащищенности. Автор, по-видимому, напряженно желал, непрерывно надеялся на помощь, защиту и покровительство Бога стране в свои дни. Поэтому начиналась семнадцатая часть с цитаты: «просите… и будетъ вамъ» (628); оттого человеколюбивым и милосердным автор часто называл Бога; повторял и более развернутые определения Бога как покровителя: «иже… отъ века и до века вся строя на пользу человеческому роду», «иже вся на пользу строяй человекомъ», «иже искони все на пользу строяй человеческому роду» (628, 630, 644); недаром автор затронул тему «невидимаго покрова Божия, всегда пребывающаго на верующихъ Богу» (645) и далее: «да будетъ покровъ и сохранение всемъ» (669); и даже молил (вместе с персонажами): «мы же непрестанно вопиемъ ти: “О, … Боже нашь, яко же ныне, тако и всегда не остави насъ и не отступи отъ насъ, помагая намъ, и милуя, и спасая насъ въ настоящей сей жизни и въ веки бесконечьныя!”» (648); и подтверждал с надеждой: «и до ныне чудеса содеваются – тако насъ пречистая Богородица преславно избавляя от всяческихъ бедъ и чюдесно спасая» (638), «пречистая Богородица… преславно и избавляя насъ отъ предлежащихъ бедъ» (637).
Литературный результат: тему божественной защищенности России и православных автор на разные лады повторял в рассказах семнадцатой части. Защищенность обретали города: например, Себеж обстреливало литовское войско прямо у города, однако «Божиимъ же заступлениемъ и посещениемъ пречистыя Богородица и чюдотворьца Сергия ни едино ядро пушечное и пищальное не прикоснулося ко граду, но чрезъ градъ летаху… иные же ядра предъ градомъ падаху» (633). Защиту получали и самые незащищенные персонажи, например, юродивый ходил полностью нагой и под знойным солнцем, и в лютый мороз – потому что «душевною же добротою неизреченно одеянну ему… его же ни огнь, ни мразъ не врежаше, Божия бо благодать греяше его» (635). Буквально все упоминания о Боге у составителя были так или иначе связаны с темой защищенности, помощи и поддержки, автор не отвлекался от этой темы, даже когда говорил о всяческих несчастьях: «сими скорбьми хотя ихъ очистити Господь, ово же утверждая Богъ совершено и непоколебимо царство…» (630), «человеколюбивый же Богъ… не хотя конечьной пагубе предати насъ» (635); «сама бо Богомати… всего мира покрывая и защищая отъ всякаго зла» (637); «всячески по Бозе благонадежно спасение имуще» (652) и пр.
Теперь охватим в целом всю «Степенную книгу». Для ее остальных частей типична та же подвердительная повествовательная манера, настаивание на тех или иных мотивах, хотя все-таки в меньшей степени – из-за включения множества разнотипных больших источников в общее повествование. Но рассмотрим самое начало – вступление к «Степенной книге», составленное в виде пространного жития княгини Ольги, которое написал Сильвестр, священник Благовещенского собора в Кремле4. Здесь составитель тоже все повторял один и тот же мотив. Например, сплошь подтверждал премудрость Ольги, начиная с заглавия: «…житие… въ премудрости пресловущия великия княгини Ольги», и далее: «премудрости и разума исполнена» (6); затем автор и персонажи постоянно поминали «Ольгу премудрую» (8): «Кто не удивится сея блаженныя Ольги премудрости, и мужеству, и целомудрию? …бе мо мудра паче всехъ, премудростию уразуме…» (11); в большинстве эпизодов персонажи удостоверялись в премудрости Ольги: «видевъ ю царь… въ беседовании смыслену, и разумомъ украшену, и въ премудрости довольну… и вельми царь почюдися великому разуму ея… глубокий въ премудрости умъ ея…» (13), «дивляше бо ся великия ея… тоя премудрости величеству» (16), «имеша ю яко едину отъ премудрыхъ и разумнейшу» (24), «ея же въ нашихъ родехъ никого же не бысть мудрейши» (26) и т. д.
Автор бессчетно подтверждал премудрость Ольги, потому что за всеми проявлениями этого качества всегда присутствовал Бог: даже когда Ольга «еще не ведущи Бога и заповеди его не слыша, такову премудрость… обрете от Бога» (8), «отъ Божия промысла свыше светомъ разума осияема» (12), а уж после крещения тем более «яко святый Духъ вселися въ душу ея и научи ю тако мудрствовати» (16), «отъ Него же неизреченную премудрости благодать обрете» (25) действовала «от Бога данною ти премудростию» (29), так что «дивити же есть… богодарованной премудрости и разуму блаженныя въ женахъ Ольги» (34), которую автор к тому же часто называл «богомудрой».
И другие качества Ольги настойчиво подтверждал автор, проводя идею всепроникающей богоданности: так, много раз автор возращался к теме мужества и целомудрия Ольги – ведь она «богоизбранный сосуде целомудрия» (29); постоянно связывал с ней мотив света и сияния, потому что она «богосиянная русская звезда», «Господь… приведе ю въ познание истиннаго света» (29, 16) и пр.
Множество фразеологических элементов переносил составитель жития из эпизода в эпизод. Например, рассказ о встрече Ольги с Игорем своими обозначениями и оценками перекликался с последующими рассказами, особенно о встрече Ольги с Цимисхием, да и с иными эпизодами, – их почти десяток, и словесно они изложены резко иначе, чем в «Повести временных лет». Вот заголовок рассказа: «О великомъ князе Игоре, како сочьтася со блаженною Ольгою»; и вот конец: «и тако сочьтана бысть ему закономъ брака» (7–8); а вот уже о Цимисхии: «умышляше ко счетанию» с Ольгой (13) «не получихъ счетатися» (16), «прельщаше ся… о счетании брака» (18–19).
Или другой мотив – «коварство». Сначала оценка домогательств Игоря: Ольга «уразумевше глумления коварство» его (7); потом та же оценка брачной интриги Цимисхия: Ольга «уразумевши, яко… симъ коварствомь поколеблетъ душу ея… коварство всячески тщащеся упразднити» (13); и снова о том же в речи Ольги: «О царю, несогласная тогда умышления коварства… коварство твое упразнися» (18–19).
Повторялись в житии обозначения еще одного мотива: Ольга с Игорем – «пресекая беседу неподобнаго его умышления» (7); то же происходит с Цимисхием, который «составляетъ беседу тщетну», но Ольга возражает: «ты, о царю, всуе о семъ беседуеши», «прекратимъ беседу» – «и душетленную его беседу мужествене отсече» (15–16).
Окончания рассказов также держались на повторах оценок – Ольга стыдила Игоря: «студная словеса износиши», «уязвенъ будеши всякими студодеянии», и тогда Игорь «со стыдениемъ своимъ и съ молчаниемъ преиде» (7–8); Цимисхий тоже «съ студомъ въ чювство прииде… студа гонзнути» и признался: «срамъ и студъ приобретохъ си» (16), и «со студомъ отъ таковыхъ умолче» (19).
И другие рассказы заполняли повторения мотивов, как например: «отъ всякого вреда вражия избавляемся» (7), «спасетъ и избавитъ от лукаваго» (17), «Божий же промыслъ весть благочестивыя отъ напасти избавляти» (22–23), «чистота бо древле Иосифа избави… Сусану… избави…» (25), «девьство… воздыхания избавительно» (31), «да избавитъ насъ господь Богъ от всякихъ напастей и бедъ» (38) и т. д.
Все это множество повторов культивировалось потому, что автор пунктуально выступал как идеолог: побуждал «прилежно искати разумъ къ Божии воле» в событиях (35) и повсеместно и по каждому поводу внушал, что все происходит «не отъ человеческаго научения, но отъ вышняя премудрости» (29): «всесильный Богъ своимъ неизреченнымъ промысломъ по чину строитъ» (35), «сице благодать Божия действуя древле и ныне овогда въ мужехъ, а овогда в женахъ» (37) и пр.
С идеей богоучастия сочеталась идея богозащищенности. Составитель жития надеялся на Божью защиту уже и в его время. О защите просила не только Ольга («помощи отъ Него требуя: “помощникъ ми буди и не остави мене, Боже”» – 13, 21), но и сам автор: «молитеся безъ вреда сохранити и спасти державу… самодержъца царя и великого князя Ивана… и со всеми христоименитыми людьми, яко… даруетъ имъ Господь везде и всегда, во всякомъ времени и месте на вся супротивныя… победу» и т. д. (30–31). Начальная часть «Степенной книги», таким образом, оказывается особенно сходной с последней, семнадцатой, частью книги «подтвердительной» повествовательной манерой и доведенным до крайности богоуповающим умонастроением авторов.
И далее повествовательное сходство время от времени наблюдается в оригинальных рассказах в «Степенной книге», отклоняющихся от ее летописных источников. Например, история о любовных домогательствах великого князя Юрия Святославовича Смоленского к чужой жене – к Ульянии Вяземской (в тринадцатой части книги) хотя и не так уж пространно изложена, но и не так лаконично, как, например, в «Софийской второй летописи» под 1406 г.5, и содержит много повторяющихся оценок и соответственно пронизывающих текст мотивов. Ульяния объявляется целомудренной, что бы с ней не случилось: «та бяше целомудрена… ея же целомудреному благоумию позавиде древний врагъ диаволъ… Она же… о целомудрии подвизашаеся… видя… такову крепкодушьну о целомудрии ревность… целомудреныя княгини Ульянеи» (445); а князя сопровождают слова «блуд», «стыд» и «срам»: «уязвенъ бысть на ню блудною бранию и… безстуднымъ устремлениемъ… Онъ же срама исполнися… паче приложи къ блудному устремлению… Князя же Юрья Святославича отвсюду обыде сугубъ студъ и поношение, сугубо же срамота и укоризна… не могий терпети срама и поношения…» Все это совершено под неотступным Божьим наблюдением и потому фразеологическими повторами подчеркнуто автором.
Чтобы понять историко-литературное место «Степенной книги», совершим небольшой экскурс в предшествующие годы в обратном хронологическом порядке. Специфическое «подтвердительное» повествование появилось еще до «Степенной книги»; уже в конце 1550-х годов оно использовалось, например, в «Житии Нифонта Новгородского», которое в 1558 г. по разым источникам составил плодовитый агиограф псковский священноинок Василий-Варлаам6. Словесно-фразеологических повторов очень много в сочинении Василия, особенно в местах, им самим написанных, начиная со вступления: «Благословенъ Богъ-Отецъ вседержитель… всехъ составление содержай… содержавная славою… содетель и содержитель…»; тут же параллельно следуют и другие повторы: «творецъ… всея твари сотвориша… животворящии» и т. д.7 Или: «отъ благочестну и святу и милостиву родителю рождься… токмо вемы, яко отъ благочестну родителю и святу рождься… Бяху же благочестнии родители святаго отрока… во благочестии живуще… сей мужь благочестивый и съ супругою… отроку отъ такову родителю благочестну» и т. д. (2).
И дальше изложение вязко тянулось повторами сюжетно значимых слов: «родителие же… моляху Бога…, чтобъ имъ послалъ Богъ плодъ чревныи… И услыша Богъ чистую молитву ихъ и дастъ имъ плодъ чреву… понеже Бог не презри молитвы родителей онехъ и дастъ имъ плодъ чрева… яко же древле Иоакима и Анну услыша Богъ… и дастъ имъ плодъ чреву… тако же и сего святаго отрока родителей не презре Богъ моления изъ и… дастъ имъ плодъ чрева» (2).
Но в отличие от «Степенной книги», не идеей о доскональной богоуправленности всего в мире было проникнуто «подтвердительное» повествование у Василия в «Житии Нифонта», а скорее, желанием постоянства и незыблемости, помогающем благополучно переплыть «море жития сего, лютаго миродержца непостоянную пучину» (7). Все персонажи «Жития Нифонта» имеют касательство к идее постоянства в мире. Например, родители Нифонта, если кормили нищих, то «трапезу имъ поставляше множицею и тако творяху… и до исхода душы своя еже от телеси и паки всегда хождяху въ церковь» (2), так и отошли «въ вечный покой» (3), – образец постоянства. Сам Нифонт: «молитва бяше во устехъ его всегдашняя» (3), «вельми крепостию себе утвердивъ» (5), «душею крепкии» (6) и т. д., «и паки восприятъ… вечное наслаждение» (5) – идеал постоянства. Вообще все святые «молятъ непрестанно» (6), «творятъ непрестанно» (8), обращаются «къ незаходимому солнцу Христу» (8) – все у них постоянно. Грешникам суждено впасть в «муку безконечную» (7), даже сам сатана связан «нерешимыми узами железными во веки и на веки» (3) – отрицательный мир тоже пребывает в постоянстве своих черт.
Перейдем к более раннему времени – концу 1540-х годов, когда выходец из Пскова и затем протопоп московского дворцового собора Ермолай (позднее в монашестве – Еразм) написал «Повесть о Петре и Февронии»8. «Повести о Петре и Февронии» тоже свойственна «потвердительная» манера повествования. Например, даже в одном небольшом эпизоде Петр трижды повторяет: «мне же не косневшу никамо же, вскоре пришедшу… и нигде же ничесо же помедлив, приидох… Приидох же паки, ничто же нигде паки помедлив»9. И еще повтор: «чюжуся, како брат мой напреди мене обретеся… и чюдяхся, како напред мене обретеся… не вем, како… напред мене обретеся». И много других повторов в этом же небольшом эпизоде: «разуме быти пронырьство лукаваго змия… се есть, брате, пронырьство лукаваго змия» и пр.
В других эпизодах другие персонажи тоже, можно сказать, прилипли к повторам: «вниде в дом… и вниде в храмину… внидох к тебе… прииде в дом сий и в храмину мою вниде» (214). Изложение толчется на месте: «…иде чрез ноги в нави зрети… глаголя, чрез ноги в нави зрети… иде… чрез ноги зрети к земле… рех, яко иде чрез ноги в нави зрети».
Вся повесть переполнена повторами повсеместно и во множестве, но на этот раз выдают они не потребность автора в богозащищенности или хотя бы в стабильности мира – такое потребуется позже, – а желание понять загадочный мир. Поэтому герои повести все время пытаются в чем-то разобраться и что-то уразуметь, о том и признаются: «не свем и чюжуся» (213); «не внят во ум глагол тех… не разуме глагол ея… глаголы странны некаки, и сего не вем, что глаголеши… и ни единого слова от тебе разумех» (214); «не вемы… да того ради вопрошаем… хотя в ответех искусити» (215); «яко же рчет, тогда слышим» (218) и пр. За надоедливым «подтвердительным» повествованием скрывается постоянная сосредоточенность и вдумчивость персонажей: «в сердци си твердо приимши, умысли во уме своем… добру память при сердцы имея… в сердцы си твердо сохрани» (212); «нача мыслити… бяше в нем мысль, яко не ведыи… искаше подобна времени» (212); «во уме своем держаше» (218); «приим помысл» (219) и т. д.; даже сам автор говорит о своей вдумчивости: «трудихся мыслми» (223), а общий его вывод таков: «ум же началствует» (210), «пребывает в человецех ум, яко отец слову». Думание это особого рода – о будущем, герои пытаются предусмотреть будущее: «мысляше, что… сотворити, но недоумеяшеся» (211); «не ведуще будущаго» (218); только у Февронии «есть прозрения дар» (219).
В общем, получается, что в течение лет 15, с конца 1540-х по начало 1560-х годов, «подтвердительное» повествование выражало нарастающие степени озабоченности авторов, – от их напряженных раздумий о ближайшем будущем (в «Повести о Петре и Февронии») до поисков постоянства в этом мире («Житие Нифонта») и, наконец, до страстного желания, чтобы Бог защищал нас непрерывно («Степенная книга»). Через год была введена опричнина.
Но пойдем дальше в прошлое. В еще более ранние годы, в начале 1540-х годов (наверное, и несколько раньше), «подтвердительное» повествование использовалось, как правило, сугубо в документально-юридических целях – при официальной фиксации хода различного рода переговоров сторон: что стороны предлагали, о чем договорились и что выполнили. Например, в конце «Воскресенской летописи» 1542–1544 гг.9, под 1514 г., помещен изобилующий фразеологическими повторами рассказ о походе Василия III на Смоленск. Смольняне просили, чтобы «князь великий государь пожаловалъ… бою престати повелелъ… чтобы великий государь свою отчину и дедину пожаловалъ, опалу свою и гневъ имъ отдалъ, а очи свои велелъ имъ видети и служити имъ себе велелъ». Так оно и стало: «и князь великий государь въскоре повеле бою престати… и великий государь свою отчину и дедину пожаловалъ… свою опалу и гневъ отдалъ имъ, и очи свои велелъ имъ видети, и служити имъ себе велелъ» и т. д.10 Далее в рассказе видно, как точная, юридическая «подтвердительность» переходит в более вольную, повествовательную «подтвердительность»: «боляры и воеводы и съ всеми людми… радующеся… такожде и жены межи себе и дети обрадовашася… и възрадовашася… и бе тогда радость видети… въ всемъ граде Смоленске промеже обоих людей радость и веселие» (256).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































