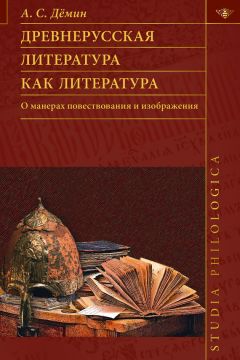
Автор книги: Анатолий Демин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 38 страниц)
Некоторые детали образа идеального утра принадлежали литературной традиции; в частности, сопоставление воинских доспехов и солнечного света. Так, например, в «Галицко-волынской летописи», в повести под 1251 г. содержалось сходное описание войска: «щите же ихъ, яко заря бе, шоломъ же ихъ, яко солнцю восходящю» (318)6. Ср. в «Хронике» Константина Манассии: «облиставааху копиа, сиааху же шлемове, и щитове зореаху ся, и въздухъ облиставааше ся сулицами» (203). В летописи и «Хронике» мотив света скользнул, как солнечный зайчик, и не был продолжен; автор же «Сказания о Мамаевом побоище» собрал чужие сравнения, не добавив ни одного своего, но составил из них образ утра.
Тут же был упомянут и конь: «Князь же великий, видевъ плъци свои достойно уряжены, и сшед с коня своего» (39). Княжеский конь, разумеется, относился к воинской картине, но одновременно, благодаря нейтральности упоминания и отсутствию явных воинских признаков, вошел и в картину утра, находясь на периферии этого образа в качестве добавочной, «тихой» детали.
Мирное преображение коня повторилось в последующем эпизоде – ночном испытании примет князем. Ночь изображена исключительно уютной: «бысть же въ ту нощь теплота велика, и тихо велми, и мраци роснии явишася» (40). Автор в связи с этим процитировал высказывание якобы из пророческих книг: «Нощь не светла неверным, а верным просвещена» – то есть косвенно указал еще на одну реальную особенность ночи, не только теплой, тихой, росистой, но и светлой. Конь снова был упомянут: когда «заря померкла, нощи глубоце сущи», один из персонажей, выехав в поле, «сниде с коня». Конь не связывался со зловещими или жалостливыми приметами, которые исходили издалека, на пределе зрения и слуха наблюдавших, а входил в картину идеально мягкой и обволакивающей ночи как дополнительная мирная деталь.
Далее в повести, в эпизоде выезда к месту битвы, когда русские воины принялись «рано утре… подвизатися на кони своа» (40) и «великому же князю преседающу на избранный конь» (41), кони со всадниками словно растворились в тумане, что и отметил автор: «Въсходящу солнцу, мгляну утру сущу… Плъки же еще не видятся, зане же утро мгляно» (41) – картина опять смягченная, изображено нежное утро, продолжившее уютность ночи; во всяком случае, «мгляность» не толковалась отрицательно автором «Сказания» (в противоположность так называемой пространной летописной повести о Куликовской битве, по которой туман в то утро выглядел зловещим: «Бысть тма велика по всей земли: мьглане бо было беаше того от утра» – 20). Они в «Сказании» опять связывались с покоем, умиротворенностью природы, а тяжкие предзнаменования, о которых говорилось дальше («реки же выступаху из местъ своихъ» и пр.), коней не касались.
Конь связывался с хорошей погодой и мирной природой в таких эпизодах «Сказания», где этого не приходилось ожидать, – в повествовании о самой битве: «На том бо поле… выступали кровавыа зари, а в них трепеталися силнии млъниа… люди, аки древа дубравнаа, клонятся на землю… небо развръсто, из него же изыде облакъ, яко багрянаа заря… дръжашеся низко… и опустишася над плъком» (43–44) – все это символы ожесточенной битвы, но параллельно и реалии, составляющие картину грозной, потрясенной и взбаламученной природы. Они, упоминавшиеся здесь («и удари всякъ въинъ по своему коню» – 43), участвовали в свалке битвы и в вихре природы. В картине наметились три уровня. Верхний: разыгравшиеся небеса, зори, молнии, облака; средний: древа дубравные, мечущиеся кони; нижний: гибнущие под конями люди («под коньскыми ногами издыхаху» – 43, падали «под конъскыа копыта», даже «самого же великого князя, с коня его збиша» – 44). Это не значит, что связь «кони – мирная природа» прервалась у автора – ведь описывал он именно нарушения, отклонения от нормального мира: «Яко не мощно бе сего гръкаго часа зрети никако же» (43–44). А что «мощно зрети», что не «гръко»? Естественный, не вызывающий горечи порядок вещей автор подразумевал следующим: нормально, когда зори не кровавые, да еще с молниями, а ясные и спокойные; нормально, когда небо не разверсто, а образует ровный свод; нормально, когда облака не багряные, да еще низкие, а белые и высокие; нормально, когда дубрава не клонится, а стоит стройно; нормально, наконец, когда всадники находятся на конях, а не под копытами. В подразумеваемой автором нормальной картине все трафаретно; непривычна лишь прибавка коней, которые все-таки связывались у автора именно с покоем, тихой погодой, прекрасной природой.
Подобная же скрытая связь повторялась и в заключительном рассказе о тяготах битвы: «сечаху… аки лес клоняху, аки трава от косы постилается… изрываху, аки овчее стадо … кони их утомишася» (45). Естественным, не тягостным состоянием подразумевалось то, когда лес не клонится, а стоит ровно; когда трава не постилается, а тянется вверх; когда овечье стадо не разгоняемо, а цело; когда кони не утомлены, а бодры – это картина мирной природы, в которую включены и кони.
И далее, при подведении итогов закончившейся битвы: «грозно, братие, зрети тогда, а жалостно видети и горько посмотрити… а трупу человечьа – аки сенныа громады; борзъ конь не может скочити, а в крови по колени бродяху, а реки по три дни кровию течаху» (45). А что же представлялось автору не грозным, не «жалостным» и не горьким, на что ему было смотреть приятно? На мирный пейзаж: на стога сена, на чистые реки, на беспрепятственно скачущего коня. Место коню в идиллическом мире природы – опять та же связь.
Но вот воины, снедаемые беспокойством, ищут пропавшего великого князя и находят: «уклонишася в дуброву… и наехаша великого князя бита, и язвена вельми, и трудна, отдыхающи ему под сению ссечена древа березова» (45), – картина, редчайшая для древнерусской литературы, лишенная воинской героики и содержащая мотив обессиленного отдохновения человека, его оцепенения вместе с природой: в дуброве (она названа и «дебрью» – 44) упала ссеченная береза, лежит в ее тени контуженный князь (в Киприановской редакции добавлено: «под ветми лежаше, аки мрътв» – 67). Сразу следуют упоминания коней, хотя упоминать их было не обязательно: «И видеша его и, спадше с коней… и приведоша ему конь». Природа смиренна, смиренны люди и смирны кони (недаром добавлено: «И приведоша великому князю конь кроток» – Печатный вариант основной редакции, 124) – кони опять связывались с покоем, пусть и болезненным.
Конечно, в «Сказании» встречались эпизоды, где конь упоминался только с ратью, входил в воинскую картину, например: «И вседе на избранный свой конь, и вземъ копие свое и палицу железную, и подвижеся ис полку» – о природе ничего не сказано (42). Но такие случаи единичны. В подавляющем большинстве эпизодов кони связывались у автора с тихостью, с хорошей погодой, с приятным ландшафтом, с отдохновением от напряжения, с мирной или смиренной природой. Связь «конь – мирная природа» пронизала все «Сказание», хотя конь оставался боевым и не становился «сельскохозяйственным» орудием.
Автор «Сказания» не мог перенять анималистическую манеру из «Задонщины», а тем более из «Слова о полку Игореве», которые не связывали коней со спокойной природой. Однако нечто похожее на мирных коней «Сказания» существовало в фольклоре, например в былинах, где не раз упоминались кони во зеленых тихих заводях («Алеша Попович», «Михайла Азаринов», «Потук Михайла Иванович», «Царь Саул Леванидович» – перечисляем былины, как они следуют в сборнике Кирши Данилова. Ср. также былины «Илья Муромец и сокольник», «Сухман» и др.). Конь упоминался и у березы «покляпыя» (в былине «Илья Муромец и Соловей-разбойник»). Связь коней с тихой природой в «Сказании о Мамаевом побоище», вероятно, была навеяна поэтикой устных преданий. Странного тут нет: исследователи отмечали в «Сказании» и многие другие фольклорные мотивы7. Автор проявил себя как памятливый, переимчивый, достигающий художественного эффекта компилятор.
В эстетическую заслугу автору «Сказания» можно вменить то, что в письменности он одним из первых подключил коня (со всадником) к идиллической картине природы. В литературе XV в. аналогий этому не подыскивается. Лишь с конца XV – начала XVI в. конь появился в идиллической обстановке, например, в «Повести о Тимофее Владимирском», где герой и его конь действовали в покойном и умилительном месте: «Идущу же ему чистым и великимъ полемъ… едущу же ему на коне своемъ… и пояше умилно красный стих любимый пресвятеи Богородице: “О тебе радуется, обрадованная, всякая тварь”» (60) – здесь каждая деталь украшала и успокаивала, здесь герой «свое сердце во умиление положи» и «спа до утра на траве» (60, 62). Затем конь стал являться в светлых, благостных видениях. Например, в «Степенной книге» рассказывалось о том, что в 1491 г. Александр Невский привиделся «на кони… яздяща» в облаке, а «облак легкий протязашеся или, яко дымъ тонокъ, изливаяся, белостию же яко иней чистъ, светлостию же, яко солнцу подобообразно, блещася» (569). В сиянии предстал конь в рассказе о явлении Николы Мирликийского в 1559 г.: «светлый онъ мужъ, на кони ездя… вниде на кони въ церковь. И въ церкви тако же светъ велий явися» (672). К началу XVII в. конь занял постоянное место в красивых, цветных, почти лубочных пейзажах повестей о Бове и о Еруслане Лазаревиче.
Итак, в «Сказании» было изображено два мира животных: один – героический, а другой – идиллический. Но возьмем почти любой эпизод, например сцены начала похода: здесь одновременно и бок о бок действовали и героически неукротимые соколы со стадами лебедиными и гусиными, и комфортные кони, овеваемые «ветрецом» и озаряемые тихим утренним солнцем. Миры легко и пестро сочетались в «Сказании», не порождая принципиально нового целого, потому что автор всюду основывался на одинаковом принципе, высококвалифицированном по тем временам, – на игре формулами и шаблонами, на эклектическом эффекте украшенности9. Почти каждый эпизод он насыщал небывалым множеством традиционных деталей, книжных и фольклорных.
Почти каждый эпизод в «Сказании» сопровождался неоднократными замечаниями о том, как все это «видети», «зрети» или «посмотрит» – и персонажам, и авторам, и читателям: «взъехавъ на высоко место и увидевъ» (39), «на высоце месте стоя, видети» (40), «выехав на высоко место… зряй» (43), «особь стояти и нас смотрити» (42), «и видети добре» (41), «видиши ли что, княже? – …Вижу» (40) и т. д. и т. п. В древнерусских памятниках учащение упоминаний о зрении и смотрении всегда было связано с усилением изобразительности повествования. Автор «Сказания» тоже склонялся к усилению зримости картин, но делал он это, оставаясь энергичным и тонким книжником-компилятором, однако без привлечения деталей, им лично наблюденных. Творчество этого автора знаменовало собой напряжение старой манеры описаний, но еще без открытия манеры новой.
Примечания
1 Цитируемые произведения: «Галицко-Волынская летопись» – ПЛДР. Т. 3 / Текст памятника подгот. О. П. Лихачева; «Житие Авраамия Смоленского» – Древнерусские предания: (XI–XVI вв.) / Текст памятника подгот. В. В. Кусков. М., 1982; «Задонщина» – Тексты «Задонщины» / подгот. Р. П. Дмитриева // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла: к вопросу о времени написания «Слова». М.; Л., 1966; Летописная повесть о Куликовской битве, пространная – сказания и повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев. Л., 1982; «Повесть о Тимофее Владимирском» – ПЛДР. Т. 6 / Текст памятника под гот. Н. С. Демкова; «Сказание о Мамаевом побоище», Забелинский список – Повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. М. Н. Тихомиров. М., 1959; «Сказание о Мамаевом побоище», Киприановская редакция – Сказания и повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. О. П. Лихачева. Л., 1982; «Сказание о Мамаевом побоище». Летописная редакция повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. М. Н. Тихомиров. М., 1959; «Сказание о Мамаевом побоище». Основная редакция – Сказания и повести о Куликовской битве / Текст памятника подгот. В. П. Бударагин и Л. А. Дмитриев. Л., 1982; Печатный вариант Основной редакции – Там же / Текст памятника подгот. Л. А. Чуркина; Распространенная редакция – Там же / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев и Л. А. Чуркина; «Степенная книга» – ПСРЛ. Т. 21. Ч. 2; «Хроника» Константина Манассии – Средне болгарский перевод Хроники Константина Манассии в славянских литера турах / Тексты памятника подгот. М. А. Салмина. София, 1988.
2 См.: Дурново Н. Н. Истории сказаний о животных в старинной русской литературе. М., 1901. С. 3, 8–9, 36–37; Орлов А. С. об особенностях формы русских воинских повестей (кончая XVII в.). М., 1901. С. 5, 29–32.
3 См.: Дурново Н. Н. Указ. соч. С. 3; Орлов А. С. Указ. соч. С. 32–33.
4 О соотношении этого места «Сказания» с «Задонщиной» см.: Дмитриев Л. А. Вставки из «Задонщины» в «Сказании о Мамаевом побоище» как показатели по истории текста этих произведений // «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла: к вопросу о времени написания «Слова». М.; Л., 1966. С. 396–397.
5 О соотношении с «Задонщиной» см.: Дмитриев Л. А. Указ. соч. С. 407–409.
6 Дмитриев Л. А. Указ. соч. С. 410–411.
7 См.: Дмитриев Л. А. Указ. соч. С. 396–397.
8 См.: Кирпичников А. Н. Великое Донское побоище // Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982. С. 292; Дмитриев Л. А., Лихачева О. П. Историко-литературный комментарий // Там же. С. 390.
9 Связь замечена: Орлов А. С. Указ. соч. С. 15.
10 Ср., например: Адрианова-Перетц В. П. Древнерусская литература и фольклор. Л., 1974. С. 56; Путилов Б. Н. Куликовская битва в фольклоре // ТОДРЛ. Т. 17. С. 115–128; Азбелев С. Н. Об устных источниках летописных текстов (на материале Куликовского цикла) // Летописи и хроники: 1976. М., 1976. С. 98– 101; Дмитриев Л. А. Сказание о Мамаевом побоище // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1989. Вып. 2. Ч. 2. С. 379–380.
11 Ср.: Колесов В. В. Стилистическая функция лексических вариантов в Сказании о Мамаевом побоище // ТОДРЛ. Т. 34. С. 33–48. В. А. Кучкин видит в «Сказании» «творчество умного человека» (устное высказывание исследователя на обсуждении моего доклада в ИМЛИ в 1989 г.). Ср.: «Отдельные элементы старой формы используются в новом произведении как своего рода украшения» (Лихачев Д. С. Избранные работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 1. С. 464); «оставаясь эстетически неполноценным, эклектизм тем не менее в аспекте историческом может развивать в себе элементы будущего искусства» (Там же. Л., 1987. Т. 3. С. 448).
«Сказание о Мамаевом побоище»: роль чувств
Самое детальное, написанное в традиционной повествовательной манере древнерусское произведение о подготовке и проведении Куликовской битвы было составлено, судя по новейшим научным данным, в 1521 г. коломенским епископом Митрофаном1 и первоначально, вероятно, не имело заглавия (что было в порядке вещей). Сочинение начиналось примерно с такого торжественного авторского вступления: «Хощу вам, братие, начати повесть новыа победы, како случися брань на Дону православным христианом з безбожными агаряны, како възвысися род христианскый, а поганых уничижи Господь и посрами их суровство…»2 На основе этой вступительной фразы и стали формироваться заголовки уже в ранних списках повести. В одних заголовках ключевым стало слово «победа»: «Начало повести, како дарова Богъ победу…»3 В других заголовках ключевым выступило слово «брань»: «Сказание о брани…»4 Но возобладали в списках заголовки, упоминающие «побоище»: «Повесть о побоищи Мамаеве…»5; «Сказание о Мамаевом побоище и похвала…»6 Позднее, не ранее ХVII в., получил распространение и несколько иной заголовок: «Сказание о Донском бою и похвала…» Еще позже, но еще в ХVII в., произведение иногда называли: «Сказание известно о нашествии Мамаеве…» Многие списки повести имели индивидуальные заголовки или по-разному контаминировали выражения из старых заголовков. Все это показывает, как настойчиво книжники пытались определить суть данного, казалось бы, совершенно понятного памятника.
А суть памятника, особенно его повествовательная манера, действительно, была не такой уж простой. Рассмотрим лишь одну литературную особенность «Сказания». Произведение рассказывало о сильных чувствах персонажей. Например, великий князь московский Дмитрий Иванович представал преимущественно печальным, унылым, горестным, тужащим, плачущим: «пригнувъ руце к персем своим, источникъ слезъ проливающи»6; «слезы, аки река, течаше от очию его» (41); «слезами мыася» (47) и т. п. Русское войско, напротив, выглядело, как правило, бурно радующимся: «мнози же сынове русскые възрадовашяся радостию великою… правовернии же человеци паче процьветоша радующеся» (38); «грядуще же весело, ликующе, песни пояху» (47) и пр. Мамай постоянно пребывал в дьявольском гневе и ярости: «диаволомъ палим непрестанно… акы неутолимая ехыдна, гневом дыша» (26); «неуклонно яряся… неуклонным образом ярость нося» (28); «и пакы гневашеся, яряся зело» (48). Второстепенные персонажи «Сказания» также были подвержены чувствам. Положительные персонажи глубоко печалились. Так, русские княгини стояли «въ слезах и въ склицании сердечнем… слезы льющи, аки речьную быстрину; с великою печалию приложывъ руце свои къ персем своим» (33). Отрицательные персонажи страшно злились: татары всегда «злые», союзник Мамая Ольгерд Литовский «нача рватися и сердитися» (36) и т. д. Все это проявления так называемого литературного этикета.
Но за пределы литературного этикета вышло то, что в большей мере именно чувства стали определять деятельность персонажей в «Сказании». Например, Мамай не просто продумал свой поход и напал на Русь, но в первую очередь внутренняя сердечная страсть побудила его сделать это: Мамай – «злый христьанскый укоритель; и начатъ подстрекати его диаволъ и вниде вь сердце его напасть роду христианскому» (25). Сердечная страсть заставила Мамая ставить самые радикальные цели: «наусти его, како разорити православную веру» – «сядем и Русью владеем», «обогатеемъ русскым златом» (25–26). Страсть подвигла Мамая к публичности: «начатъ хвалитися… и нача подвижен быти… нача глаголати къ своим еулпатом, и ясаулом, и князем, и воеводам, и всем татаром». Страсть толкнула Мамая на немедленные, быстрые действия: «И по малех днех перевезеся великую реку Волгу со всеми силами». Но – самое примечательное – страсть затмила Мамаю разум: «ослеплену же ему умомъ».
Точно так же действовали чувства, и не обязательно злоба, у других отрицательных персонажей в «Сказании». Например, Ольгерд Литовский «велми рад бысть», и уже от радости разрастались его намерения: «А мы сядемъ на Москве и на Коломне; … княжение Московское… разделим себе» (27). От радости он стал быстрым: «И посылаеть скоро посла к царю Мамаю». И точно так же страсть делала таких людей безумными: «Не ведаху бо, что помышляюще и что се глаголюще, акы несмыслени младые дети».
Однако и на положительных персонажей чувства воздействовали сходным образом. Так, под влиянием эмоций великий князь Дмитрий Иванович действовал быстро: «по всей Русской земли скорые гонци разославъ» (30), «и въскоре посла весть» (37); регулярно превращался в пылкого оратора, иногда наедине, но чаще публично произносившего многочисленные и большие речи: «велми опечалися… и пад на колену свою, нача молитися» (28); «из глубины душа нача звати велегласно… Коемуждо полку рече» (39); «сердцем боля, кричаше…: “Братиа, русскыа сынове, князи и бояре, и въеводы, и дети боярьские!”» и др. Чувства в данном случае не мешали уму, подстегивали память. Даже жена Дмитрия Ивановича, великая княгиня Евдокия, от горя «сяде на урундуце» и вспомнила о давней несчастной Калкской битве с татарами: «От тоа… великого побоища татарскаго и ныне еще Русскаа земля уныла» (33). В общем, чувства персонажей выступили в «Сказании» важнейшим фактором развития событий.
Такая особенность повествовательной манеры «Сказания» была достаточно необычной для древнерусской литературы. Ранее двигателем событий служили мысли героя или вести, им услышанные. Но ни в одном из предшествующих древнерусских произведений, включая многочисленные источники «Сказания» и различные воинские повести, роль чувств не получилась такой большой, как в «Сказании».
По изображению чувств ближе всех к «Сказанию о Мамаевом побоище» стоит подробная «Летописная повесть» о той же битве, созданная лет за сто до «Сказания», в 1430-х годах, и в «Сказании» затем использованная. В «Летописной повести», как и потом в «Сказании», Мамай тоже гневался, великий князь Дмитрий Иванович и жены русские тоже проливали слезы и пр. Однако, в отличие от «Сказания», в «Летописной повести» чувства персонажей не выступали постоянным двигателем событий. Вот, например, Мамай «възбуявся и възгордяся и гневаяся, и стоя три недели со всемъ своимъ царствомъ»7 – Мамай никуда не кинулся под влиянием чувств, а хоть и в гневе, но стоял три недели на одном месте. В «Летописной повести» чувство зачастую одолевало персонажа лишь после какого-нибудь события, а не перед поступком. Так, «Мамаи же, слышавъ приходъ великаго князя Дмитрия Ивановича со всеми князи русскыми и со всею силою к реце к Дону и сеченыя своя видевъ, и възьярися зракомъ, и смутися умомъ, и распалися лютою яростию, и наполнися, акы аспида некая, гневомъ дышуще» (35) – ясно сказано, что ярость Мамая была вызвана действиями Дмитрия Ивановича; но эта ярость не выступила причиной действий самого Мамая; упомянуто только, что он сказал: «Двигнемъся всею силою моею темною», однако рассказа об этом деянии Мамая нет, чувство осталось вне последующего события.
Обычно же в «Летописной повести» упоминания чувств персонажей только как декор сопровождали описания событий. Типична, например, такая сценка: «И се поиде великая рать Мамаева и вся сила татарьская. А отселе поиде велии князь Дмитрии Иванович со всеми князи русскыми, изрядивъ полкы противу поганых со всеми князи русскими, со всеми ратми своими. И възревъ на небо умиленыма очима, и въздохнувъ из глубины сердца, и рече слово псаломьское: “Братие! Богъ намъ прибежище и сила”. И абие съступиша обои силы велици на долгъ час вместо…» (37) и т. п., – «умиление» Дмитрия Ивановича стоит тут как бы не на месте (сначала пошел на татар, а потом, словно спохватившись, стал молиться); без «умиления» можно было бы и обойтись, не нанеся ущерба изложению; «умиление» – это всего лишь положенное украшение такого рода эпизодов.
В «Сказании о Мамаевом побоище» же чувства персонажей заняли более четкое и определяющее место. Эта нетрадиционность повествовательной манеры «Сказания» свидетельствует о каких-то изменениях в мироощущении автора первой четверти ХVI в. сравнительно с его предшественниками.
Чувства активно включились в ход рассказов, оттого что описываемый мир представлялся автору «Сказания» гораздо более разнообразным, чем прошлым сочинителям. Отсюда многие следствия. По причине разнообразия мира разнообразней стали переживать персонажи в «Сказании». Так например, великого князя Дмитрия Ивановича автор изобразил охваченным одновременно разными, противоположными или сложными чувствами: Дмитрий Иванович «нача сердцемъ болети, и наплънися ярости и горести, и нача молитися: “…подобаеть ми тръпети…”» (29), – подобное сочетание ярости, горести и смирения героя было невиданным в литературе, тем более в предыдущих сочинениях о Куликовской битве.
И далее в «Сказании» Дмитрий Иванович одновременно и «плача и радуася: о убиеных плачется, а о здравых радуется» (47) – это сочетание чувств также было не совсем обычным. Кроме того, на протяжении изложения у Дмитрия Ивановича неоднократно и сильно менялись настроения: вот «князь же великий прослезися», но ему говорят: «просвети си веселиемъ очи сердца», – и князь «нача утешатися» (29–30); но снова «великому же князю нужно (тревожно) есть», и затем снова «князь же великий обвеселися сердцемъ» (31); вот «князь же великий нача думати» в нерешительности, но ему советуют «оставити смерътнаа, буйными глагола глаголати», и князь «взьехавъ на высоко место» и пр. (37–39) – Дмитрий Иванович в «Сказании» выглядел гораздо изменчивей, чем он же в других произведениях о Куликовской битве.
Чувства прочих персонажей в «Сказании» тоже стали необычно неоднолинейны. Так, лютый Мамай «скрегча зубы своими, плачуще гръко» (45) – и злится, и досадует, и горюет. Олег Рязанский «начатъ боятися … нача опалатися и яритися» (35) – боязнь смешалась с яростью.
Конечно, сочетания и перемены чувств у персонажей «Сказания» не отличались большим разнообразием. Например, подобно Дмитрию Ивановичу, Дмитрий Ольгердович тоже «нача радоватися и плакати от радости» (36); «мнози же сынове русскые възрадовашяся радостию великою», но затем «унывають» (38), а потом «аки лютии влъци… начаша… сещи немилостивно» (45) – радость сменяется горем, а после гневом; эти небогатые наборы чувств характерны для «Сказания». Но раньше в произведениях и их не было или почти не было.
В описаниях общей обстановки, особенно в серии батальных сцен «Сказания», давало знать о себе авторское ощущение не только разнообразия, но и парадоксальности мира. Странно описывается, к примеру, выезд русского войска из Москвы. С одной стороны, погода благостна и войско спокойно: «Солнце… на въстоце ясно сиаеть», «солнце добре сиаеть, … кроткый ветрецъ вееть», «синиа небеса», «урядно убо видети въйско…»; а с другой стороны, как раз нет ни благостности, ни тихости у выезжающего войска: «аки соколи урвашася… и възгремеша своими златыми колоколы и хотять ударитися на многыа стада… хотять наехати на великую силу татарскую» (33), – сочетаются и кротость, и агрессивность. Противоречивость повествования можно было бы объяснить неудачным пересказом «Задонщины» автором «Сказания», если бы такие случаи не повторялись в «Сказании» неоднократно. Далее войско продолжает свое чинное шествие «по велицей шыроце дорозе… успешно, яко медвяныя чяши пити»; но одновременно и с вызывающей энергией, так что «стукъ стучить и громъ гремить по ранней зоре» (34) – тут отнюдь не неумело, а осмысленно использована «Задонщина» автором «Сказания» для создания живых, неоднотонных картин.
Затем в «Сказании» рассказывается о смотре руского войска накануне сражения, и противоречивые мотивы особенно выразительно переплетаются в этом рассказе. С одной стороны, ясная тихость свойственна собравшемуся на поле русскому войску: знамена «аки некии светилници солнечнии светящеся въ время ведра; и стязи ихъ золоченыа… тихо трепещущи… шоломы злаченыя… аки заря утреняа въ время ведра светящися». С другой же стороны, некая бурность пронизывает войско: «стязи… ревуть … хоругови аки жыви пашутся, доспехы же… аки вода въ вся ветры колыбашеся … яловци (флажки) же шоломовъ их аки пламя огненое пашется» (39), – и полностью ведрено, и сильно ветрено одновременно. И смотрящие на это войско испытывают очень разные чувства: «Умилно бо видети и жалостно зрети таковых русскых събраниа… Сему же удивишася…», – умиление, жалость, удивление, потому что все видимое стало неожиданно разнообразным.
Авторское представление о парадоксальном разнообразии мира отразилось и во многочисленных развернутых параллелях между русскими и татарскими войсками в «Сказании». Так, глубокой ночью перед завтрашней битвой со стороны татарского войска доносится «стукъ великъ, и кличь, и вопль… и аки гром великий гремить … волъци выють грозно велми» и пр., а со стороны русского войска «бысть тихость велика». Затем персонаж, находящийся в поле между двумя войсками, слышит «землю плачущуся надвое»: татарская сторона «аки некаа жена напрасно плачущися о чадех своихь еллиньскым гласом», а русская сторона – «аки некаа девица единою възопи велми плачевным гласом, аки в свирель некую» (40); это прямо-таки симфоническое многоголосие.
Еще одним повествовательным отражением авторского представления о разнообразии и неожиданности жизни была фактичная детальность «Сказания». Действительно, как в таком непредсказуемом мире добиться желаемой цели, все-таки свое «хотение съвръшити» (36)? Автор взялся раскрыть этот секрет – «поведати… како сътвори Господь волю боящихся его» (25), – и показал, что свою «роль» положительные персонажи «Сказания» сотворили путем исключительной старательности в делах, ибо подобает «деати съ всякым усердиемъ» (29–30) и не поддаваться «худу разумению» (35), но искать, когда «время приспе и часъ подобный прииде» (44). Вот почему автор «Сказания» подробно повествовал о заботах Дмитрия Ивановича и русского войска: как «перебирали», «уряжали», «учреждали» «утверждали» полки и так «велми уставиша плъци по достоанию, елико где кому подобаеть стояти», что очевидцы поражались: «Несть было преже нас, ни при насъ, ни по насъ будеть таково въинство уряжено» (39); подробно автор рассказывал, как организованно двигалось войско – какими дорогами, перевозами, бродами; пояснял автор, насколько внимательно военачальники обдумывали и учитывали разные конфиденциальные свидетельства, почерпнутые у тайных советчиков, у прибывших вестников, у захваченных «языков», из «примет», знамений и видений. А потом как обстоятельно считали убитых и оставшихся в живых – для того понадобился даже специальный человек, который «расчетливъ бысть велми» (48). Столь большого свода сведений о Куликовской битве нет ни в одном из источников «Сказания»; подробности эти далеко не всегда исторически верны; их роль – больше идейно-эстетическая: «Вам подобаеть тако служыти, а мне – по достоанию похвалити вас» (47).
Несмотря на обилие косвенных отражений ощущение разнообразия и неожиданности мира не созрело в четкое умопредставление у автора «Сказания», оно как бы «сквозило» при описании чувств персонажей и в рисуемых картинах, но лишь иногда формулировалось, притом очень расплывчато – в виде кратких отсылок о непредвидимости Божьей воли: «господь же нашь Богъ… елико хощеть, тъ и творить… како Господу годе, тако и будеть» (25); «господь Богъ можеть живити и мертвити» (27); «господу Богу вся възможна» (40); «велий еси, Господи, и чюдна дела твоа суть: вечеръ въдворится плач, а заутра – радость!» (46); или о судьбе персонажа: «възнесе бо ся высоко – и до ада сшелъ еси!» (45) и т. д. Однако показательно, что этот мотив многообразия и непредопределенности Божьего выбора совершенно отсутствует в памятниках Куликовского цикла, предшествовавших «Сказанию о Мамаевом побоище»; близких литературных аналогий «Сказанию» в этом отношении, кажется, нет вообще (очень слабую аналогию составляет, пожалуй, лишь «Повесть о взятии Царь-града турками» Нестора-Искандера).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































