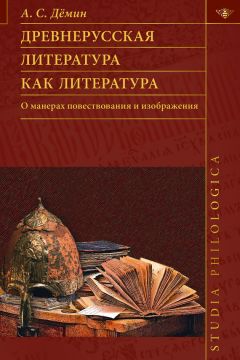
Автор книги: Анатолий Демин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)
Примечания
1 «Восточная» редакция «Повести о Еруслане» («Сказание о Уруслане») цитируется с упрощением орфографии по публикации Н. С. Тихонравова: Летописи русской литературы и древности. М., 1859. Т. 2. Отд. 2. С. 101. Далее страницы указываются в скобках.
2 См.: Демин А. С. О художественности древнерусской литературы. М., 1998. С. 411–414.
3 См. публикацию текста в кн.: Пушкарев Л. Н. Сказка о Еруслане Лазаревиче. М., 1980. С. 162–164.
4 «Похождение о храбрости Еруслона Лазаревича» цит. по изд.: ПЛДР: ХVII век. Кн. 1 / Текст повести подгот. Н. С. Демкова. С. 301. Далее страницы указываются в скобках.
Реально-бытовые детали в «Житии» протопопа Аввакума
Художественные средства древнерусской литературы изучаются, если так можно выразиться, довольно осторожно. До последнего времени исследователи проводили наблюдения преимущественно лишь над устойчивыми формулами и метафорами-символами в литературе Древней Руси, да и то работы подобного рода появлялись редко и с большими перерывами. Если, например, устойчивыми литературными сочетаниями занимался до революции А. С. Орлов1, то лишь полвека спустя к ним снова обратились А. Н. Робинсон2, Д. С. Лихачев3, а затем О. В. Творогов4. Если в начале 20-х годов древнерусские метафоры и символы исследовал В. В. Виноградов5, то лишь через двадцать с лишним лет они вновь стали объектом изучения В. П. Адриановой-Перетц6 и еще через десятилетие послужили темой статьи Д. С. Лихачева7, включенной затем в его книгу «Поэтика древнерусской литературы»8.
Названная книга Д. С. Лихачева гораздо решительнее прокладывает пути в неизведанную область изучения литературных средств Древней Руси. Д. С. Лихачев привлекает к исследованию и такие художественные средства, которые до сих пор не были известны в науке. Достаточно напомнить открытые им бинарные построения в древнерусской литературе9.
Но, конечно, нельзя объять необъятное. И поэтому интересующему нас средству – художественной детали – ни Д. С. Лихачев, ни, насколько мне известно, другие исследователи древнерусской литературы не уделяют особого внимания.
Художественная деталь, по-видимому, не без оснований выпадает из поля зрения исследователей литературы Древней Руси. Дело не в том, что пока еще не выработано общепринятого определения художественной детали10. Это было бы полбеды. Дело в том, что такие детали появляются в литературе не ранее XVII в., так что «виноватыми» оказываются не исследователи, а древнерусская литература.
Если все же предпринять изучение художественных деталей в древнерусской литературе, то лучше всего начать наблюдения с произведения, исключительно богатого яркими деталями – с «Жития» протопопа Аввакума. Так как большинство художественных деталей этого знаменитого «Жития» имеют, как кажется, реально-бытовой характер, то есть выступают в виде подробностей быта и природы, то данную работу я и посвящаю реально-бытовым деталям в «Житии» протопопа Аввакума.
Богатство «Жития» художественными деталями, конечно, относительно. Оно бросается в глаза, если сопоставлять «Житие» с другими древнерусскими произведениями. Фактически же художественных деталей у Аввакума не так уж много; они рассеяны в море реально-бытовых деталей, которые используются лишь как средство правдивого документального повествования. Отсюда неудивительно, что при сходстве ситуаций, описываемых в «Житии» и в каких-либо документах XVII в., нередко сходны и отбираемые авторами реально-бытовые детали.
Можно отметить общее сходство рассказа Аввакума о том, как в церкви на дьячка Антония напал никонианин Иван Струна: «въскочил в церковь, ухватил Антона на крылосе за бороду» (18)11 и стал бить, – и других его рассказов о нападениях никониан на правоверных около церкви, когда «пришед сонмом, до смерти задавили» (10), с явочными челобитными аналогичного содержания, например, с холмогорской челобитной 1666 г.: «…и внезапу тот дьякон Дмитрей пьян, пришел в олтарь тайно, и похватил меня, богомолца твоего нищего, рукою за бороду, а другою рукою ударил меня, богомолца твоего нищего, по лицу, да и о помост меня в олтарной бросил, и похватя меня за горло, и задавил до смерти…» (337).
Замечается общее сходство частых жалоб Аввакума в «Житии» на наготу, смрад и дым, на болезни, на то, что ноги пухнут, с жалобами, например, бывшего патриарха Никона, писавшего в 1671 г. к царю из ссылки: «и есмь ныне болен и наг, и бос; обжогся и обносился до нага; и креста на мне нет третей год; стыдно и во другую келью выйти, идеже хлебы пеку и варю, понеж многие части зазорные не покровены, и со всякия нужды келейныя и недостатков оцелженел; руки больны, левая не подымается; очи чадом и дымом выело, и есть на них бельма, и из зубов кровь идет смердящая, и есть не терпят ни горячева, ни студенова, ни кислова; ноги пухнут…» (109).
То же общее сходство наблюдается в описаниях смертей и тяжелых болезней в «Житии» Аввакума и, например, в статейном списке о смерти патриарха Иосифа, посланном в 1652 г. царем Алексеем Михайловичем Никону. «И мы со архиепископом, – пишет царь, – кликали и трясли за ручки-те, чтоб промолвил, отнюдь не говорит, толке глядит, а лихорадка-та знобит и дрожит весь, зуб о зуб бьет», «толко очами зрит на нас быстро, а не говорит, знатно то, что хочет молвит, да не сможет», «сжался двожды прытко да и отшел к господу богу» (79–81).
Общее сходство деталей «Жития» и документов может объясняться сходством самих случаев, послуживших предметом описания. Но, как бы ни объяснять подобное сходство, оно симптоматично. В документах, особенно в явочных челобитных, детали подчиняются жестким требованиям точности, правдивости изложения и выразительного выделения главного. Реально-бытовые детали «Жития» Аввакума, как бы проверяемые и подтверждаемые документами, свидетельствуют об аналогичных целях протопопа.
Документальная точность аввакумовских деталей не мешает им, однако, участвовать в создании целых картин и приобретать добавочные, уже точно не перечислимые оттенки. Свидетельствует ли это о сознательных художественных намерениях автора «Жития»? Думается, что нет. Чтобы убедиться в стихийности творчества Аввакума, обратимся к некоторым примерам.
Рассмотрим, например, рассказ Аввакума о том, как он сидел в темнице Андроньева монастыря (16). Внешне повторяется давно известная житийная ситуация: мученик после надругательства брошен в темницу, где молится в одиночестве, и вдруг перед ним является ангел. Но обратим внимание на начало рассказа. «на чепи кинули в темную полатку, – пишет Аввакум, – ушла в землю… во тме сидя, кланялся на чепи, не знаю – на восток, не знаю – на запад. Никто ко мне не приходил, токмо мыши, и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно» (в редакции Б добавлено: «сверчки кричат, и около меня ползают» – 98).
Эти детали оказываются удивительно многозначными, способными передать сразу несколько реальных признаков одиночества Аввакума: и темноту, с оживленной деятельностью ночных животных и насекомых; и тесноту «полатки», где вокруг узника ползают тараканы и пробегают никем не пугаемые мыши; и полную тишину в «земляной» темнице, не прерываемую извне ни одним человеческим голосом. Отражение этого находим в указанной реально-бытовой детали: сверчки у Аввакума не стрекочут, а «кричат». Это преувеличение, так как словом «кричать» Аввакум всегда обозначает громкие звуки, а между тем он очень точно называет звуки, издаваемые разными животными (ср.: «как поехали, лошади под ними взоржали вдруг, и коровы тут взревели, и овцы и козы заблеяли, и собаки взвыли, и сами иноземцы, что собаки, завыли» – 35. Знаменательно различие – «взвыли» и «завыли»! Или другой пример: «учала кричать и вопить, собакою лаять, и козою блекотать, и кокушкою куковать» – 79). То, что сверчки у Аввакума «кричат», указывает, по-видимому, на полную тишину, в которой он их слышал.
Подведем небольшой итог. Живо рисуя свое одиночество в темнице Андроньева монастыря, Аввакум предпочел показать это через детали, сумев выбрать выразительные и емкие по смыслу. Но если ему и удалось нарисовать картину одиночества, то вряд ли он сделал так с полным пониманием роли художественных деталей в передаче картин действительности. В «Житии» воссоздано немало картин с использованием деталей, но не наблюдается никакого, хотя бы слабо выдержанного, единообразия в использовании этого художественного средства. То деталей несколько, и все они явственно многозначны, как в примере, приведенном выше. То деталь одна, и смысл, вкладываемый в нее Аввакумом, ограничивается только одним оттенком. То деталей довольно много, но их добавочный, «недокументальный», смысл очень расплывчат, об оттенках его приходится лишь догадываться. Все это говорит о том, что Аввакум писал, «как бог на душу положит», а художественные картины в «Житии» получались в силу природного литературного таланта этого писателя.
Однако на одну закономерность, притом важную, указать все-таки можно. Речь пойдет о том общем смысловом оттенке, который реально-бытовые детали вносят в создаваемые Аввакумом картины. Значение реально-бытовых деталей в «Житии» Аввакума заключается не только в том, что они, как указывают Н. К. Гудзий и А. Н. Робинсон, «материализуют» изображаемые чудеса, делают их более «картинными» и «физически ощутимыми»; наконец, «опускают в быт» деятельность мучеников за правую веру12. Это верно, но, думается, не достаточно. Реально-бытовые детали «Жития» «вводят» не столько в быт, сколько в природу. Благодаря им природа становится постоянным фоном жизни человека. Как ни странно, эту черту «Жития» Аввакума почти не замечали, хотя важность и своеобразие ее вне всяких сомнений.
Вернемся, например, к рассмотренной картине одиночества Аввакума-узника. Она отличается от того, как обычно изображается одиночество подвижника в житиях. В житиях одинокий подвижник находится как бы в пустоте. У Аввакума же благодаря реально-бытовым деталям это одиночество в реальном мире, с его шорохами, потемками и «мышьей жизни беготней». Аввакум, вспоминая, как его в ссылке даурской, на Долгом пороге, воевода Пашков «на те горы выбивал… со зверми, и со змиями, и со птицами витать», представляет себя – через детали – словно в окружении животных, до которых почти можно дотянуться рукой: «На тех же горах гуляют звери многие дикие: козы и олени, и зубри, и лоси, и кабаны, волъки, бараны дикие, – во очию нашу, а взять нельзя!» (22).
Сходная же картина одиночества с обязательным присутствием животных в качестве художественных свидетельств об одинокости человека рисуется в рассказе Аввакума о тюрьме в Братском остроге: «Таже привезли в Брацкой острог, и кинули в студеную тюрьму… Что собачка, в соломе лежу на брюхе… караулщики по пяти человек одаль стоят. Щелка на стене была, – собачка ко мне по вся дни приходила, да поглядит на меня… и я со своею собачкою поговаривал; а человецы далече окрест меня ходят и поглядеть на тюрму не смеют» (179; ср. 24). Реально-бытовые детали отражают не только представление Аввакума о своем одиночестве в тюрьме, но, как и в ранее приведенных примерах, передают тесное окружение узника животными – на расстоянии вытянутой руки: «Мышей много было, я их скуфьею бил, – и батошка не дадут дурачки!» (24–25; ср. 179).
Но, конечно, не только в картинах одиночества можно заметить своеобразную «пейзажную» роль реально-бытовых деталей «Жития» Аввакума. Они «вводят» в природу везде, где используются; даже тогда, когда Аввакум изображает собственно быт.
Быт Аввакума беден так же, как у житийных мучеников. Например, свое зимовье у Иргень-озера Аввакум описывает следующим образом: «А я лежу под берестом наг на печи, – пишет Аввакум, – а протопопица в печи; а дети кое-где: в дождь прилучилось; одежды не стало, а зимовье каплет, – всяко мотаемся» (33). Как это характерно для Аввакума, он обязательно подчеркивает смысл приводимых деталей: «всяко мотаемся» (в редакции В добавлено: «а дети кое-где перебиваются» – 187). И действительно, детали отражают картину крайней нищеты протопопа и его семьи, «всяко мотающейся» и «перебивающейся». Это показывает еще одна деталь, которую добавляет Аввакум в приводи мом рассказе: «…а зимовье каплет, – всяко мотаемся… Я-су встал, добыл в грязи патрахель и масло священное нашел» (33). Епитрахиль в грязи! В зимовье так грязно, протопоп так беден, что нечем предохранить одеяние для церковной службы.
Правда, эта деталь, столь выразительная для нас, занимает в рассказе явно второстепенное место. Аввакум никак ее не выделяет. Более традиционная деталь о наготе – «лежу под берестом наг» – нравится ему больше; ее он поясняет: «одежды не стало»; ее он помнит еще с той поры, как писал первую челобитную царю Алексею Михайловичу: «… без обуви и без одежди, яко во иное время берестами вместо одеяния одевался» (727).
Но в целом получается, что быт Аввакума совсем не пуст, как обычно в житиях. Он наполнен вещами, которые вопиют о бедности протопопа. А реально-бытовые детали и здесь пронизывают быт природой: нагота Аввакума не мыслится вне дождя, снега, грязи, бересты и пр. О своей промокшей, замерзшей, грязной одежде Аввакум часто вспоминает в «Житии» как о наглядном результате переносимых мучений, и за этим всегда стоит реальная погода, реальная зима, реальное наводнение: «Сверху дождь и снег; а на мне на плеча накинуто кафтанишко просто; льет вода по брюху и по спине, – нужно было гораздо» (24); «Все розмыло до крохи!.. а люди-те охают, платье мое по кустам развешивая, шубы отласные и тафтяные… все с тех мест перегнило, – наги стали» (26); «…все замерзло: и безлуки на ногах замерзли, шубенко тонко, и живот озяб весь; увы, Аввакум, бедная сиротина, яко искра огня, угасает…» (233).
И вообще любая ситуация из жизни мученика за правую веру у Аввакума имеет своим фоном природу, даже мученическая смерть: «…наги кости мои псами и птицами небесными растерзаны будут и по земле влачимы; так добро и любезно мне на земле лежати и светом одеянну и небом прикрыту быти», «а по смерти нашей грешная телеса наша добро так, царю, ты придумал со властьми своими, что псом помета ти или птицам на растерзание отдати» (пятая челобитная, 761, 764). Аввакум почти с естествоиспытательской точностью наблюдает за этими «телесами» мучеников. «На Устюге пять лет безпрестанно меръз на морозе бос, бродя в одной рубашке, – вспоминает протопоп об одном из мучеников, о Федоре-юродивом, – …у церкви в полатке, – прибегал молитвы ради, – …по кирпичью тому ногами теми стукает, что коченьем!» (57). Ноги – коченья!
Чем объяснить то явление, что природа постоянно присутствует в воспоминаниях Аввакума, даже там, где она «необязательна» и «неуместна» с точки зрения житийных канонов? Конечно, Аввакуму в ссылках пришлось немало путешествовать по Сибири и по Северу, видеть столько разных мест и диких углов, сколько другие не видали за всю свою жизнь (или в какой-то степени могли повидать лишь с помощью «нечистой силы» – вспомним «Повесть о Савве Грудцыне»). Жизнь в ссылках, конечно, наложила отпечаток на сочинения Аввакума, способствуя их «насыщению» природой. И все-таки подобное «насыщение» беспрецедентно. Ведь сколько ссыльных и опальных писали до Аввакума, но почти всегда «без природы». Протопоп же Аввакум был, очевидно, в высшей степени неравнодушен к природе; она производила на него глубокое впечатление и запоминалась надолго, так что и через десять лет он мог ярко описать поразивший его пейзаж; его литературный талант имел своеобразную «природоведческую» сторону – вот то объяснение, которое можно дать аввакумовскому феномену.
И действительно, об этом свидетельствуют автобиографические признания Аввакума в «Житии». Еще задолго до ссылки, когда Аввакум был совсем молод и жил с отцом и матерью в селе Григорове, что поразило его до глубины души? Умершая скотина. «Аз же некогда видев у соседа скотину умершу, – начинает свое «Житие» Аввакум, – и той нощи, возставше, пред образом плакався доволно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть; и с тех мест обыкох по вся нощи молитися» (8).
Или другой пример особой впечатлительности Аввакума по отношению к природе. Когда ему плохо, «нужно», когда он почти теряет сознание, что остается в его памяти? Дождь и снег, вершина дерева, а иногда и сияющие звезды («…взлез на вершину дерева… толко смерть пришла. Взираю на небо и на сияющия звезды, тамо помышляю владыку, а сам и перекреститися не смогу, весь замерз» – 233). Так вспоминает Аввакум, как он замерзал в тайге.
У Аввакума в «Житии» мы находим точное различение многочисленных разновидностей животных и растений, деталей их окраски, формы и пр., – все то, что, в сущности, не нужно для житийного произведения и излишне даже для «географической» отписки (например, замечания о «перии красном» у утиц и сером у галок в Даурии или упоминание о в общем-то бесполезных «травах красных и цветных и благовонных» у Байкала – 22, 42).
Наконец, «природоведческой» особенностью литературного таланта Аввакума объясняется не только то, что именно у него в сочинениях появляются большие описания природы, но и то, что толкованиям природы он посвящает некоторые сочинения целиком (например, сочинение «О сотворении мира», толкование на книгу пророка Исайи – 510 и сл., 651 и сл.).
Любопытной особенностью «природоведческого» таланта Аввакума является следующее: писателю удается передать разнообразные пространственные оттенки окружающего мира, и в этом не последнюю роль играют реально-бытовые детали.
В «Житии» Аввакума действие разворачивается в двух основных типах художественного пространства13. Одно пространство – замкнутое как бы на расстоянии вытянутой руки протопопа. Мы уже приводили пример подобного замкнутого пространства в рассказе протопопа о заключении в темнице Андроньева монастыря. Дальнейшие события, о которых повествует протопоп, разворачиваются также на расстоянии вытянутой руки от героя. Является ангел и берет Аввакума за плечо: «…ста предо мною, – пишет протопоп, – не вем – ангел, не вем – человек… и взяв меня за плечо, с чепью к лавке привел и посадил, и лошку в руки дал, и хлебца немношко и штец дал похлебать…» (16). Примечательно, что обычно ангел менее стеснен, берет человека за руку, а не за плечо, ведет далеко и пр. (Ср. «Видение Исаии»: «и емъ мя за руку, възведе мя…» – 170.1). Затем Аввакума выводят из темницы, но он снова оказывается в замкнутом пространстве, на этот раз в тесном окружении никониан, на расстоянии их вытянутых рук, что хорошо передается такими деталями: «Сняли болшую чепь, да малую наложили. Отдали чернцу под начал, велели волочить в церковь. У церкви за волосы дерут, и под бока толкают, и за чепь торгают, и в глаза плюют» (17).
Итак, один тип пространства в «Житии» – это замкнутая темница вокруг узника или тесное кольцо никониан вокруг одинокого борца за правую веру (ср. послание Аввакума «стаду верных», где никонианское окружение вокруг «правоверного» ассоциируется с волчьей пещерой: «…а в одном хлеве и один волчищо сотню ягнят передавит. А ты только сам забредешь в их волчью пещеру, идеже жилище бесом, сиречь в никониянскую церковь, как не пропал? И играючи, волчата задавят» – 822).
Другой тип художественного пространства в «Житии» – это огромный мир, в который заброшен Аввакум. В отражении представлений Аввакума о громадных пространствах, его окружавших, важную роль играют детали тела человека, их сопоставление с объектами природы: «утес каменной, яко стена стоит, и поглядеть – заломя голову!» (22); спина и плечи человека противостоят всей массе падающего сверху дождя и снега, как бы облепляющего фигуру страдальца: «Сверху дождь и снег; а на мне на плеча накинуто кафтанишко просто; льет вода по брюху и по спине, нужно было гораздо» (24); наконец, противопоставляется вся фигурка человека бесконечной ледяной равнине озера Шакша: «…по льду зимою по озеру бежал на базлуках; там снегу не живет, морозы велики живут и льды толъсты намерзают, – блиско человека толъщины… гараздо от жажды томим, итти не могу; среди озера стало… озеро веръст с восьм» (46).
Бесконечные пространства Аввакум словно мерит распростертым телом человека, упавшего на лед: «Пять недель по лду голому… сам и протопопица брели пеши, убивающеся о лед… протопопица бедная бредет-бредет, да и повалится, – кольско гораздо!» (31). Особенно ярко это выражение бесконечности пространства через «укладывание» падающего тела человека на всем протяжении его пути видно в рассказе протопопа о том, как он возвращался домой с озера Шакши. Повторяющиеся детали – какое время прошло, сколько верст пройти осталось и как их протопоп преодолевает, таща нарту с рыбой, – хорошо передают пространственную протяженность памятной для Аввакума дороги. «…Ходил я на Шакшу-озеро к детям по рыбу, – от двора верст с пятнатцеть», – начинает с обозначения полного расстояния от озера до дому свой рассказ Аввакум. «И егда буду насреди дороги, изнемог… ночь постигла, выбился из силы, вспотел и ноги не служат. Верст с восмь до двора», – снова повторяет Аввакум сведения о времени, о сократившемся расстоянии и о падениях на дороге. И снова: «потаща гоны места, ноги задрожат, да и паду в лямке среди пути ниц лицем, что пьяной; и озябше, встав, еще попойду столко жь, и паки упаду; бился так много, блиско полуночи». И затем опять те же детали; но остается пройти уже не пятнадцать, а четыре версты, и Аввакум все падает и падает: «…опять потащил; ино нет силки; еще версты с четыре до двора… тащился с версту, да и повалился… на коленех и на руках полз с версту… опять лег». Наконец остается совсем мало: «уже двор и не само далеко… на гузне по маленьку ползу… у дверей лежу, промолвить не могу, а отворить дверей не могу же». И, наконец, завершение этих бесконечных пятнадцати верст: «по утру уже встали; уразумев протопопица втащила меня бытто мертвова в ызбу» (232–233). Как видим, Аввакум не побоялся повторения однотипных деталей: они помогли ему передать во времени и пространстве такое однообразное, трудно поддающееся образному отражению явление, как пешее передвижение. Но в его воображении жила настолько яркая картина громадного ночного пространства вокруг одинокого путника, что даже на себя он смотрел как бы сверху и видел себя червем и угасающей искрой в ночи («яко червь, исчезаю», «увы, Аввакум, бедная сиротина, яко искра огня, угасает»).
Кроме умения рисовать словами пространственные картины, «природоведческая» особенность литературного таланта Аввакума сказывается и, если можно так выразиться, в световых эффектах. Дело в том, что неземной, условный символический, свет в видениях у Аввакума представляется вполне реальным и вещественным.
В начале «Жития» протопоп рассказывает, например, о трех символических кораблях, которые он увидел в забытьи: «Вижу: пловут стройно два корабля златы, и весла на них златы, и шесты златы, и все злато…» (9). Появление в видениях предметов или существ, испускающих сияние, ослепляющих белизной и красотой, обычно. Без них не обходится почти ни одно видение, в том числе и у Аввакума. Но среди этих традиционных деталей выделяется деталь, указывающая на блеск золотых весел и шестов у двух кораблей. Если сверкают такие рабочие части, как весла и шесты, то каким новым, празднично сияющим золотом должен казаться весь корабль! И одновременно благодаря такой детали это вполне земной, реальный блеск прозаических предметов – весел, шестов… Недаром Аввакум в видении задает также вполне прозаический вопрос о том, кому принадлежат суда: «Чье корабли?» Недаром третий корабль «не златом украшен, но разными пестротами – красно, и бело, и сине, и черно, и пепелесо» (10) – вполне земная красота, не появляющаяся обычно в древнерусских видениях (ср. в «Книге бесед» Аввакума описание земли во второй день творения: «И израстиша былия прекрасная, травы цветныя разными процветении: червонныя, лазоревыя, зеленыя, белыя, голубыя и иныя многия цветы пестры и пепелесы» – 666). Хотя некоторый «райский» оттенок в этих описаниях тоже есть. Ср. описание райских птиц в «Хождении Агапия в рай»: «злато перие», «различьныими красотами и пестротами украшены» (468.1).
Сходную по функции деталь, усиливающую и сияние предмета, и предметность сияния, находим, например, в видении Анны, духовной дочери протопопа, которое Аввакум пересказывает в своем «Житии». Анна во сне попадает, очевидно, в рай, «во светлое место, зело гораздо красно», где все сверкает белизной и «неизреченною красотою сияет». Ангелы показывают ей «многие красные жилища и полаты» – уже не совсем «райская» деталь! – вводят в одну из них: «ано-де стоят столы, и на них послано бело, и блюда з брашнами стоят» (78). Неземное сияние превращается в белизну чистой скатерти на обеденном столе.
Так чуткость по отношению к природе и реальному, физически ощущаемому миру, органически свойственная Аввакуму, помогла этому писателю без особого труда отражать природу как фон, как пространство, как свет и как цветовые оттенки, не воспроизводимые под пером на бумаге без особого «природоведческого» таланта.
В этом отношении положение «Жития» в творчестве Аввакума остается своего рода загадкой, потому что неясно, как подготовлялось накопление «природоведческих» элементов в предыдущих произведениях протопопа и в предыдущих произведениях древнерусской литературы (и искусства также). Вряд ли все началось внезапно с «Жития». Однако в данной статье подобную самостоятельную тему приходится оставить в стороне: для нее необходимы новые поиски.
Реально-бытовые детали Жития позволяют поставить и другой вопрос: о месте «природоведческой» черты Аввакума в системе остальных особенностей его творчества. Пример, приводимый ниже из «Жития», помогает, пожалуй, частично наметить ответ на поставленный вопрос.
Иногда через реально-бытовую деталь Аввакума может раскрыться очень сложный характер человека. Таково, например, изображение воеводы Пашкова в «Житии». В общем, это «дивий зверь», злодей, мучитель, довольно характерный для житийного жанра. Аввакум много рассказывает о его злодействах. Вот он опять намеревается мучить Аввакума: учрежден застенок, разожжен огонь, приготовились палачи. Должны привести Аввакума на пытку, а «после огня-тово мало у него живут» (37). Аввакум в этом эпизоде сравнивает Пашкова со зверем – медведем, который хочет проглотить правоверного: «жива бы меня проглотил, да Господь не выдаст» (38). Сравнение для Аввакума не редкое. Но уже сложившееся представление о Пашкове переворачивает одна деталь. Пашков напоминает протопопу именно белого медведя, которого не раз он мог видеть на Севере: «Пашков же, возвед очи свои на меня, – слово в слово что медведь моръской белой…» (38). Это сравнение, взятое из мира природы, изображает вспоминаемую Аввакумом кудлатую седину Пашкова, которому в то время было уже около 50 или даже за 50 лет. Упоминание о седине противника, злодея совершенно необычно. Древнерусские авторы обычно отмечают седину достойных людей, святых страдальцев и т. п., начиная с «добролепных седин» Владимира в «Сказании о Борисе и Глебе» и «серебряной седины» Святослава «Слова о полку Игореве» и кончая «иконописными подлинниками» времен Аввакума. Но в этом эпизоде страдальцем выглядит Пашков. Только что вернулся из неудачного похода по Даурии его сын Еремей, раненный и чудом один оставшийся в живых из всего отряда. Пашков идет к сыну, «яко пьяной с кручины». И в кручине даже к Аввакуму обращается со вздохом: «вздохня говорит». Седина показывает стареющего, страдающего, вдруг посмиревшего человека. И окружен Пашков в этот момент смиренными людьми: кланяющимся Аввакумом, сыном Еремеем, который, как сказано в предыдущем рассказе «Жития», «разумен и добр человек: уж у него и своя седа борода, а гораздо почитает отца и боится его» (37). В том же рассказе, где упоминается седая борода пашковского сына, рассказывается, как Пашков плакал и каялся в грехах: «Сел Пашков на стул, шпагою подперся, задумався и плакать стал; а сам говорит: “согрешил окаянной…”» (36). Так подготовляется изображение в воеводе Пашкове совсем других свойств человека, другой, человеческой, стороны злодея, и реально-бытовая деталь играет здесь очень важную роль14. Но самое интересное то, что указанная реально-бытовая деталь отражает сразу две особенности литературного таланта Аввакума: и его «природоведческую» наблюдательность, и его лирический подход к человеку, даже к своему врагу.
Приведенный пример, как нам кажется, подводит к вопросу об Аввакуме-лирике. Крупный писатель, по-видимому, не может не быть лириком в той или иной степени. «Природоведческое» и лирическое начала у Аввакума тесно связаны. Достаточно вспомнить, например, лирический байкальский пейзаж в «Житии», переходящий во взволнованное рассуждение протопопа о человеке, который вместо «упокоения» всю жизнь проводит в суете, «дние его, яко сень, преходят» (42). Однако лирическая струя в творчестве Аввакума почти совершенно не исследована. Вопрос о лиричности Аввакума как об особой теме исследования до сих пор фактически даже не ставился.
Такова еще одна важная особенность Аввакума-писателя – лиричность, – к которой подводят реально-бытовые детали его «Жития».
Но кроме «природоведческой» и лирической (возможно, и психологической) сторон литературного таланта Аввакума реально-бытовые детали позволяют поставить вопрос и шире – вообще о художественных деталях в сочинениях Аввакума и в древнерусской литературе.
В порядке постановки вопроса по этой, также самостоятельной, теме можно привести следующие выборочные наблюдения.
В произведениях Аввакума, предшествующих «Житию», и в житийной литературе его времени художественные детали встречаются довольно редко. Так, в одном из самых ранних произведений, написанных Аввакумом за 11–12 лет до «Жития», в первой челобитной царю Алексею Михайловичу 1664 г., реально-бытовые детали встречаются, но не имеют художественного значения, так как используются лишь для усугубления жалоб челобитчика добавочными фактами и подробностями.
В произведениях Аввакума, написанных позднее первой челобитной, художественные детали встречаются лишь изредка. Например, в послании Андрею Плещееву Аввакум изображает никонианских глав церкви как горьких пьяниц. «Нынешних ваших пьяных апостолов исправление, которые всегда с похмелья мудрствуют», – обличает Аввакум и далее рисует целую картину: «Яко ваши нынешния, дрождями прокислые, мудрецы, трясущимися руками пишут, ползающе по земле, яко гадове» (882, 884). Эти трясущиеся руки ползающих пьяниц действительно убийственны в качестве уничижительной детали: ведь речь идет о пишущих «правые догматы». Из всех произведений Аввакума, созданных до «Жития», это место отмечено, пожалуй, самой яркой художественной деталью.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































